39. Деда Праведа последний завет
18 декабря 2015 -
Владимир Радимиров

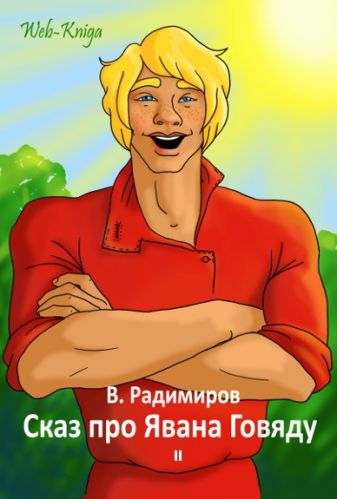
Во канаве под горой,
Богатырь лежит моло́дый
Бездыханный неживой.
Позакрыты ясны очи,
Запечатаны уста,
Нету в теле его мочи,
И ликует супостат.
Ярость пекла, гордость ада
Он от спеси отучил,
И от братьев чашу яда
Он в награду получил.
Те уехали далече,
Взяв добычею жену,
Ну а он у чёрной речки
Здесь навеки прикорнул.
Нет защитника Расее!
Тяжкий мрак на сердце лёг.
И не пашет и не сеет
В тёмных душах светлый бог.
Эх, родное Расиянье,
Солнца Красного страна!
Нынче ты на поруганье
Злобной силе отдана.
Вечер. Сумерки ночные уж сгустилися везде.
Всё зловеще. Воет ветер. Где ты, солнце? Нет нигде.
Только мрачно плещут волны чёрно-масляной воды.
Бли́снул месяц. Чу, подкралось ощущение беды.
Вновь из тучи беглой рваной месяц выглянул на миг,
и в лучах его неявных... труп Явана вдруг возник.
Он лежал, раскинув руки, без движенья на земле;
вкруг него неясны тени быстро мчалися одне;
никого в проклятом месте – нет прохожих в западне.
Где вы, люди? Гей, славяне!.. Нет ответа, ни души...
Некому в постель могилы прах героя положить.
Только страшно сыч заухал, стали волки где-то выть;
видно, тело молодое будет падалью служить...
Так и есть! Иначе как же! Вот же гады! Эка прыть!
Волки вышли из засады, стали тихо подходить.
Тянут воздух чутким носом, глаз мерцает, шерсть дрожит –
там для них, на землю брошен, мёртвый человек лежит.
Вот подходят, смотрят жадно, падает с клыков слюна...
Плоть убитого Явана им, как жертва, отдана.
И когда они хотели уж отведать сей пирог,
вдруг откуда-то ворона прилетела на пирок.
Повела стеклянным глазом, беспросветным точно ночь,
и волков голодных сразу будто ветром сдуло прочь.
Громко каркнула злодейка, прыгнула на белу грудь.
Это ж ведьма, чародейка, навья нежить, страхолюдь!..
«Наконец мы поквитались! – хрипло крикнула она. –
Тута падаль завалялась – бывший мой «дружок» Яван.
Вот и свиделись, милочек! Где же силища твоя?!
Я отведаю кусочек от мощей богатыря…
О, мне многого не надо, я хочу лишь показать,
что тебя, Яван Говяда, я сумела наказать.
Выклюю сейчас я очи, кои боле не глядят,
требуху же с телом прочим позже волки доедят.
О, великий миг отмщенья, как ты сладок, как ты мил!
Сколько ж этот отщепенец моей крови перепил!»
И, подпрыгнувши, мерзкая птица на лицо мертвеца уж садится. Острым клювом злодейка примерилась – клюнуть в глаз уж вовсю вознамерилась. И только голову отвела для удара, как вдруг выскочил откуда-то рыжий котяра. И хоть был кот старый и драный, но напал он на хищницу рьяно. Ох, кусал он её и царапал, четырьмя всеми лапами цапал! Перьев чёрных вырвал немало, а она лишь вовсю верещала. Чудом просто смерти избежала, потому что оттуда пропала.
Да появилась снова шагах в двенадцати. И давай на кота-то ругаться:
– Ах ты, несносный паршивый котище! Ободрыш проклятый! Дрянной хвостище! Чтоб ты сдох, мерзавец, околел! Чтоб ты к звёздам своим улетел! Ну, погоди – недолго тебе осталось – я и с тобой вскоре поквитаюсь!
Каркнула она громогласно да с виду и сгинула, поле боя бесславно покинула. А котяра, урча довольно, перья чуток пожевал вороньи, потом от них отплевался и за хвостом своим погнался. Да, обернувшись несколько раз, на пятом обороте или на шестом, в старичонку превратился небольшого.
Это был конечно же Правед – знаменитый в деле прави дед.
Только что это с ним случилося? Иль хвороба с дедком приключилася? И хоть действовал он отважно, но выглядел при этом неважно: движения его были неточные, члены тела явно не мощные, и власа его были растрёпаны, а одежды в грязи изварзёпаны.
– Ох, старость не радость, – пробурчал дед, за спину хватаясь. – Улетели годы мои бедовые, а старое не сменяешь на новое; чем жив ещё, не знаю – на Ра одного уповаю.
Потом к телу Яванову подошёл, прихрамывая, согнулся над ним, покряхтывая, лоб ледяной у мёртвеца потрогал сухонькой дланью и головою покачал печально.
– Эх, Ваня-Ваня! – произнёс он, сокрушаясь. – Упреждал ведь я тебя ранее, чтобы яда ты опасался. Против отравы ведь и броня небесная не помогла. Це-це-це!
Только недолго ведун расейский укоризненно сетовал.
– А-а-а! – махнул он рукой куражливо. – Чего это я разворчался? Али не знаю я, старый дурак, что не тот силён яд, что из природы взят, а тот, что из злобы получают. Ничего, авось и я напоследок сгожусь: помогу, чем могу, моему другу.
А там невдалеке палица валялась Яванова. Пошкандыбал Правед к ней, наклонился, поднял рукою вроде не сильной, и оказалась железяка Ванина для него тяжёлою-то не слишком. Осмотрел дед грозную поделку с интересом неподдельным, ладонью оружие погладил, поцеловал, чего-то пошептал, да в землю и вогнал.
В тот же миг в небесах гром пробурчал далёкий, и выбился ключ студёный из недр глубоких. А вдобавок ко всему вспыхнула пламенем жарким Смородина-река, заревела она, забушевала и светом багровым окрестности заосвещала.
Правед же времени даром не терял: зачерпнул он воды родниковой в сложенные лодочкой ладони, к лицу их поднёс и странные бормотания произнёс:
– О, благословенный, целящий, живящий вар – ты нам Ра-отца дорогой дар! Помоги Бога ради сего молодца неживого подняти! Верю, что здравая сия жива смерти оковы да сокрушит! Восстань же, богатырь Яван, для славы и чести Расиянья!
И возгласив словеса сии заветные, плеснул Правед водицу чудесную в лицо мертвецу и властно сказал:
– Вставай, Яван Говяда! Не время тебе спать – надо Родину нам спасать!
И едва лишь он клич сей промолвил, как Яван очи свои распахнул, узрел Праведа, над ним склонённого, улыбнулся и телом своим потянулся.
– Как же сладко я спал! – деду он сказал. – И какие видения дивные во сне видел! Жаль, что не упомню их никак – ну словно дым из головы они исчезают…
– Эх, Яван-Яван, – ведун старый головой покачал, – ежели бы не я да не благоволение Ра, никогда бы тебе не встать. Спать бы тебе, мой золотой, сном вечным.
– А что случилось-то, дедушка? – встревоженно Ваня сел и на Праведа пытливо посмотрел. – Вообще, где я? Где жена моя, братья родные, кони огневые? И почему сам ты выглядишь незавидно?
Не сразу Праведушка Ване ответствовал. Устало он на камень присел, чуток помолчал, а потом так витязю отвечал:
– А то, Яван, случилось, что навья сила через братьев твоих тебя отравила. Братаны же теперь в Расее – пожинают то, что посеяли, Борьяна во вражьи лапы попала, беспробудно спит, не просыпается – тебя, Ванюш, дожидается. А что насчёт моей особы касаемо, то скажу тебе прямо: долго видеть меня не чай, ибо смертушка моя стоит уже за плечами.
Встрепенулся от слов сих Яван, на ножки прянул, в лице переменился и в путь-дорожку заторопился.
– Мне срочно в Расиянье попасть надо! – молвил он голосом непреклонным. – Или я не сын Ра?! Идти мне, дедуля, пора!
А дед Ване в спешке не потакает, а с камушка встаёт, за белы ручки его берёт, улыбкой ласкает и рядышком сесть приглашает.
– Садись, – говорит, – сынок, и маленько охолони. Да слово мне молвить не возбрани... Эх-хе-хе-хе-хе! В Расиянье, Ванюша, сейчас неладно... Ну, да ты сам всё скоро увидишь, своими глазами... Сорок долгих годков прошло, как ты с родины-то ушёл, и многое в Расее-матушке переменилось – и не проя́снело, а замутилось. Правитель стране нужен ныне, и именно правитель, а не владыка – иначе, Ваня, кердык... Я-то более не жилец, выметает волна времени меня из яви, а зато ты, даст Бог, многое ещё сумеешь поправить и нашему делу помочь. Только вот сила нынче не на нашей стороне, и нужно нам сделать похитрее...
Призадумался Правед не на шутку, и так и эдак он чего-то прикидывал да мозговал, а потом духом воспрянул и сказал:
– Кажись, придумал... Коли будет на то Божья воля, – и один в поле окажется воином, и этим воином станешь ты, Яван Говяда. Задумал я кое-что с тобой произвести. Может и получится у нас, а может и не повезти. От тебя, Ванюш, то зависит.
И хотя Яван попытался у дедка задумку выведать, тот навстречу ему не пошёл и от прямого ответа ушёл.
– Ша! – сказал он, как отрезал. – Позже, Яванушка, не сейчас – у меня ещё в запасе целый час. Ежели хочешь спросить меня о чём-либо, то вопрошай, времени даром не теряй. Это наша с тобой последняя встреча – на любой вопрос я тебе отвечу.
Горько стало на душе у Явана, когда осознал он, что защитник природы белый свет покидает, поэтому воскликнул он с сожалением явным:
– Прости меня, Праведушка, что это я тебя ослабил, в ад погрузиться заставив! Виноват я, сам вишь не справился...
– Цыц! – сердито Правед на него прикрикнул. – Не твоего ума это дело. Такова была воля Ра, чтобы сын его в аду не пропал и выполнил данное ему задание. Судьба это... Уразумел?.. О важном спрашивай!
– Ну что ж, ладно. Имя твоё, дедушка, о том речет, что дана тебе сила правь ведать. А что такое правь, и зачем нужно ей следовать?
Улыбнулся, то услышав, ведун старый, очами небесными собеседника обласкал, немного помолчал и вот что сказал:
– Тут, Яванушка, накоротке объяснить будет сложно – но можно. И хоть знаю я, что в деле прави ты и сам собаку съел, но своё виденье я тебе поведаю. Хм... Правь, Ваня, в простом понимании, есть умение равновесие удерживать.
– И всё?
– Вот то-то и оно, что она есть именно всё. Не часть, не доля, не кусок – а всё целиком. Как Бог Ра...
– Да, интересно, деда, ты рассуждаешь. Всё ведь и впрямь равновесно, а то бы схлопнулось оно в ничто, и ничего бы от него боле не было.
Улыбнулся Правед.
– А помнишь, Ванюша, когда ты через провал по канату шёл к навьей избушке, то что тебе помогло в бездну не рухнуть?
– Чувство равновесие конечно, оно самое.
– Ну а если бы пьяным ты оказался, как черти эти окаянные, смог бы ты равновесие удержать?
– Хэ! Да я и трезвый чуть было в тартарары не ухнул, а пьяным бы полетел туда кверху тормашками, факт.
– Значит, ты тогда прав оказался, Яванушка, и сделал всё верно и правильно. Вот тебе ясный пример действия прави в мире явном.
– Ну да, Праведушка, согласен, так оно и есть.
– А второй пример – это когда ты дрался со своими врагами, ведь ты их всех до одного одолел, да? Значит во всех своих действиях ты делал всё равновесно и верно, а они нет, несмотря на всё их искусство изощрённое в науке брани лютой.
– Хм. Так-то оно так. Но всё, о чём ты говоришь, ограничивается делами явными. А вот выше-то как? Как с духовным светом обстоят дела?
Снова улыбнулся Правед, несмотря на то, что выглядел он неважнецки.
– Так всё же во вселенной связано, Ваня, все миры связаны в одно. А мы в яви пока находимся, и она для нас сейчас самая важная. Хотя, если честно, не высокий это мир, а грубый весьма, как бы крайний в череде небесных ступеней, окоёмица этакая.
– Ох и дураком бы я был, дедушка, если бы стал с тобой спорить, – улыбнулся и Яван деду. – Но я тут с тобой полностью согласен.
– Добро, усилок. Так вот, кроме правильности обыденных действий и простых движений, правь состоит ещё и из правдивости...
– Ну, это я знаю! – махнул рукою Яван. – Наш разум должен получать верные, а не искажённые сведения обо всём окружающем, тогда и ошибок будет гораздо меньше. А если он получает знания ложные, то и ошибок будет великое множество, и до добра это точно никого не доведёт.
– Ага, так и есть, Ваня. Но и этого мало. Правь-матушка ещё и из праведности состоит, то бишь из соблюдения общего равновесия, а не самостного лишь. Нужно научиться так себя вести, чтобы не тянуть все блага на себя, а других с носом при этом оставлять. И чтобы природу не грабить, а возделывать жизнь на планете нашей, обогащать её, облагораживать... Вот тут-то люди земные и не справляются, ибо шкурные интересы в обществах людских преобладают, а это совсем даже не праведно, Ваня. Наоборот даже.
Яван лишь головой покачал неопределённо, в задумчивости находясь лёгкой. А Правед тут руку на сердце себе положил и задышал сосредоточенно, очевидно силы последние в себе собирая.
– Да-а... – сказал с сожалением в голосе Яван. – Далеки мы от праведности, дедушка, это уж и впрямь так, не поспоришь.
– А вот скажи мне, пожалуйста, – вновь спросил он Праведа оклемавшегося, – кто такой Ра? Помнится, Черняк его владыкой жутким представлял, на самости своей свихнувшимся. Так ли это, али он врал? Я ему тогда ответил, что он этого знать не может и измышлениями глупыми занимается.
– А ты, Ваня, ответь мне сначала, хорошо ли ты себя чувствовал, когда в ничто оказался ввержен?
– Не-а...
– То-то же... А представь себе, ежели бы Ра один-одинёшенек бытиё мыкал – ладно Он себя ощущал бы али нет?
– Ясен, деда, ответ... А всё ж каков Он по-твоему?
Опять дедок ему заулыбался.
– Ра-то?.. Возможно во всей вселенской сложности его нам и не понять, а зато в главном понять ещё как можно. Во всяком случае на своём уровне понимания я его таким, Вань, представляю. Представь и ты себе: раз вселенная существует и не застывает да не гибнет, значит она к чему-то стремится, верно? А к чему стремиться Богу, если он единственный, цельный и в покое находящийся? То-то, что не к чему... Застылость некая получается. И, значит, у него должны быть две, а не одна, коренные сути: суть единства и суть множества. Вот множество и стремится к единству, отчего во вселенной существует постоянное движение, оно же время.
Тут Правед задумался на чуток, а потом пальцами щёлкнул, и в его руках гусли появились звончатые.
– А дай-ка я тебе сказочку одну спою, – предложил он Явану, – а ты посиди да послушай. Сказание даже...
И он по струнам звучным пальцами ударил и начал нараспев сказание своё сказывать:
Жило-было Божество в надпространстве,
И надвечным оно сном почивало.
Чистым Светом оно там да блистало,
И кромешней оно Тьмой расстилалось.
Но себя то Божетсво не знавало,
И не чуяло себя, не видало...
Да вот стало Божество просыпаться,
И желанием творить наполняться.
Надпространство стал ему тесновато,
И надвечность стал ему маловата.
Разделилося оно да на части,
Свет Отцом стал, ну а Тьма стала матью.
Растворился Свет во Тьме без остатка,
Да и Тьма-то во свету явной стала.
Так вселенная у нас родилася,
И заполнила собою пространство.
С быстротою родилась невидальной,
Ведь и времени тогда не бывало.
Проявился тогда Ра образ славный,
Образ Света для всего мирозданья.
Животворным Он предстал и целящим,
Благородным и собой веселящим.
Ну а Тьма ему соперницей стала,
И себя Она там Навью назвала.
Она Свет своею тьмой отрицала,
И в сознаньях малых свет порицала.
Искры Ра липучей тьмой окружались,
И тьмой тьмущею везде рассыпались.
Ничего-то они в мире не знали,
Память вышнюю они утеряли.
И велел тогда им Ра собираться,
И любовью к Свету им наполняться.
Образ Света ведь у них всех остался,
Тихим зовом он в сердцах раздавался.
Так вселенская Игра началася,
Как растворенный тот свет да собрати.
И движение в миру появилось,
В напряжении оно проявилось
Между Света да и Тьмы полюсами.
Да и время в тот же сиг там явилось,
Во вращении частиц закрутившись.
А Движенье – это к Ра притяженье,
И от Нави липкой их отторженье.
Ничего сильнее нет во вселенной,
Чем любви по доброй воле стремленье.
Только были искры Ра тьмой объяты,
И слепою темнотой спеленаты.
А кусочки светотьмы были разны,
Кто темней, а кто светлей изначально.
Так им случай повелел беспристрастный,
Чуть темней быть, или чуть быть поярче.
Только Ра своих детей не бросал-то
И неявно он их всех опекал-то.
Протянул ко всем он светлые нити,
И со всеми был на связи незримо.
Дал он волю им полнейшую в жизни,
И дороги в мире все он открыл им.
Тут настали кутерьма и шатанье,
И слипания и вновь разлипанья.
Каждый мыслил поискать себе место,
Или общество со сходным свеченьем.
И борьба тут началась, да такая,
Что весь мир взварился огненным жаром.
И стояла перед светом задача,
Одолев в бореньи тёмны преграды,
Просочившись через сети из Нави,
И став чище, чем был он вначале,
Упокоиться в Единства причале,
В нерушимости полнейшей начальной.
Чтоб опять заснуть там сном беспробудным
Аж до будущей Игры мирозданной.
Кончил дед свою песню и гусли свои волшебные Явану передал со словами:
– Ну вот, Ваня, примерно так я себе и представляю рождение и конец нашего общего мироздания. Как видишь, ничего чужого во вселенной нету, всё своё, родное, только тьмой незнания временно окутанное... А гусельцы держи, тебе они пригодятся!
Принял Яван чудо-гусли с поклоном и на плечо себе их закинул. А затем спросил:
– Значит и черти тоже по неразумию своему так подло и зло поступают, а не по изначальному своему дрянному свойству?
– Именно... Навь их в тенетах своих запутала, и кажется сим душам заблудшим, что они на особицу могут жить и для себя лишь благо творить. А так поступать-то не по-божески, вот и нет у них истого счастья, и посему мыкаются они во тьме незнания и других с пути сбивают. Только это их заблуждение временное и, крути не крути, а надлежит им к Богу когда-нибудь возвратиться. Только трудное это дело, мучительное. И разрушение для кокона гордыни может как изнутри прийти, со стороны души осознавшей, так и со стороны, как в случае с твоим в чертячьи дела вмешательством.
– А это точно единородные сути, единство и множество, или всё же разнородные?
– Несомненно однородные, Ваня, но заряженные по-разному: единство – положительно, а множество – отрицательно.
– Да уж, интересно...
– А вот Чёрный Царь, Ваня, единство и множество наверняка разнородными представлял, как бы такими извечными врагами. Отсюда я вижу Бога как сущего доброго, а черти – как злого, чужого для мира явного. Поэтому для нас, православных, Бог добр, а для них зол, и мы Бога любим как Родителя вселенского, а они его видят как захватчика и тирана. Вот и вся разница, Ванечка.
Яван усмехнулся, сорвал былинку и начал её покусывать задумчиво. А затем спросил:
– А почему тогда в мире такая борьба стоит страшная? Ну, если божественна и суть притяжения и суть движения одновременно, а?
– А это происходит из-за тьмы незнания, Ваня, из-за узости растущего сознания. Мать-тьма, этакая нулевая сущность, при размешивании с сущностью светлой, положительной, порождает отрицательное. И наоборот, ежели это касается уже Ра – его частицы, размешанные во тьме, становятся сугубо отрицательными. Всё размешивается в мире яви, и добро и зло, и ставится для частичек Ра задача найти во тьме незнания сведения о пути верном, и этот путь во времени когда-нибудь да преодолеть. Тяга-то от цельной, положительной и покойной сути Ра идёт постоянная, а вот мы, его мелкие и мельчайшие части, в сути движущегося многообразия ютящиеся, частенько цель-то главную и теряем, и начинаем впотьмах плутать. Многие из нас сохранить достигнутый уровень блага стараются, а часто и алчно его приумножить, накопить побольше запаса прочности, и становятся оттого гордецами, ограждёнными духовно в своей относительной малости, кажущейся ошибочно великой. Боятся обуяннные гордыней потерять наработанное, а оно может быть и неправильным, это наработанное, и от Ра оно может удалять... Вот тебе и борьба гордынь и самостей! Да ещё какая борьба-то, ух! Сам небось убедился...
– Да, это уж точно, убедился... Корка гордыни бывает у существ прямо броневая, и приходится страшную силу прикладывать, чтобы её разорвать.
– Ага. Вот поэтому, как мы полагаем, Ра в монолите одиночества и не пребывает. Он разом и Един и Многообразен. Таков уж Ра – се его Игра. И ради этой великой Игры Он на неисчислимое множество единичек в сути движимой яви разделился, и о величии своём бывшем каждой частице приказал забыть. А чтобы играть сей рати было не бессмысленно и не скучно, Он два сильнейших полюса, равных меж собою, в этой своей половине проявил: самый худший, условно говоря, – и самый лучший. И единственное правило Игре своей задал: худшего избегать, а лучшего достигать. Ну, или приказал тянуться своим маленьким Я к тому, что их принимает и радует. Вот это Богово правило и есть сама правь. И следуя ему, нужно стараться не падать, а если упал, то надо вставать и идти дальше.
– Да, Праведушка, интересно, очень даже...
– Только каждая единичка, Вань, в силу опыта своего частного, понимает эту правь по-разному. Ведь величие вселенское для нас, существ мелких, необозримо, ибо миров разных у Ра видимо-невидимо. Можно, по дурости и безрассудству, в такую дыру вляпаться, что не приведи Боже туда попасть. А есть, наоборот, такие места гармоничные, что нам с тобой до них расти и расти...
– Верно.
– Можно, возгордившись и чувства прави лишившись, из светлого рая в чёрный ад загреметь, – но с другой стороны не возбраняется и в неправде своей покаяться, пострадать, постараться, и обратно в рай попасть... И, к счастью нашему, любое заблуждение и отчаянье у существ вселенских преходящи и временны, а зато надежда на достижение лучшего вечна и проникновенна. Даже самые слепые души имеют в себе искорку неугасимую Ра, которая всегда может разгореться ярким пламенем, ибо если бы это было не так, то тогда сам Бог оказался бы со вселенной своей чужим и глубинно разделённым, как бы и впрямь захватчиком таким гордым, а это ведь не что иное, как вредное заблуждение злых чертей.
Но едва лишь Праведушка слова сии молвил, как ослабел он ещё более: побледнел сильно, взор его замутился, за сердце он даже схватился, и если бы Яван его не поддержал, то на землю бы деда упал.
Только это был ещё не конец – оказался дедок молодец. Носом шумно он опять подышал и опять почти прежним стал.
– Ничего-ничего, Ванюша, – смог он даже улыбнуться, – всё, что надо, я доскажу, а ты меня послушай... Так на чём бишь мы остановились? На том, что от худа к добру стремится всякий? Ага, это правда... да не вся. Путь сей по сути – горизонтальный, слева как бы направо, и ежели кто лишь ему следует, тот материального достигает, а духовного – шиш, и в деле духа он пока что малыш. Многие груды барахла нахапать можно, царства великие учредить возможно – а дух свой притом не возвысить и на волос. Ибо Правь наша сложнее: она двух направлений есть сложение, и второе направление будет потруднее, но зато первого главнее. Это снизу вверх неявное восхождение, от единички одинокой к Единице всеобщей, или от существа к сущему Богу. И то, Вань, есть жертвенная дорога. Кто осознанно по ней идёт, тот от многих благ ради Бога отказывается, необходимым лишь удовлетворяясь, и это такую силу ему даёт, что райские врата ему отворяются...
– Тогда у нас крест получается! – перебил деда Яван. – Два пути нам бытиё открывает: вверх-вниз и вперёд-назад. А давеча мне Черняк хвастался, что это их символ исконный, тёмных злых сил.
– Ты б у него ещё истину сказать попросил... Врал, конечно, вражья душа. Да иначе они не могут, ибо отступники они от божьей дороги. Одно слово – черти, и их путь ведёт к смерти.
– А ежели так, – у Явахи аж глаза загорелись, – ежели крест – наш, то может в обиход его ввести и под его знаменем народ повести? Как ты считаешь?
Покачал дед главою седою.
– Нет, – сказал он твёрдо, – нет, дорогой, неправильно ты полагаешь… Нам, православным, и ромашки полевой для сего довольно и никаких символов отвлечённых мы не признаём, ибо знаками разделения они слишком часто становятся. В душе крест правый должен находиться, а не на теле висеть или ещё где торчать... Да и крест-то ведь так, отвлечённость. Одновременно ведь в двух направлениях не попрёшь – разорвёшься. А если оба сих пути один на другой наложить, то получится как бы в гору дорога крутая. Причём спиральная... Вот по ней и ступай! Это умный, Вань, в гору не пойдёт, он пользу явную везде лишь шукает, а мудрый шкурной выгоды не мает и по трудному пути прёт, ибо видит вперёд далёко.
Приумолк тут Праведушка не надолго, дух слегка перевёл и далее речь повёл:
– Мудрым, Ваня, быть нелегко, но интересно необычайно. Мир наш ведь и един, и двойственен, и разтроён, причём одновременно... Любой из нас, православных, три сути бытия сызмальства знает. Триад всяких в мире хватает, но среди них важнейшую надо уметь различать. Творение это, Сохранение и Разрушение – так сия троица называется, ежели нашим миром она измеряется. Это как птица-тройка расейская: правая коняга – Творение, левая – Разрушение, а коренной – Сохранением называется. Вожжи тут будут и кнут – добро и худо, а возница, без сомнения, общее для всех воплощает единение. И несётся наша тройка залётная, куда Богу будет угодно! Мощной рукою ездок умелый повозкой-вселенной правит: то вправо коней Он повернёт, то влево, а то прямо... Так и правь!.. Во всех наших помыслах и поступках мы не на хотения коников лихих должны полагаться, а на волю Того, кто рулит. На Единство курс держать надлежит! И кто Единому служит, тот и прав, тот по-настоящему и рад, и в душе его, между полюсами добра и зла мятущейся, наступает покой и лад... Ну что, доволен ты моим ответом, богатырь расейский?
Не сразу ответствовал деду Яван. Подумал он сначала, а потом вот что сказал:
– Так-то оно так, дорогой Праведушка, всё правильно ты изложил в общем, – только ежели у нас дела ныне скверны, то, выходит, мы правь понимаем неверно, и, значит, вера наша сильна-то не очень, а?
– А я тебе так брякну! – выпалил дед без раздумий. – Бог у нас и впрямь-то един – да верящие в него не одинаковы. Всяк по-своему Его понимает, на свой лад. Люди по духу ведь разные: один, высокий – с вышними общается, другой, низкий – в грязи телепается, а третий и вовсе ни то ни сё – ни низок ни высок. И последние по числу-то преобладают. Они ж, Ваня, как дети малые – в деле веры не дюже удалые. Поэтому самые лучшие наши представители обязаны малых сих своим примером воспитывать. Никак нельзя сильным от слабых отрываться, в чертогах да дворцах обретаться, а можно и нужно с народом своим из одной миски хлебать, горе с ним мыкать и счастье имать. А иначе любая вера красивыми помыслами лишь ограничится, а не стоящим делом станет. Наша же православная вера, Ваня, дюже правильная. Не идеальная, конечно, ибо в несовершенном мире ничего идеального не бывает, но сильная и действенная чрезвычайно. А это потому так, что она простая, и всякой мороки заумной в ней нету – всё у всех сразу видать, в их делах и вещах. Да-а...
Правед тут вздохнул тяжко и продолжал печально:
– А вот поди ж ты – и мы не смогли устоять... Пришло, видно, времечко к худу нам повернуть, дабы лиха вдосталь хлебнуть. Тут уж ничего не поделаешь: бывает, что и зелье зело горчит, да зато хворь оно лечит, а сладкое питиё, наоборот, калечит.
– И что же будет с нашим Расияньем? – вопросил строго Ваня. – Неужели и мы не по прави жить станем, а по законам адовым? Как-то право не верится: тысячи лет мы правь славили, а тут в грязь лицом что ли ударим?
– Эх-хе-хе! – вздохнул снова Правед. – Ты, Ванюш, меня послушай, хоть и худое я возвещу. Ну да ты сдюжить-то сможешь, крылья оттого не сложишь... Да, Яван – это так! Распадётся в будущем вера единая на осколки, посечётся на секты она колкие. Забудут люди Ра... Жить станут не по прави... Правила наши исконные своевольными законами заменят. Каждый народ свой язык поимеет, а по языку и верование своё языческое, и каждый своё будет нахваливать, а чужое хаять... Сильный слабого начнёт гнуть да грабить... Все народы на сословия расслоятся, и сливки прокисшие появятся, и вонючий отстой... Сложное и мудрёное люди полюбят, а не ясное и простое... Человек человеку соперник станет и волк, и каждый к своему лишь счастьицу пойдёт, а это, в оконцовке, всегда без толку... И будет каша эта вариться не год, не два, а тысячи лет, пока люди, Ванюш, совсем почти не озвереют. Расплодится их на Земле великое множество, и делищи их перед Богом будут убожеством. Вина войн братоубийственных на совесть народную ляжет, и она, раздавленная, правду им не подскажет. Миллионы потомков наших головы сложат, борясь с себе подобными в навьем тумане. Природа-кормилица безжизненной в их представлении станет, и Ра-отца они в сторонку отставят, и хотя энергией его жертвенной пользоваться будут по-прежнему, но не дождётся он ни благодарности от злых людей, ни любви, ни слова нежного. Не сердце Ра для них лучи животворные будет с небес посылать, а обыкновенная такая звезда, кою они, как мёртвую, изучать станут... Заболеет солнышко наше красное, и каждый чих его отразится на Земле неласково... Ну а под конец сей тёмной эпохи, когда худа будет много и многим будет плохо, вздумают власть предержащие в муравейнике людском кишащем мировое государство сложить, чтобы и далее по-чертячьи тут жить. Конечно, не закваску прави исконной они в квашню сего царства замесят, а дрожжи законов туда бросят, на лжи и насилии основанных... Выделится и особая прослойка среди людишек одурманенных, жирная и жадная как пиявка – вореи окаянные. Бог у них будет чисто конкретный – Явь! В каждом без исключения народе сии воры появятся, и направят они народы к краху...
Не выдержал тут Яваха, на ноги он живо поднялся и очами аж засверкал.
– Довольно, – воскликнул он, – Дед Правед! Хватит мне слышать о всяких бедах! Ты мне лучше подскажи, как воевать с этим царством лжи? Что сделать я смогу, дабы воли не дать врагу? Вот не верю я, что всё пойдёт прахом – верю я в силу прави!
Обрадовался дедок, услышав речь Яванову, кое-как поднялся он на ноги, за белы руки Явана взял и вот что герою сказал:
– Правильно, Яванушка, что веришь в нашу победу! Не заворачиваться нужно от бед в покрывало обиды – а биться! Сколько ночи ни длиться, – а солнцу явиться на небеси! Слава Богу, останутся на Земле-матушке люди православные, и хоть другим богам они станут молиться, но православие в них не угаснет. Не станут сии человеки молчать, станут они пораповедями своими уснувшим докучать, будить их будут, щипать, искру Божью в сердцах раздувать и за дело правое радеть душою... Тяжко порой им придётся, душно, мучительно, нехорошо, – но за ними незримо сам Ра встанет, и глагол правды в сердца течь не устанет… И настанет когда-то время вновь золотое: возгорится из искры Божьей в душах костёр. Встанут тогда люди на праведный путь крепче прежнего – дождутся они солнышка вешнего!..
– А ты, Яван, – Правед тут добавил, – сию пору приблизить сможешь, ежели удастся тебе строй гнилой сковырнуть да земляков к прави вернуть. Получится у тебя эта операция – всё как надо у нас удастся. Ну а если у тебя не получится, то худо случится: люди правь позабудут и дольше во тьме сидеть будут. Так что всё, сынок, ныне в твоих руках: либо удача тебе выпадет – либо дело швах.
– Сделаю что смогу, дедушка, – просто сказал Яван. – Уж не подкачаю...
– Знаю, Яванушка, знаю, потому на тебя и уповаю. Помни, Ваня, всегда, что ты сын Ра, и покорятся тебе великие дела. А теперь... прощаться давай.
Встал Яван перед дедулей на колени, и крепко-крепко они обнялись, ибо навеки друг с другом расставались. Дед аж всхлипнул малость и слезу пустил, а затем с духом собрался и волюшку последнюю Ванюше возвестил:
– Возьми-ка, Яван Говяда, свою палицу – в другом качестве она тебе понадобится!
Ваня взял.
– А сейчас колечко твоё с пальца сними да мне его дай!
Ваня дал.
Взял старик-ведун кольцо, им Явану когда-то даренное, чего-то над ним пошептал и обратно витязю передал.
– Ну а теперь, Ванюша, я тебя в Расею перенесу, – приступил он к последнему наставлению. – Для этого ты перстенёк на левой руки мизинец наденешь. Но на то времечко, пока колечко на левой руке у тебя будет, сила богатырская из тела твоего убудет. Станешь ты наружно скоморохом, дабы пройти вернее по всем дорогам. Попадёшь ненароком в какую передрягу – не дай маху, терпи, колечко надевать на десный перст не спеши, а то раньше сроку опять Яваном обернёшься и цели нужной тогда не добьёшься... Да, вот ещё чего запомни: чтобы Борьяну оживить, нужно будет кольцо ко лбу и к сердцу ей приложить. А теперича всё... Держи свою палицу, на мизинец перстенёк надевай – и прощай!
Сделал Яван, что велел ему Правед и... будто испарился.
И едва лишь он с глаз пропал, как дедок остатние силы потерял, на земельку повалился и сознания лишился. Да тут в стороне ворона каркнула, волки вдали завыли, и эти звуки неладные деда сызнова оживили. Очнулся он, ото сна встрепенулся, в сторону леса кулачком погрозил и подобие улыбки на лице изобразил.
– Ну уж нетушки, – молвил дед. – Мои очи тебе, навье отродье, клевать не придётся, не дождёшься. И погляди напоследок, как старый Правед покинет свет белый...
Все силы в кулак он собрал, на ножки нерезвые встал, как мог приосанился, потом по направлению к мосту раскалённому заковылял, словно пьяный, и песенку тенорком притом загорланил:
На речке-е, на речке-е,
На том бережо-о-чке
Мыла-а Марусе-чка
Белы-е но-ожки.
А к ней-то, а к ней-то
Милёнок-дружо-о-чек
Вздума-л приблизи-ться
Хоть на немно-о-жко...
Вот до реки пылающей он дошкандыбал, троекратное ура вскричал и... умер, вероятно, потому что очи его остекленели, а лицо ещё более похудело. И мёртвое его тело по мосту раскалённому само собой зашагало. Да и вспыхнуло в тот же миг, будто факел, но, странное дело, не упало, а далее шествовать продолжало. До середины моста оно добрёло, всё огнём объятое, потом покачнулось, остановилось, за перила перевалилось, в пламень бушующий пало – да и пропало.
Рейтинг: 0
487 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

