37. Как братья Явановы с навью не совладали
5 декабря 2015 -
Владимир Радимиров

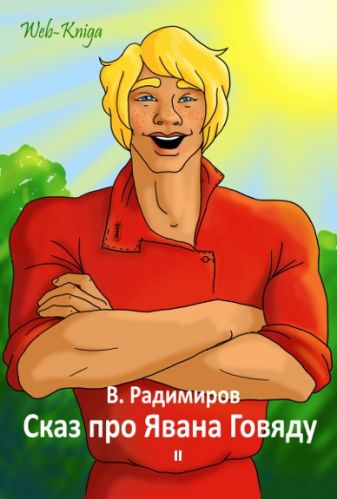
Вот иду себе, бреду и удивляюсь – а действительно ли я в аду обретаюсь? Ведь вокруг, куда ни глянь, обильные поля, богатые нивы, на пастбищах полно скотины, а на полях работников прям не счесть. Спрашиваю я их: эй, молодцы и девки, чьи, мол, поля сии широкие и стада несметные? А они мне в ответ: «Царя Счастливца Неизвестного, происхождением неместного». Я тогда: «Ну, дай бог ему здоровьица!» А они в раздражении: «Да чтоб ему на осине удавиться, или в пекло провалиться!»
Удивился я, конечно, но ничего не сказал. Далее иду себе по дороге, куда несут меня ноги. Гляжу, народишко живёт, при всём тутошнем изобилии, не дюже и богато: ютится в хатах, ходит неопрятен, работает непосильно и бедствует притом сильно. Хотя нет-нет, а среди моря хижин и острова дворцов то тут, то там попадаются, и на общем фоне те в глаза своим видом бросаются... Попросил я было в одном таком поместье водицы испить, так на меня холопы собак спустили. Насилу я утёк от лютых тварей, а то они на куски бы меня порвали.
А тут смотрю – деревенька бедненькая. Обрадовался я, думаю, здесь-то уж наверняка утолю жажду... Ага, как бы не так: в какую бы хатку я ни совался, везде получал от ворот поворот, а дважды так и по морде... Ну, думаю, уроды – и до чего же шкурный тут народ!
Пришлось мне далее хилять и в каком-то бочаге жажду утолять.
Наконец, достиг я какого-то города великого. Гляжу – ворота в нём настежь открыты, а на стенах народищу – видимо-невидимо. Все точно воды в рот набрали, молчат, не кричат, и все от мала и до велика на мою особу пялятся. Хотел было я от страху дать тягу, а потом подумал: а, была не была, где наша не пропадала – авось и я не пропаду, коль в город войду...
И только я черту ворот переступил с опаской, как вся эта орава криками дикими взорвалась и на меня кинулась стремглав. Ну, думаю, – пропал: сейчас кончать меня будут! А они подбежали и орут: «Царь, царь!..» – и давай меня качать да царём величать.
Так я и сделался в той правой стране царём. Обычай, оказывается, у них был необычный: как только их царь помирал, так они того царём выбирали, кто первый с белого света к ним заявлялся. Ушлый ты или дебил, добряк или злодей – значения никакого не имело: власть бери да рули.
А знаете, почему у них такое безразличие к способностям его величества?.. А-а, не знаете... Ну, так я вам скажу. Царская эта должность служит лишь для украшения, а по-настоящему правит царёво окружение: небольшая кучка вельмож, чинуш, богачей и прочих наглых сволочей. Вот эта-то многоголовая гидра и держит на самом деле в цепких лапах и корону и скипетр. И на сиё ненасытное чудовище весь народишко работает от зари до зари. Чё там какие-то цари! Царь ведь, как ни крути, а один, а этих хищников много. Не угодишь им в чём, так тебе одна лишь дорога: к чёртовой бабке сковырнут и другого на твоё место поставят, попокладистее. Такая перспектива кого хошь под их дуду плясать заставит.
Так что, братья, работёнка у меня была нелёгкая: паразитам алчным прислуживать да их волю народу озвучивать.
Не сразу я об этом догадался. Сначала в свою игру я играть пытался: мошенников по правде жить заставлял, мздоимцев нещадно карал, гордых да спесивых в грязи валял, а негодяям и подлецам башки отрубал... Э-э-э, да разве сподручно царю гидру сию бороть? Не более от того толку, чем хрен полоть. Ведь вместо одной отрубленной головищи тотчас другая вырастала – в точности по сути такая же.
Попытался я тогда с другого боку достичь проку – стал из народа выдвигать способных, да только и в этом деле я прогадал. Народец тутошний оказался – оторви и брось, не по правде он стремился жить, а вкривь и вкось. Чем более кто-нибудь силы да ума проявлял, тем пуще он подличал, воровал да лишку хапал. Ибо установка оказалась у всех зверская, а обоснование такого дела – изуверская.
Заместо бога у них деньги были поставлены – золото. А лозунг в том царстве был такой: «Все – за одного!» Это, значит, что все как бы за единое начало стояли. А поскольку таким началом у этих жадюг деньги являлись, то в реальной жизни получалось, что все люди на гидру ту и надрывались.
Чтобы свой кусок урвать, у большинства ни ума, ни хитрости не хватало, да шибко умнеть-то меньшинство им не давало – нарочно пасомых оно оболванивало.
От таких знаний энтузиазм у меня помаленечку и растаял. Махнул я вскоре на свои мечты рукой и, как прочие, сделался сволотой. Вот, признаюсь вам и каюсь: рассиянин я оказался скверный и гадостный. Жить я стал во как: лишь себя боготворил, козни с казнями творил, безобразил, крал и врал, что хотел себе я брал, но притом всегда и всюду волю гидры выполнял.
И словно не заметил я, как прошли в этом одурении сорок долгих лет. Старым я стал, больным, жестоким и злым. И ни друзей у меня за это время не появилось, ни любимых – никто, ну ни одна харя человека во мне не видела – только царя. Лишь один мой пёс хозяина за всё моё царствование любил, а более – ни одна собака. И хотя наушников и советников у меня вдосталь было, ни единая душа откровенно со мной не говорила – все боялись, а за глаза ненавидели меня и надо мной смеялись. Да и я холуям окружающим той же монетою отплачивал. А под конец жизни полностью моя душа, в неправде варясь, отчаялась.
И вот как-то сижу я на очередном пиру очень мрачный, хотя денёк у меня был удачный, ибо я только что двоих предателей запытал насмерть. Хлебанул я для улучшения настроения вина из бокала и – ты же гадство! – то оказалась отрава. Какой-то подлец яду мне плеснул, когда я отвернулся. Невозможной болью всё нутро мне пронзило, в очах у меня помутилось, за скатерть я схватился и, умирая, под стол покатился – да и отрубился.
Сколько времени после того прошло, не знаю, только наконец глаза я открываю, глядь – а я в той корчме опять. Под столом, как свинья, валяюсь и опять молодым являюсь. Сон ли колдовской мне приснился и сей царский образ жизни мне лишь помстился – бог о том весть, но тогда почему ожирела моя телесность? Так и не решил я сию загадку, встал, вышел да пошёл назад.
Вот, братья, и весь мой рассказ.
Удивился Яван Гордяеву повествованию и к Смиряю затем обратился: изволь, мол, и ты, братуха, потешить наше ухо. «Э-э-э! – тот рукой машет – наши, – отвечает, – тут не пляшут: мне, как и Гордиле, тоже не подфартило, хотя начиналось всё похоже...»
– Вот гряду я, значит, по дорожке, гляжу – эвона! – никак корчма? Знамо дело, обрадовался я – жарынь же. Вошёл... Первым делом заказал себе пива и на содержимое жадно накинулся; хряпнул кружку, хряпнул две – закружилось в голове. Само собой, на этом я не остановился, ещё как следует поднажал, и так я того пива нализался, что спустя времечко и лыка уже не вязал. А когда я намеревался под стол брякнуться, то, гляжу, двери открываются и некие личности в корчму заявляются. Здоровые такие парниши, курносые, в полосатых робах, как осы и, конечное дело, против меня тверёзые. Недолго думая, хватают эти паразиты меня под микитки, орут на тихоню Смиряя, бьют и поучают. «Ишь, – негодуют, –бездельник – он в рыгаловке прохлаждается, а весь трудовой народ от работы рук не покладает!» Волокут меня в какой-то сарай, там в дерюгу одевают и вдребадан пьяного вкалывать заставляют: дают лопату, кайло, тачку и пинка вдобавок под срачку.
Так и начались мои трудовые будни в державе этой леводумной. Работали мы ого-го, а питались скудно, и дни летели вяло и нудно. Чего только наши ватаги не делали: рыли канавы, траншеи, каналы, ямы, шурфы, погреба, котлованы... Строили для себя тесные бараки, а для всех – большие здания, в которых слушали всякие враки и лекции о правильном воспитании. А ещё мы в полях пахали, сеяли, пололи, урожай жали, потом в хранилищах всё это дело перебирали, сортировали, сушили да молотили... Ещё жернова мельниц крутили, животину растили, затем скот забивали, а мясо коптили и вялили...
При всём при том вездесущие воспитатели нам мозги парили: по вечерам нас всем кагалом в театры и смотровальни водили и показывали всякую чушь. К нашим услугам ещё и библиотеки были большущие с мурой о необходимости проявления геройства на благо общего жизнеустройства. Хотели было меня женить, но после проверки выявили мою ущербность как производителя и определили мою особу в разряд неполноценных.
В Бога же в этой рабской стране вовсе не верили. Вернее, у них людская толпа была навроде бога, и не просто праздная толпища, а организованно работающее скопище. Любой отдельный человечек для них был – тьфу! – шестерёнка. Или винтик, или кирпич... И повсюду висел их любимый клич: «Один – за всех!» Ну а к нему вдобавок и другие подобные плакаты, как то: «Всё и вся – для блага государства!», «Работа – от всего лекарство!», «Высшая честь – это труд!», «Жернова народной воли всё перетрут!», «Отдай всё для страны!», «Перед лицом общества все равны!» И подобные кликухи в таком же духе.
Зато лично я был там навроде мухи. Не имел, буквально сказать, ни шиша: ни земли, ни дома, ни огорода – всё захапано было руками народа. Даже одёжа и обувь и те за казённый счёт нам выдавались, пока платье на человеке не изнашивалось, а чёботы не стаптывались. Смешно сказать, братцы, а только и ложки с миской я не имел, а имел лишь право ими распоряжаться.
Жил я в закутке большого барака в тесноте, голоде и мраке. Вставали мы ни свет ни заря под дробь барабана, потом шли зарядка, умывание, одевание – и всё это не абы как, а чётко, внятно и в соответствии с распорядком. Опоздания и сачкования возбранялись совершенно, и расплата за это наступала мгновенно: кто, по мнению воспитателей, фордыбачил, тут же плёток по заду получал. Бывало, от кожи аж ошмётки летели, когда каратели покуражиться хотели на твоём теле.
Так. Далее мы ели свою кашу, потом – в виде отдыха – славицы пели народу нашему, а затем с работой нескончаемой слаживали. До самого позднего вечера. Но и вечером нас занятиями обеспечивали: самообразование, физвоспитание, культурное развитие и моральных черт привитие... Во что бы то ни стало отдельного человека с самим собой не оставляли – обязательно какое-нибудь дело в обществе прочих ему поручали.
Передвигались мы строем, а жили как насекомые – роем. Бабы отдельно от мужиков содержались, ребятня – от стариков. Никуда было не скрыться от общественных тех оков. Иные рожи до того мне обрыдли, что я чуть ли волком от их вида не выл. А деться-то от людей было некуда – кругом ни лесов, ни болот – одна лишь окультуренная среда.
Да и всеобщее единение было у нас лишь в представлении, а так, куда ни глянь, царило разъединение. Вся страна делилась на области, области на волости, волости на наряды. И народ делился на части, части на полки, полки на отряды. А отряд ещё делился на отделения. Ну а отдельный человечек был никем – средством для построения этих подразделений.
И если рассудить по большому счёту, то власть в нашем "народном" государстве вовсе даже не принадлежала народу. Всем у нас заправляла Великомудронепогрешимая Братия – сборище оголтелых нифиганеделов, которые сами ни шиша не работали, зато других умело заставляли, притом на фене своей виртуозно ботали и громче всех о правде орали.
А главным среди них Предсиде́нь считался, который из среды этой шайко-братии избирался и великими возможностями наделялся. Хотя, ежели трезво рассудить, то и он вынужден был волю избравших его исполнять раболепно, что он безусловно и делал – предан был исчадиям властным, что называется, с потрохами.
Эти наши воспитатели и командиры жили не в бараках, а в отдельных квартирах, с кухнями, ванными и сортирами. Ели они скрытно от нас, да уж пайку-то хавали получше нашей, что было нетрудно определить по их мордасам. И одёжу, гады, носили вроде бы по покрою народную, но из сукна благородного. А ещё каждому из них лошадь для передвижения полагалась, чтобы дородная командирская туша быстрее передвигалась.
Что касается простого народа, то в его недрах постоянно зрело недовольство. Ну, действительно, кому же охота быть в услужении, в бесплодном и бестолковом движении, и находиться притом в постоянном духовном изнеможении? Роптали, конечно, многие... Только таких небезгласных, несогласных и потому для властей опасных выявляли весьма скоро – стукачей же везде была целая свора. Ляпнешь чего сгоряча не к месту, а уж начальникам всё известно. Волокут тогда татей в управу, бьют там, истязают, в подвалы бросают, к позорному столбу вяжут, да в придачу поносят их всячески и разные гадости про них рассказывают. А иных и казнят в назидание прочим.
Одна у всех сверебила забота: день бы прожить да живым остаться, в трудах не изнемочь да поболе нажраться. Об остальном и мысли не было – гори ты пламенем любое дело.
В таком вот паутинном состоянии прожил я незнамо сколько лет безрадостных. Стал частенько даже похварывать, и на меня уже надзиратели подозрително поглядывали на предмет моего списания с харчевого довольствия. А после этого увозили они списанных невесть куда, и никто из них назад-то не возвращался.
И порешил я оттуда бежать. Взял и драпанул ночкой тёмной по направлению к дому – не к тому, неприветливому, а к тому, что был на белом свете.
Долгонько я бежал, аж всю-то ночку, из силы выбился и едва уже топал. А под утро гляжу – ох ты! – та ж самая корчма стоит, из которой меня в молодости увели. Ну, ноги меня сами туда и завели. Попросил я себе квасу, а корчмарь, орясина, этак грубо спрашивает: денежки, мол, у тебя имеются, хренила? А о деньгах я и позабыл – какие ещё в том краю деньги! – там ведь всё натуральное. Нету, отвечаю, а сам за кружкой тянусь машинально. Тогда этот скупердяй как хряснет меня кулаком по скуляке. Свет в очах моих помутился, под лавку я покатился и вырубился.
Не понять сколько времени прошло, а только очухмянился я, глаза открыл, оглядел себя и обмер: может, думаю, обратно я помер? К зеркалу подошёл и диву дался, ибо опять я молодым оказался, только с телесами дородными расстался. Взял я тогда худые свои ноги в руки да сломя голову понёсся прочь. Такая вот у меня, други, печальная повесть.
Выслушал Яван братьев своих несчастных, приобнял их за плечи и произнёс краткую речь:
– Эх, дорогие мои братики, заплутали вы по жизни словно лунатики. Вы направо да налево блукали, того не зная, что дороженька наша – прямая. Лишь она ведёт в бесконечность, а эти ваши загогулины в канавы лишь заруливают да на прежние круги возвращают. Идеи же прави вот что вещают: и один стой за всех, и все за одного, тогда и будет всё ого-го!
Ну да настала тут пора в путь отправляться. И решили они сделать так: Гордяй с Борьяной на кобылу усядутся, а с Яваном сядет Смирька-простак. Это чтобы пёхом им не переть изрядно. Правда, посчитали они за лучшее, во избежание несчастного случая, по небу не лететь, чтобы кто-нибудь из братьев с коняги не сверзился. Сказано – сделано: уселись попутчики, как им было велено, и помчались кони залётные во весь опор.
Смиряйка-то за ничего, смирно за Яваном сидит да по сторонам глядит, а зато Гордяй-негодяй облапил Борьяну чисто бандит, и от близости её тела аж башка у царевича забалдела. И хотя он виду не показывал, язык прикусил и как рыба молчал, но буквально за спиной у девицы приторчал. Уж больно ему жёнка Яванова понравилась... И принялась тогда в Гордяйкиной душе зависть к Явану зреть, и пока они до Смородины скакали, царский сынок прямо голову от страсти потерял.
А вскоре и огненная река на горизонте заполыхала.
Подскакали ездоки к мосту раскалённому и загляделись на пламенные потоки как зачарованные. Странные ощущения братья испытали: вроде и недавно они тут бытовали, а такое чувство в душах у них появилось, будто чуть ли не век здесь не бывали. Соскочили всадники на земельку бугряную, а Борьяна, времени не теряя, коней к реке подогнала, и стали они огненные струи в себя тянуть – огнеедами оказались!
Что ж, реку Смородину всё равно было не миновать – не могли и пекельные кони через неё перемахивать. Пришлось нашим путникам до ночи там околачиваться да остылого времени дождаться. О многом за те часы Яван с братьями побеседовал и до крайности рассказами своими их удивил, а потом вдруг нежданно-негаданно напала на него странная хандра. Принялся он по берегу слоняться, а затем на горке уселся и на потоки пламени уставился.
Тихо-тихо подошла к витязю Борьяна, обняла его за шею да и спрашивает:
– Чего, мил-друг Ванюша, пригорюнился? Отчего стал невесел? Головушку чего повесил?
– А как мне не печалиться, душа моя Бяшенька, когда думы окаянные голову мне обуяли!
– И какие это думочки, Ванечка?
– А о смертушке лютой, Бяша. Вот гляжу я на реку сию и гадаю: зачем люди на гибель обречены изначально? К чему все мечты да стремленья, когда река смерти пожрёт всё без сожаленья? Зачем суета эта невнятная, зачем борьба беспощадная, когда и правого и виноватого неумолимая смерть укрощает? Скажи, Бяша – ты знаешь?
Не сразу ответила Явану его жёнушка, состоянием мужа обеспокоенная. Сначала она подумала, а потом улыбнулась да и говорит:
– А пусть, Ваня, несовершенное горит!.. Скажи – разве можем мы, существа невечные, понять бесконечность?.. То-то, что не можем. Наступление чего-то абсолютно лучшего можно лишь предчувствовать и верить сердцем несокрушимо в святое и нерушимое. Не печалься, Ванечка – до конца мы не помрём.
Улыбнулся Яван, жёнушку за плечи обнял и в лобик её поцеловал. А потом головой встряхнул и на думы свои рукой махнул.
– А-а! – он сказал. – И чего это на меня нашло в самом деле – тужить ведь не богатырский удел. Делай, что должен – и будь что будет. Да!
И только он это сказал, как пламя речное затухать вдруг стало; чёрная вода своими струями принялась мост остуживать, и через времечко небольшое дороженька на тот берег была готова.
Взяли Яван с Борьяной коников под уздцы и на родную сторонушку их перевели. Ну и братья, коню понятно, за ними увязались, не в аду же им было оставаться... Поглядели брателлы вдоль берега, а прежний домик на том же месте стоит, только весь он покосился и черепицею выщербился. Свернули путники тотчас к нему, идут, подходят и действительно в жалком состоянии его находят. Видать, давненько в избухе никто не жил, и стихии её не пощадили.
Зашли они вчетвером в дверной проём, огляделись – ну что ж, переночевать вроде сойдёт по идее, ибо ходокам дорожным и на полу переночевать можно. К тому же воды в реке хоть залейся, а печку-каме́нь подтопи – и грейся.
Да только Борьяна ложиться с мужиками не захотела. «Пошли, – говорит она Ване, – я нам, как отдельной семье, далепортирую сюда шатёр походный, а этот сарай для нас непригодный. Да у меня до тебя, – добавляет, – и дело одно имеется».
Вышли они из дома и по направлению к мосту тронулись, поскольку там было место получше – как-никак, а горушка. А Гордяй со Смиряем ветхий стульчик разломали, в камень его побросали, высекли огня, и вскоре яркие языки пламени сухое дерево облизали, затем обвили и лица братьев осветили.
– Слышь-ка, Смирька, – обратился к брату Гордяй, – а ведь сих дровишек нам надолго не хватит. Ты это... вот чего: ступай-ка, милок, на бережок да хворосту насбирай там побольше. Ага. А я пока тут посижу да в печи поворошу.
– Счас, разбежался! – возмутился в ответ тихоня-брат. – Ты, я гляжу, на чужом горбу ехать радый. Привык у себя в правых краях кого поплоше заедать. Только я ж те не раб. Мы, из левых краёв, на бездельников робить отвычные. Мы на народ, – и он воздел палец вверх, – работать привычные! Вот так вот... Так что пошли-ка вместях – дело-то пустяк.
– Да не в силах я ныне работать! – заскулил бывший царь. – Спина у меня разламывается, прямо страсть. У-у! Ёж тебя в окорок! Видишь, чё творится?! Может это... потянул, а может где и продуло... Короче, сам иди – не могу я!..
– Не пойду!
– А кто пойдёт? Яваха что ли со своею чувихой? Хэ! Лихо...
– Да и чёрт с имя́, с дровами!
– Эка! Замёрзнем же, лихоман!
И таким макаром оба брата минут пять ещё препирались, пока в перепалке Гордяйка не победил и Смиряйку из дома не выставил. Обозвал раздосадованный Смиряй братана царской мордой, плюнул в сердцах да и вышел вон.
Выбрался он на воздух, глядит – а мгла-то порассеялась: на простор неба серп месяца выскочил и призрачным сиянием округу осветил. Пригляделся Смиряй, а Яван с Борьяной у моста стоят и вроде как меж собой калякают. Любопытство его и взяло: о чём это они, думает, рассуждают?
Вот он стороной к ним подкрался и видит, что за мостиком на холме шатерок стоит, а Борьяна Ване в это время и говорит:
– …и наказала мне Украса, чтобы я обязательно в Смородине искупалась. Так и сказала: окунись, мол, красавица, нравится это тебе или не нравится, в омут ледяной с головою, а не то останешься наполовину чертовкой... Ох, Ванюша, я сей воды и боюся: жгучая она и мертвящая – да поступить не можно иначе. Так что сейчас я обнажусь и в воду войду, а ты, друг Ванечка, побудь со мной рядышком, ибо так оно будет лучше на всякий случай.
Произнеся эти слова, разоблачилась княжна до самого до гола и осталась, как говорится, в чём мать её родила. А у лазутчика Смиряя аж башка забалдела от лицезрения её тела, и чуть было крик восторга он не исторг, да ладонью рот себе закрыть догадался.
А бедная нагая Бяшка, до невозможности сжавшись и как осиновый лист дрожа, в черномасляные воды медленно вошла, сначала по колена, потом до бёдер, и наконец по грудь – да вдруг с головой в чёртов омут и ухнула!
Но и мига не минуло, как она жидкую среду покинула: пробкой бутылочной наверх вылетела, и до того крепко дыхание у неё перехватило, что и словечка вымолвить она была не в силах. Зубы у горе-купальщицы как кастаньеты застучали, и придушенно она от адского хлада закричала.
Не могла Бяшка стрекозой над водами зависать и тут же бухнулась в реку опять. На сей раз она, словно дельфин или рыбина, из воды целиком выпрыгнула, как тигрица заревела, и едва лишь рухнула вниз сызнова, как жуткая река поглотила её тело и назад уже не отпустила – лишь пузырями поверхность вскипятила.
А уже в следующее мгновение стоявший начеку Яван кинулся в реку со рвением необыкновенным и выдрой нырнул в том месте, где его жена исчезла.
С минуту примерно его на поверхности не было – Смиряй уж подумал, что оба утопились, – да тут Ванька с Бяшей на руках вниз по течению из воды появился и прытко на берег устремился.
Выскочил он из речки чертячьей словно ошпаренный, обмершую девицу через руку наклонил, воду из лёгких её повыжал, а потом на землю жену положил, грудную клетку ей подавил и искусственное дыхание делать принялся... И, надо сказать, усилия его отчаянные в скором времени успехом увенчались: мёртвая царевна ожила, глаза прекрасные открыла и спасителя своего возблагодарила. А потом захотела она встать, да ничего у неё не получилось, поскольку падение сил у княжны приключилось.
– Ой, Ванюша, – обратилась оживлённая к радостному богатырю, – подняться чего-то не могу... Послушай – неси-ка меня в шатёр да тело мне помеси. Глядишь, члены и оживишь...
А теломеса Говяду о такой услуге просить было не надо. Жёнушку свою расслабленную на руки он вознёс и в палатку живо унёс.
Пробрался любопытный Смирька к шатру, ухом к бархату приник, чутко прислушался и вот что обнаружил: раздавались там звонкие шлепки, шуршание разминания да трение растирания – это Яван демонстрировал на Борьяне свои массажные познания. Да только через времечко эти невинные звуки подозрительно переменились: охи да ахи изнутри раздались, страстных лобзаний чмоканья послышались и ещё некие, совсем уж возмутительные звучания раздразнили Смиряевы нервные окончания. А затем шатёрчик аж ходуном весь заходил.
Крепко, очевидно, Яваха Бяшку в чувство приводил!
Не стал лазутчик нечаянный у шатра, как тать, околачиваться, кой-какого хворосту он в округе нашёл да скорёшенько назад возвертался. Дровишки зетем у печки кинул и всё, что повидал да услышал, сибариту Гордяю выложил.
Внимательно царевич братовы россказни выслушал, особенно когда тот Явахины шатровые дела живописал, желваками яро взыграл, а потом плюнул смачно и негодующе рявкнул:
– От же скотина, а!..
И едва лишь он это произнёс, как в том месте, где шлёпнулось его харковинье, что-то вдруг зашевелилось. Поглядели туда удивлённые братаны и аж скундёбились от неожиданности: вроде как здоровенная крыса там появилась... Ну да, она! Завертелась крысища серая, закружилась, стала на глазах расти, и не успели ошарашенные обалдуи и дух перевести, как она в жуткую старуху превратилась. И признали в ней донельзя поражённые братовья ту самую бабулю, которая давеча потчевала их своей дрянью. Только почему-то изменилась она сильно и впечатление собой производила разительное: одета была ныне в лохмотья, глазки у ней горели угольями, а из ощерившегося рта торчали острых зубищ колья. Да ещё левая нога оказалась у карги почему-то без мяса, сплошь костяная, поэтому старуха явно на эту ногу прихрамывала.
От ужаса невероятного волосы у братьев дыбом поднялись, до того жутейшее они испытали ощущение от ведьмы внезапного появления. А та до поры до времени никакого внимания на них не обращала, по хатке пошкандыбала, с шумом попринюхивалась, а затем к оцепеневшим людям вдруг резко посунулась и лица их жадно обнюхала, потом хохотнула, хищно поклацала волчьими своими зубами да и обратилась к ним с такими словами:
– Доброй ночки, соколики! Вот и вырвалась я снова на волю. Ох и страшно я жрать-то хочу – живьём бы вас, мерзавцев, съела! Да уж ладно – живите пока... но с условием – обтяпаете мне одно дело.
– Ка-ка-какое дело, ба-ба-бабуся? – заикаясь, вопросил Гордяй.
– Плёвое, – скривилась в усмешке карга. – Сущая ерунда...
И она, покопавшись в своих лохмотьях, вытащила на свет божий махонький мешочек.
– Вот тебе, царь Гордяй, – сказала ведьма властно, – из мор-травы порошок! А вот ещё кулёчек с сон-травою!
И положила рядом с первым мешочком такой же другой.
– Поутру, – продолжала карга, сверкнув глазами, – ты, Гордяшка, сыпанёшь первое зелье в питьё Явашке, а ты, Смиряшка, второе зелье в Борьянин чай добавишь. Да глядите у меня не перепутайте, змеи, а не то я вас обоих со всем дерьмом съем!
Мерзким каркающим смехом старуха тут разразилась, аж вся ходуном заходила, а потом веселиться перестала и такой злющей стала, что оба братана чуть в штаны не наклали. Ни один не нашёл в себе смелости, дабы хоть словечко поперёк её воли сперечить.
Увидав, что тактика сия грозная полной цели достигла, старая злыдня как бы сменила гнев на милость, рожу себе разгладила, глазищи погасила, зубищи в пасть убрала и ласково проворковала:
– Ты, Гордеюшко, как Явашку уберёшь, так женись на этой козе Борьяне – она будет тебе мною данная. Сади её сонную на коня и лети птицей в свой город. Там тебя знатный приём ждёт – на большую высоту ты, милок, вознесёшься, всяк тебя будет зреть, а ты никого, до того духом от них будешь далёко... А ты, Смиряй, не обижайся, ибо тоже великий приём испытаешь и окажешься, вместе с братом, в центре внимания. Уж что-что, а безвестность вам обоим не угрожает.
И старуха опять мордой посуровела.
– Да смотрите, твари, не оплошайте! – добавила она злобно. – Надеюсь, вы в точности выполните моё задание? Что?!.. Ну, то-то же. Я на вас, соколики, полагаюсь. До свидания пока.
И она мигом до размеров крысы ужалась, пискнула пронзительно и в угловую дыру ретировалась.
Ещё долго после ведьминого исчезновения сидели Гордяй со Смиряем точно окаменелые, а потом выхватились они с избы да кинулись в кусты и едва штаны с себя спустили, как понос их прохватил. Видимо чёртова каркадилина вредный гипноз над сими долбнями учинила.
– Ну, чё делать-то будем, Смиряха? – Гордяй брата спросил, опроставшись.
А тот, бедняга, уж и с остатками самообладания был расставшись.
– Не знаю, брат Гордяй, – плечами он пожал, – ей-богу, не знаю я...
– Ты это... вот чего, – замялся старшой корешок, – бери-ка свой кулёк да делай, чего карга велела. Ага. И глаза на меня не вылупляй – виданное ли дело с такой ведьмой тягаться! Оплошаем, так с жизнями расстанемся – сожрёт же, сволота, и не подавится!
– А может нам того... в бега вдариться, а?
– Куда?! – взъерепенился Гордяй. – От такой прожиги нигде не спрячешься, идиот ты! Везде ведь сыщет, крысища, везде найдёт-то! Найдёт да с нас с живых мясо и обдерёт!
Смиряй и так-то не дюже был смел, а от слов сих зловещих аж на зад он сел.
– Ой, браточек, ой, не могу! – завопил он обалдело. – Давай Явану расскажем всё как на духу! Может, он с ней разделается...
– Це-це-це! И придёт же в голову такая ахинея! Хэт!.. Ну расскажем ему, ну! Далее-то чё? Он нас что ли спасёт? Как это он сделает, скажи! Нянькаться с нами будет, как цыплят сторожить?.. Ага, жди! У Ваньки одна ныне забота: жену ублажить... Так что, как ни крути, а придётся нам эту парочку отравить. Что поделаешь – значит, судьба у них такая, а мы тут не при чём: мы люди малые, увы.
На том и порешили. А затем в дом они пошли, огонь посильнее разожгли и спать улеглись.
Только вот дрыхли они неважно: сучили вовсю ногами, ворочались да корчились, ибо кошмары им морочились. А посередь ночи проснулись оба в холодном поту и уж более не заснули. Ну а поутру, как назло, ещё и с погодой не повезло: тучами небо покрылось, и дождик закрапал, точно кого-то оплакивал веще. Даже пламень реки засиял как-то зловеще.
В ту минуту и Яван с женой проснулись, из шатра вышли, смеются, играют и упражнениями себя разминают. Братья к ним подошли этак вяло, а Ваня на их рожи глянул и спрашивает: «Какие-то вы помятые – не спалось что ли, ребята?» А те мнутся, плечами пожимают, в глаза не глядят да отвечают, запинаясь: угорели, мол, с углей, не иначе-де, ей-ей...
А Ванюха им: тогда не лишне будет чайку целебного попить, да силёнки подкрепить. Те, естественно, не отказываются, охотно на это дело соглашаются и в шатре Борьянином располагаются.
Вот уселись они вчетвером в шатреце том, попили-поели, поболтали о чём хотели; пора уж было и закругляться да в путь собираться. И стал тогда Гордяй волноваться, щепотку порошка в кулаке зажав – случай-то сыпануть его в чай не представился, Ванька ведь рядом сидит да поглядывает – ну как тут сыпанёшь яду... Да и Смиряй от напряжения зевает, пот утирает и зелье в руке приберегает.
И в это самое время, когда давило на души предателей стресса бремя, вдруг – карр! карр! – совсем рядом с шатром ворона закаркала.
Борьяна-то первая возле входа сидела. Подскочила она живёхонько на резвые ножки, выскочила вон и Явана зовёт в волнении. Тот тоже выходит и видит: огромная ворона поодаль на коряге сидит и чёрным оком на них глядит.
– Карга Навиха это, Яванушка! – воскликнула Бяша. – Видно, вырвалась, тварь, из капкана, куда заманила её Навьяна!
А Яваха без лишнего телепания камень немалый с земли поднимает и в оборотиху им запускает. И прямиком в цель он попал бы, если бы ворона на месте сидеть осталась! Да та-то была не дура, вверх она встрепенулась, закаркала что было мочи – и будто сгинула, сволочь.
– Хорошо ты её попугал! – Борьяна Ваню похвалила.
А тот ей:
– Зверотварей, Бяша, не уважаю, как увижу, так обижаю... А эту каргу прямо видеть не могу. Ишь, любительница нашлась строить козни – первая мастерица она по розни.
Яван ладони себе потёр, чтобы стряхнуть с них песочек, да в шатёр и потопал. И Борьяна, вестимо, за ним, за мужем-то за своим. Вошли, а там их оба брата дожидаются, сидят себе да ухмыляются. И заметно сами повеселели; сделали, змеи, что хотели, питьё отравой заправили – вот носы и позадрали.
Ну а Ваньке-то невдомёк. Рад он сделался радёшенек оттого, что родину узрит скоро. Вот на корточках он пред скатертью устраивается, кружку с чаем берёт как ни в чём не бывало и залпом её осушает.
– Эх, – восклицает, – братья, и хорошо же на родимую сторонку возвертаться! Солнышко увидим золотое, небо лазурно-голубое, поля да сады цветущие, зелёные кущи, боры да пущи... Любо сиё мне, други!.. А перво-наперво выйду я на луг нагретый – это ежели там не зима, а лето, – воздух медвяный в себя потяну и на травке разлягусь. Очень уж я по солнцу соскучился.
А Борьяна испила отравы немного, но не почуяла никакого подвоха. Воистину Навиха была колдунья крутая – не догадалась ни о чём ведунья молодая.
– А давайте, друзья дорогие, – Яван тут предложил, – споём напоследок гимн нашей Земли! Вернёмся мы скоро на Родину – так грянем же нашу народную!
Горячей всего его предложение Бяша поддержала, обрадовалась она очень, захлопала в ладоши; и братья, гады, тоже согласиться не преминули, улыбочки на хари натянули, и все вместе гимн Расиянья они грянули:
Мы люди земные!
Мы очень богаты!
У каждого сад есть,
У каждого хата.
Ещё много неба,
Ещё много моря,
Чтоб было всё лепо!
Чтоб не было горя!
О, радуйтесь, дети!
И радуйтесь, взрослые!
Радуйтесь, братья!
И радуйтесь, сёстры!
Ведь Ра своё сердце
Нам в небе зажёг,
И дара щедрее
Он сделать не мог!
Мы любим душою
Родные просторы:
Пустыни и рощи,
И горы и долы,
Озёра с кувшинками,
Ток быстрых рек,
Чтоб счастливо жил
На Земле человек!
О, радуйтесь, дети!
И радуйтесь, взрослые!
Радуйтесь, братья!
И радуйтесь, сёстры!
Ведь Ра своё сердце
Нам в небе зажёг,
И дара щедрее
Он сделать не мог!
О, Родина-Мама!
Планета родная!
Жемчужина света,
Для нас дорогая!
Ты деток своих
За ошибки прости!
Нам нужно учиться,
Нам надо расти!
О, радуйтесь, дети!
И радуйтесь, взрослые!
Радуйтесь, братья!
И радуйтесь, сёстры!
Ведь Ра своё сердце
Нам в небе зажёг,
И дара щедрее
Он сделать не мог!
Мы верной, прямою
Дорогой пойдём.
И славу обрящем,
И правду найдём.
Нам ангел – товарищ!
А чёрт нам – не брат!
Восславим же Ра
Троекратным УРА!
О, радуйтесь, дети!
И радуйтесь взрослые!
Радуйтесь, братья!
И радуйтесь, сёстры!
Ведь Ра своё сердце
Нам в небе зажёг,
И дара щедрее
Он сделать не мог!
Но едва лишь задорная эта песнь закончилась, как Яван вдруг застонал и от боли в животе скорчился. Глянул он, в полном недоумении находясь, в пытливые глаза напрягшихся братьев и всё понял в одночасье.
Обхватил он тогда судорожно могучий свой торс и с щемящим упрёком произнёс:
– Эх, что же вы натворили, братики мои милые! За что, за что вы меня отравили?!
И в тот же миг кровушка алая у него изо рта хлынула, и глаза Явановы позакрылися. Покачнулся погубленный богатырь и медленно на бок завалился.
– Яванушка!!! – пронзительно вскричала Борьяна, и как сирена на всю округу завизжала.
В неописуемой ярости находясь, рывком на ноги княжна тут поднялась, и не миновать бы вероломным братьям справедливой расправы, да вдруг воительница неумолимая закачалась, словно былинка, взор её гневных очей остекленел, остановился, стройный её стан пополам переломился, и она тихо упала рядом с телом Явана. Сон-трава волшебная мстительницу вдохновенную сморила и кару суровую над предателями неверными не допустила.
Свершилось!..
Чёрная сторона, как это часто на Земле бывает, и на сей раз верх взяла. Погиб смертью обманной витязь непобедимый Яван. Все тяготы адские он преодолел, всех ворогов усмирил, все лишения презрел, да не устоял против замыслов коварных, рукою братской направленных.
И всколыхнулась от гибели праведного богатыря сама Мать-Сыра-Земля: землетрясения разрушительные по её телу прокатилися, чистые воды грязями замутилися, а буйные ветры ураганами закрутилися... Завыли, заревели везде дикие звери, закричали, заклекотали птичьи стаи, гадов полчища зашипели да заёрзали... А люди земные загоревали, запечалились, затосковали да отчаялись, и душою как бы замёрзли.
Лишь нечисть всякая возликовала невероятно: захохотали, заухали кикиморы жуткие, забухтели, закрякали упыри ненасытные и кровожадные вурдалаки, обрадовались оборотни хищные и зубастые волкодлаки... А безбожные колдуны и ведьмы злые оставили свою осторожность и скрытность и уж открыто, твари, против Ра возроптали, и смелее стали взваривать своё зелье...
Ничего об этом духовном надломе не знали убийцы подлые. В ужасе необъяснимом от содеянного находясь, тело брата они из шатра вынесли и тут же бросили, не стали ни хоронить его, ни огню предавать.
Зато все вещички собрали предатели, коней к себе подманили, Борьяну сонную и всё барахло собранное на них взгромоздили, сами в сёдла сели, и как коршуны мерзкие на родину полетели.
Рейтинг: 0
450 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

