Трус
12 августа 2013 -
Владимир Степанищев

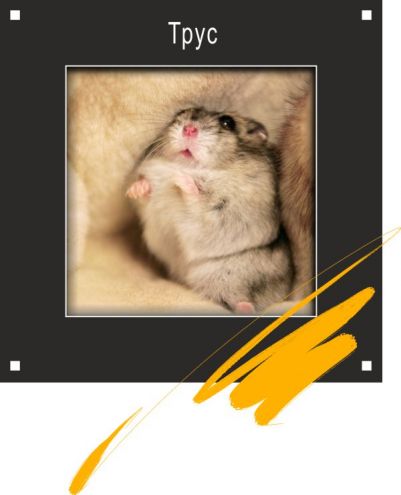
Людей истинно мужественных в природе исключительно мало. Может быть, даже их и вовсе нету, ну, в том, во всяком случае, виде, как кино нам рисует или детские наши фантазии о себе. А если вспомнить мнение Иешуа Га-Ноцри о том, что трусость, несомненно, один из самых страшных пороков, на что прокуратор возражал ему: нет, философ, это самый страшный порок, то гореть нам всем в аду, ибо вряд ли есть кто из нас, который ну ни разу не струсил в жизни.
Предвижу ваше праведное и справедливое несогласие, дорогой читатель, но дайте себе труд дойти хоть до середины – здесь немного будет - не Днепр перелететь. Когда читаешь мастеров антиномий, ну, таких как Ницше, к примеру, или Уайльд, то довольно скоро понимаешь технологию, лучше вставить здесь слово «рецепт», выдумывания парадокса: берешь устоявшееся, клишированное мнение, давно перешедшее у человечества в иконостас априорных, ставишь его с ног на голову и, взяв себе лишь толику рассудительности и воображения, водружаешь на алтарь новое утверждение с безапелляционной очевидностью. Достаточно прочесть умозаключения немца о том, что Бог умер, или англичанина, легко доказывающего, что не художник копирует природу, а природа художника, чтобы понять, что парадокс не есть обнаружение противоречия ради эпатажа или прочей какой низкой цели, а всего лишь трезвый взгляд на вещь чуть с другого ракурса, и нужна лишь некоторая смелость (или, пускай, наглость) отвергнуть любое предыдущее умозрение. Вот, скажем, все мы без ума от Чайковского, и любой «плевок» гения для нас фетиш, хоть основная аудитория и опознает на слух лишь Вальс цветов да Маленьких лебедей, но что пишет Набоков? А пишет он вот что: «Бесполезно повторять, что создатели либретто, эти зловещие личности, доверившие "Евгения Онегина" или "Пиковую даму" посредственной музыке Чайковского, преступным образом уродуют пушкинский текст: я говорю преступным, потому что это как раз тот случай, когда закон должен был бы вмешаться; раз он запрещает частному лицу клеветать на своего ближнего, то как же можно оставлять на свободе первого встречного, который бросается на творение гения, чтобы его обокрасть и добавить свое - с такой щедростью, что становится трудно представить себе что-либо более глупое, чем постановку "Евгения Онегина" или "Пиковой дамы" на сцене». М-да… Бывает, что нищий у нищего портянку украдет, а случается, что и гений гению подзатыльник, а то и пинка. Может показаться, что «посредственному», «первому встречному» (я же цитирую) Петру Ильичу досталось здесь лишь вскользь, но это если не знать, что маэстро сам прикладывал руку к либретто, а Набоков знал.
Впрочем, я тут не об этом… О чем, бишь?.. Ах, ну да – о мужестве. Мужество – неточное и даже вульгарное слово, ставящее незаслуженный знак тождества между мужественностью и мужчиной (сколько здесь, однако, «у» и «ж») по гендерному признаку. Женщина, бывает, что и чаще более мужественна, нежели мужчина, но тогда это уже оксиморон. Скажем лучше – храбрость (courage, фр.). Храбрость воспевается человеком спокон веку. Даже этот самый факт мифологизации идеи заставляет задуматься. В сказках, как правило (да думаю, что и всегда), воспевается именно такое, чего нету. Не случается на земле ни историй Золушки, ни молодильных яблок, а если вдруг жили долго и счастливо, а умерли в один день, то только исключительно посредством какой катастрофы. Не бывает на земле и беззаветной, априорной, так сказать, отваги. Нет – факты есть, и даже пачками, взять хоть Иисуса или, скажем, Александр Матросов… Я просто хочу сказать, что нету отваги в чистом виде, без эпитета, без некоторого неординарного состояния души. Есть храбрость пьяного, храбрость фанатика, храбрость стадная, храбрость безнаказанности, храбрость от инфантильного неверия в собственную смерть или от религиозной веры в вечную жизнь, храбрость «на миру», храбрость глупости, наконец… Ничего и вовсе не бывает без мотива, возразите вы? Согласен. Но ведь именно это я и утверждаю. Что героического в том, что муж отдал жизнь за жену, жена за мужа, мать за сына, а сын за мать? Это, простите, не храбрость, а, некоторым образом, простое долженствование. Не спонтанным выкриком из зала, а лишь хотя бы мгновенной мыслью проносится у вас в голове, что, мол, есть тысячи примеров, когда люди поступают ровно наоборот – не кладут жизнь за ближнего. Но тогда, будем с вами последовательными, и у трусости есть мотив; и трусости не бывает в чистом виде. Как можно объяснить, не возвеличивая попусту, храбрость, так возможно оправдать, без фарисейского пафоса, и малодушие, тем более, что личных примеров малости души своей, в отличие от прецедентов собственного мужества, у нас пруд пруди у каждого (присутствующие, исключая рассказчика, не в счет, понятно).
Давайте вспомним себя, нежные годы свои. Ну кто не мечтал о подвиге? В историях этих смешных, правда, в итоге, всегда счастливый финал и, понятно, слава, пускай и посмертная (но это редко). Теперь спрошу совсем простое: что конкретно прекрасного в сделке между тщеславием и проявлением храбрости или, напротив, что предосудительного в договоренности между трусостью и разумным прагматизмом? Хотел разделить это на два вопроса, но все же слил в одно предложение. Слышу ответ хором: в результате все дело! Ах, в результате? А что же тогда Кутузов? Это лишь один из сотен и сотен таких примеров: он дает храбрый бой, укладывая под Бородино девяносто тысяч православных душ, что, по мнению графа Толстого, жившего куда как ближе нас с вами к тем событиям, является совершеннейшей глупостью, если не предательством; но он трусливо оставляет Москву на растерзание и поругание изысканного француза, что жжет и грабит святыню для всякого русского сердца, как последний помоечник, падальщик. Результат, сказали вы? Ну да, ну да…
Не в результате дело, а в апостериорном мнении о том результате. Мнение о факте всегда главенствует над самим фактом, и несется человек по миру, раздавая эпитеты, клея ярлыки то храбрости, то трусости, мало вдаваясь в суть. Воистину, «мыслить – тяжкий труд, поэтом, всякий лишь судит» (К.Г. Юнг). А слова Набокова насчет Чайковского, это мысль или суд? Он в своем эссе лишь хотел восславить Пушкина (да рядышком и себя), но, при этом, словно слон в посудной лавке, топчет все, что под ногу, непонятно из каких юриспруденций (может, оттого, что перевел Евгения Онегина на английский?), полагая мнение свое истинным. Храбрый поступок. Или вот Философические письма Чаадаева, где он, с болью в сердце (но кому интересны его боли?), «гнобит» русскую душу и русскую историю, за что подвергнут был обструкции и определен в умалишенные? Это был храбрый поступок с его стороны или подлость?
Храбрость, это когда долго думаешь и взвешиваешь, прежде чем поступить с виду храбро или с виду подло, а на адреналине минутного мотива совершаются лишь только уже не с виду глупости, в какую одежду отваги их не ряди. Из взвешивания, однако, возникают и, так называемые «добрые намерения». Не из углубленных рассуждений, простите, а из мнений - намерения. «Мнения», «намерения»…, что-то в этих словах слышится неуверенное, недомысленное, трусливое, зато поражает и храбрость, с которой они принимаются за дело.
А что же наша трусость? Если понятие «жизнь» есть некая априорная бесценность, в смысле, главная ценность, то именно трусость, а вовсе не храбрость – основной, если не единственный инструмент выживания как человека, так и человечества. Инстинкт, тем и хорош, уникален, что действует без мотива, без мнений, намерений и рассуждений. На пути же этого благородного, по сути своей, и совершенно необходимого людского качества всегда стоит мораль выдуманная, мораль, позволяющая жить Мартыновым и Дантесам, а не Лермонтовым и Пушкиным. С другой же стороны, иногда кажется, что мораль храбрости специально изобретена мудрыми трусами как раз именно на тот крайний случай, что иначе выжить уже невозможно и, как говорит мамаша Кураж: плохи дела в том государстве, если ему приходится обращаться к солдатской доблести. Иначе говоря, храбрость – как последний рубеж, оплот трусости. Аминь.
Рейтинг: 0
628 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

