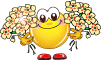мастодонт
Татьяна Сергеева
М А С Т О Д О Н Т
(Семейная хроника)
СИНОПСИС
Повесть «Мастодонт» (Семейная хроника) написана в жанре хроники – жизни одной семьи. Глава этого семейства – Соколов Алексей Петрович и его жена Зоя Васильевна принадлежат к уходящему ныне поколению - поколению уникальному, сумевшему пережить все потрясения прошлого века, происходившие в нашей стране, и при этом сохранившему себя. Человек другого поколения – их дочь Наташа, актриса, жизнь которой для её отцу-выдвиженцу и производственнику совершенно непонятна… А внук Соколовых Славка – вообще существо из другого мира. Несмотря на призывной возраст он легкомыслен и беспечен, и вручённая повестка из военкомата (действие повести относится к середине восьмидесятых годов – это призыв в Афганистан), вносит серьёзное напряжение в семью…
Основное действие повести захватывает последние месяцы жизни Соколова, но его жизненный путь – приют для сирот в голодные двадцатые годы, страстное желание учиться, арест в тридцать седьмом, освобождение перед самой войной, и самозабвенная преданность делу – постепенно будет открываться в процессе повествования. По своей должности крупного руководителя и учёного он ездит и летает по всему Советскому Союзу. Принципиальный и бескомпромиссный, не признающий авторитетов, требовательный до беспощадности даже к своим старым друзьям и родным, он в тоже время наивен и беспомощен в обычной жизни, которую совершенно не знает…
Т. Сергеева
Уходящему поколению посвящается.
Господи, когда же это было?!
Тогда стояла такая ветряная и стылая зима, что, казалось, она теперь будет тянуться вечно, и никогда больше не выглянет солнце, не вспыхнет яркой зеленью трава, не заголубеет высокое небо.
Над сельской околицей пронзительно каркали голодные вороны. В тесной, но тёплой конюшне фыркали лошади, пар медленно растворялся над их ноздрями.
А в углу на куче истлевшей соломы сидели трое детей - старшая девочка лет пятнадцати, мальчик - подросток и младший - их двухлетний братишка.
Звякнул колоколец, заскрипели полозья. Снаружи послышались негромкие мужские голоса. Девочка невольно прижала малыша к себе. Вошли двое: старик-околоточный и хозяин конюшни.
-Ночью сбежала, чертова кукла… - басил в густую бороду хозяин. - Детей в конюшне бросила и сбежала…
Девочка тихо заплакала. Околоточный сочувственно положил руку ей на плечо.
- Откуда вы?
- Из Горелово… Это недалёко от Рязани…
Околоточный сокрушённо покачал головой.
- Ишь ты, сколько протопали… Куда шли-то?
- В Туркестан… Маманька хотела стрелочницей на станцию… Говорила, там с хлебом легче…
-А вас-то… чего же?
-Не знаю, - всхлипнула девочка. - Мы не слышали... Мы спали…
- Ну, а батька-то ваш где? – не отставал околоточный.
- На войне убили… Сосед без ноги вернулся, сам видел, они вместе были…
- Старших-то, шут с ними, оставлю у себя, - вслух размышлял хозяин. - К делу приставлю, задарма хлеб есть не будут, не дам… А вот с этим доходягой что делать? Вона, какой тощий… Того и гляди, Богу душу отдаст… Не поднять мне его… У меня своих пятеро, все каши просят…
- Ладно, - кивнул околоточный, - отвезу в город, сдам в приют… Да не реви ты! - Совсем не сердито прикрикнул он на девочку. - Приют в городе на площади, у церкви. По праздникам навещать его сможете. А вырастешь, - заберёшь его, коли пожелаешь. Бог даст, живой останется… А пока хозяина благодари, что побираться не отправил. Ну, пошли, малый, - он протянул руку малышу, но тот не шевельнулся, только смотрел на него большими испуганными глазами.
- Не может он, - хрипло сказала девочка. - Ноги от голода не идут. Мы с маманькой его в очередь несли…
- Вот горе-то горькое, - вздохнул околоточный. - Вот она что, проклятая война с германцем понаделала… Матери своих детей помирать бросают…
Он подхватил лёгонького ребёнка на руки, запахнул его в полу своего тулупа, сел в скрипучие сани. Возница натянул поводья, опять негромко звякнул колоколец, и две старые лошади закивали головами, пристраивая шаг. Стая ворон с громким криком взмыла вверх, закружилась над удалявшимися от хутора санями и над старой конюшней, у ворот которой стоял невесёлый хозяин…
Шёл второй год Мировой войны.
В больнице для особо важных персон было тихо. Немногочисленные больные сидели в холле у телевизора, не спеша прогуливались по коридору, с грустью выглядывая на улицу через блестящие намытые окна. Пол в коридоре тоже был намыт и блестел, как зеркальный. Чистенькая аккуратная старушка -санитарка домывала пол в туалете.
Из приоткрытой двери операционной доносились негромкие голоса. Операций не было, и в двух операционных залах стояла торжественная хрустальная тишина.
Голоса доносились из подсобного помещения, где две молодые операционные сестрички под руководством своей начальницы, внешним видом и манерами похожей скорее на барменшу, чем на Старшую медсестру операционной, занимались вполне мирным делом - крутили из бинтов « шарики» - марлевые тампончики, которыми пользуются хирурги во время операций и перевязок. Сколько самых сложных и хитрых изобретений создало человечество, но пока нет такого приспособления, которое заменило бы руки медсестры в деле верчения «шариков»! Женщины заполняли ими огромный бикс давно, он был почти полон маленьких, белых комочков, без которых трудно представить стол операционной сестры.
- Ну, хватит… - Сказала Старшая и величественно поднялась.- Где Вячеслав?
- У себя в кабинете…- ответила одна из девушек. - Читает.
- Читает…- Иронически повторила Старшая.
- А что ему делать? - Подхватила вторая сестричка. - Всё равно в армию идти… Я его понимаю…
- Ладно, адвокаты…
Старшая подхватила бикс с тампонами, плотно закрыла его крышку на защёлку и вышла в коридор. Двери в операционные залы были приоткрыты, она по привычке заглянула в один, потом в другой… Осталась вполне довольна увиденным, но вдруг услышала какой-то посторонний шум и напряглась. Внимательно оглядела окна, стены, и на потолке увидела то, что искала. Огромная синяя муха - прощальный привет осени, назойливо зудела под самой бестеневой лампой над операционным столом. Старшая резко захлопнула дверь ногой и рявкнула, как истинная барменша.
- Вячеслав!
В санитарской каптёрке, заставленной уборочным инвентарём, всякими чистыми, чистыми! вёдрами, швабрами, тазами и заваленной почти стерильной ветошью, на узком топчане сладко спал санитар. Он не слышал зычного голоса своей начальницы, раскрытая книжка валялась на полу, и сон его был беспечен, как у младенца.
- Слава! - Ещё раз рявкнула барменша над его ухом.
Славка вздрогнул и проснулся. Он сел, не спеша потянулся и совершенно искренне улыбнулся Старшей.
- Всю жизнь проспишь, - нисколько не смягчившись, загудела она.
- А что делать- то? - Уставился он на неё, вскинув взлохмаченную голову. - Если бы какое-то дело было…
У Славы со Старшей медсестрой отношения были странные: это была особая любовь-ненависть, которая посещала их достаточно хаотично и, как правило, не совпадала по градусам. Этим летом Славка с грохотом провалил экзамены в медицинский институт, и, в ожидании армейского призыва санитарил в больнице для привилегированных, куда был пристроен, естественно, по блату, другом своего деда- академика, таким же академиком.
- Тебе бы санитаром в обычную городскую больницу, которая дежурит по «Скорой»… Вертелся бы ужом круглые сутки…- Сейчас она ненавидела его за лень и безделье.
Старшая стояла над Славкой, уперев руки в бока - настоящая барменша. Галина Сергеевна Ушакова была, как говорится, « молодой пенсионеркой». Ещё в сорок первом закончила срочные курсы медсестёр, всю блокаду пятнадцатилетней девчонкой проработала в одной из городских больниц. Была она сиротой, тощим заморышем-цыплёнком, но именно больница спасла её от голодной смерти в осаждённом Ленинграде. Сводку об умерших больных сестры задерживали. Умерших было много, а жидкая похлёбка из больничного пищеблока, которую язык не поворачивался назвать супом, поступала исправно… Потом Галя долго лечилась от истощения, очевидно, что-то случилось с гормонами, после войны она вдруг раздалась во все стороны, выросла и растолстела. Пожалуй, лет двадцать работала она в этой больнице - сначала дежурной операционной сестрой, а с годами она дослужилась и до Старшей.
- А я что, в операционный день не верчусь? - Славка начинал злиться.
Упрекать его было не за что: оперировали в этой больнице только плановых больных и всего два раза в неделю. Но операции во вторник и в четверг проходили сразу в обеих операционных, и Славка, действительно, вертелся. Приходилось не только быстро убирать залы между операциями, подавать чистые наборы инструментов, обрабатывать и мыть грязные скальпели, крючки и пинцеты, но ещё и бегать в гистологию с операционным материалом.
- Конечно, в городской больнице веселей, чем в этом паноптикуме…- Сказал он, поднимаясь с топчана.
- В чём, в чём? - Подозрительно посмотрела на него Старшая.
- Паноптикум - это коллекция восковых фигур, например… Ну, кунсткамера почти…
- Умник какой! - Только и сказала барменша. - Сюда иди…
Она завела его в операционную и ткнула в потолок толстым коротким пальцем.
- Вот…
Славка почти прислонился лицом к этому пальцу. Мысленно провёл вектор от его кончика к потолку и ничего не увидел.
- Что «вот»?
Муха, предчувствуя недоброе, сидела тихо и неподвижно.
- Муха.- Грозно произнесла Старшая.
Санитар посмотрел ещё раз и согласился.
- Теперь вижу. Ну, и что?
- В операционной мух не должно быть никогда! Ты понимаешь, что это значит - муха в операционной?! Я сейчас уйду, а ты здесь закроешься и эту муху ликвидируешь. Понял?
- Теперь понял…
- Приступай.
Барменша ушла и вскоре вернулась к своим медсёстрам с очередным пустым биксом. Села напротив них, и работа снова закипела.
- Сколько у нас операций завтра, Галина Сергеевна?
- Две… Одна большая - резекция желудка…
- Всё равно это очень мало…- Одна из девушек особенно быстро вертела «шарики».- У нас в третьей больнице за сутки и до десяти операций набегало…
- Что-то я не вижу, чтобы ты обратно спешила…
- Конечно…- Нисколько не обиделась девушка.- Разве там такие условия для работы, как здесь… И зарплата, считай, в два раза выше…
Что-то грохнуло рядом в операционной, зазвенели инструменты.
- Что такое? - Вскочили девушки.
- Ничего страшного, - вздохнула Старшая.- Это Вячеслав ловит муху…
- Он опрокинул перевязочный стол! Придётся опять стерилизовать инструменты…
- Сиди! - Прикрикнула барменша . - Сам и простерилизует. У нас что, не хватает наборов?
Вошёл взмыленный Славка. Он был зол - на муху, на Старшую, на себя. Муха была повержена, и он торжественно нёс её за крыло. Подчёркнуто осторожно он положил её трупик на стол между сёстрами, повернулся на каблуках, быстро прошёл в свою каптёрку, захлопнул дверь и звонко защёлкнул задвижку.
Когда через полчаса медсёстры сели за стол обедать - обычный обед закрытой больницы, Галина Сергеевна зычно крикнула.
- Вячеслав! Обедать!
Ответа не последовало.
Она грузно поднялась и пошла в каптёрку. На удивление дверь была приоткрыта, Славка лежал на спине, закинув руки за голову и с ненавистью смотрел в потолок.
Барменша подняла его за воротник и посадила.
- Марш обедать!
Теперь она его любила. И даже сочувствовала ему.
Она, было, потянула его за шиворот, но Славка освободился, дёрнув плечом.
- Я сам!
И, гордо вскинув плечи, отправился обедать.
Самое обыкновенное утро начиналось, как всегда.
Алексей Петрович громко включил радио на кухне - исполняли гимн. Он проверил настенные часы, свои наручные, лежавшие на столе, - на всех было шесть часов. Ещё один приёмник был подвешен в ванной над умывальником. Чтобы перекрыть шум воды из крана, так же громко пришлось включить и этот. Старик, не спеша, брился, громко фыркал, умываясь, шумно шаркал ногами, переходя из ванной в кухню и обратно, звучно кашлял и сморкался - столько неловкого шума всегда производят люди плохо себя слышащие: к Алексею Петровичу всё ощутимее подбиралась глухота…
Его внук, Славка, заворочался в постели: шум, создаваемый дедом, разбудил даже его. Он поднял голову и посмотрел на свои часы: шесть сорок пять… Рыжий кот прыгнул на постель и спокойно пошёл по Славкиной спине. Славка недовольно поморщился.
- Расходился тут… « Ни сна, ни отдыха измученной душе…». Дай поспать.
Он сбросил кота на пол и зарылся под одеяло с головой.
Из своей комнаты вышла дочь Алексея Петровича Наташа, мать Славки, заспанная и сердитая. Убрала звук в одном приёмнике, потом в другом.
- Папа, можно, хоть немного, потише… Воскресенье всё-таки…
Наташа ушла к себе, плотно прикрыв дверь. Всё также шаркая, Алексей Петрович собирался на работу. Он ходил из конца в конец длинного коридора (когда-то в этой квартире была коммуналка с бесчисленным количеством комнат), заходил в свой кабинет, потом вновь возвращался в кухню, пил, громко прихлёбывая, горячий чай…
- Бам-с! - Наконец, звонко хлопнула входная дверь.
Славка резко сбросил одеяло и сел в постели. Но, окончательно проснувшись, лениво повалился опять на подушку.
На кухне у окна стояла Зоя Васильевна, его бабушка. Она видела, как вышел из парадной Алексей Петрович, как он прошёл мимо трамвайной остановки к большому зданию наискосок от своего дома и скрылся в проходной. Зоя Васильевна прожила с мужем неполных пятьдесят лет, и последние тридцать каждый день провожала его взглядом до проходной. О чём она думала в эти минуты, что вспоминала? Может быть, себя молодую? Работала на Дальнем-Дальнем Востоке на комбинате совсем юная лаборантка, девчушка ловкая, быстрая, смышлёная… Вступила в комсомольскую ячейку, с удовольствием и интересом училась, хваталась за всё новое, читала запоем всё подряд… А потом приехал на их комбинат молодой инженер. Вернее, приехали два инженера, два верных друга, но она сразу выделила одного - с пышной шевелюрой и романтическим блеском в глазах. Они только что окончили институт, комсомольский задор и самоуверенность делали их необыкновенно привлекательными для местных девушек. На всём Дальнем Востоке в то время, вряд ли, можно было насчитать десяток инженеров, да и то это были иностранные специалисты… Вскоре Алексей стал командовать комсомольской ячейкой, новые идеи, замыслы, проекты сыпались из него как из рога изобилия… Он умел заразить ими весь комбинат от дирекции до лаборанток, в числе которых была и Зоя… В те далёкие годы их общей юности и теперь смыслом его жизни была работа. В любой день недели в семь утра он уходил вот так в свой институт, в котором директорствовал скоро тридцать лет. Пока тихо и пусто было в коридорах и лабораториях его НИИ, который был для него не вторым - первым домом, он мог заняться собственными делами. Читал и разбирал почту, отвечал на письма, готовил свои статьи, редактировал чужие. Потом начиналась текучка - совещания, доклады заведующих отделами, приём делегаций, звонки, пленумы, выступления. При этом он успевал во всё вникать, всем интересоваться. Он знал, чем занят его самый младший по возрасту и должности сотрудник, какая реакция должна пойти сегодня на испытательном стенде, и почему опять сорвался выпуск нового маргарина на масложиркомбинате…
В два часа дня он шёл домой обедать. И Зоя Васильевна встречала его горячим борщом со сметаной и вкусными котлетами, которые такими сочными получались только у неё… За годы директорства, Соколов дважды менял квартиру. Но для удачного выбора был только один критерий - близость к работе. Зоя Васильевна сколько угодно могла обижаться - он не слышал её. Самой удачной квартирой оказалась та, из окон которой была видна проходная института…
Кончался рабочий день, но директор и не думал идти домой: он разбирал труды диссертантов из самых отдалённых мест, встречался со своими аспирантами, обсуждал с ними новые идеи, собственные проекты. В это время к нему приходили сотрудники со своими личными проблемами и бедами, кто-то жаловался на своих коллег или начальников, кто-то просил материальную помощь или внеочередной отпуск… Он был внимателен ко всем, но прям и резок в суждениях, и потому недоброжелателей у него было значительно больше, чем друзей.
Возвращался Алексей Петрович в девять часов вечера. Слушал ( смотрел) «Новости» по телевизору, читал газеты, прежде всего свою любимую «Правду», и обессиленый засыпал до утра.
Снова хлопнула входная дверь. Это Зоя Васильевна ушла в магазин. И почти тотчас же Славка услышал хорошо поставленный голос матери:
- Хэлло, шеф! Если ты хочешь, чтобы я тебе приготовила завтрак и сама вымыла за тобой посуду - сейчас же вставай!
Славка, конечно, этого хотел и быстро вскочил. Сделав несколько символических приседаний, с согнутыми коленями, гусариком прошёл по всему коридору в ванную.
- Мама! - крикнул он оттуда, создавая видимость радости от общения с водой, - давай деду слуховой аппарат купим!
- Давай, - спокойно согласилась Наташа, не отрываясь от плиты. - Только носить его бабушка будет…
Они завтракали, пили кофе.
- Что у нас за дом такой? Воскресенья от буднего дня не отличить. У тебя, когда репетиция?
Наташа взглянула на часы.
- Минут через пятнадцать надо выходить…
- Вечные труженики… Угораздило меня в таком доме родиться!
- Бедный! Зато у тебя вся неделя - сплошное воскресенье…
- Ма! Ты ко мне несправедлива. Я работаю.
- Работаешь, работаешь…
Славка вдруг посерьёзнел и мрачно произнёс.
- Честно говоря, я давно хотел тебе сказать… Не могу я больше… И зачем Дмитрий Павлович меня в эту долбанную больницу устроил!
-Она не «долбанная», а самая лучшая больница в городе…
- Ага… «Полы паркетные, врачи анкетные»… Я хочу уволиться…
- Уволишься. Как только получишь повестку, так и уволишься…
- Мам… - Славка пристально заглянул матери в глаза.- А если меня в Афган пошлют, ты будешь плакать?
- Упаси Господь! - Наташа перекрестилась. Как все творческие люди, она была суеверна. - Я даже думать об этом не хочу!
- Ма, - обречённо вздохнул Славка. - Ты как ребёнок…
Вскоре и за матерью захлопнулась дверь. Славка, вспомнив о неубранной постели, поплелся было в свою комнату, но раздался резкий звонок у входной двери, и он вернулся в прихожую.
На пороге стояла пожилая женщина.
- Воронов Вячеслав Вы будете?
- Я…
- Вам повестка из военкомата… Распишитесь вот здесь…
Славка расписался.
- А я Вас так ждал, так ждал!..
Женщина ушла, а он стал внимательно изучать повестку. Посмотрел сквозь неё на свет, попробовал на зуб.
- Явиться восемнадцатого… Вещмешок… Кружка… Ложка… Восемнадцатого… Это когда? Через три недели…
Он быстро прошёл в комнату, кое-как затолкал постель в шкаф, вернулся в прихожую к телефону и быстро набрал знакомый номер.
- Простите, когда будет перерыв в репетиции, не скажете? Без перерыва? Очень жаль… Извините…
Через несколько минут он шагал по улице тем же путём, которым утром шёл его дед: миновав трамвайную остановку, он остановился у запертой проходной, позвонил в звонок у двери. В окошечко выглянул старый вахтёр. Славку здесь знали.
- А… это ты…
Окошечко захлопнулось. Отворилась тяжёлая дверь, пропуская его внутрь.
В гулком длинном лабораторном корпусе стояла воскресная тишина. В коридоре был полумрак, рассеянный свет с трудом пробивался через матовые двери лабораторий. Славка вошёл в пустую Приёмную и постучал в дверь, на которой висела табличка « Директор института Соколов Алексей Петрович». Она оказалась запертой.
Внук директора рос как «сын полка»: уходя в магазин, бабушка частенько оставляла его поиграть во дворе института, где был большой сквер. Славка любил здесь оставаться. Пользуясь отсутствием бдительности со стороны сторожей, он легко залезал на старую развесистую яблоню и подолгу сидел на толстом, крепком суке, наблюдая за деловой жизнью институтского двора. Когда Вячеслав стал школьником, потихоньку от деда по выходным он стал приводить в институтский двор своих друзей. Вот это была игра! Они бегали с пацанами по крышам складов и гаража, подолгу висели на ещё деревянном в те далёкие времена заборе, разглядывая сверху прохожих на улице, но пещерой Алладина была для них помойка. Вот где были настоящие сокровища! Слегка надбитая лабораторная посуда, эти фантастической формы реторты и колбы казались мальчишкам какими-то космическими изделиями… Кроме стекла, выброшенного за ненадобностью, были здесь ещё какие - то непонятные предметы - отрезки гофрированных труб, сломанные приборы, а однажды попалась почти целая пишущая машинка! А когда в квартире Соколовых затянулся ремонт, семья Алексея Петровича целый месяц жила в одной из лабораторий, после чего Славка мог ходить по коридорам института с завязанными глазами.
Подёргав для верности ручку директорского кабинета, он вздохнул и вернулся обратно на лестницу, спустился этажом ниже и опять пошёл длинным коридором вдоль запертых матовых дверей лабораторий. Вскоре он услышал приглушённые голоса. Славка открыл одну из дверей и неслышно вошёл.
Его дед, большой и грузный, сидел на корточках, прижавшись боком к лабораторному столу, и снизу смотрел на большую колбу, в которой булькала какая-то тяжёлая маслянистая жидкость. За столом на высоком лабораторном табурете восседал аспирант Соколова Кондаков и что-то быстро подсчитывал на большом калькуляторе.
Алексей Петрович с тяжёлым хрустом распрямил колени. Снял колбу со спиртовки, подождал, пока она немного остынет. Потом соединил её какими-то трубочками с другой колбой, установленной выше. Когда он вновь подставил спиртовку, и маслянистый раствор опять закипел, невидимый газ, проходя по трубочкам, заставил пузыриться жидкость в другой колбе. Алексей Петрович, очень довольный, с удовлетворением наблюдал за реакцией.
Славке это было не очень интересно. Он позвал.
- Дедушка…
Алексей Петрович нисколько не удивился Славкиному появлению, видимо визиты членов семьи в институт были не редкость.
- А это ты… Подожди-ка… - Он повернулся к аспиранту. - Надо ещё не меньше трёх катализаторов проверить… Начнём с дешёвых…
Кондаков, поставив точку в своих расчётах, спокойно встал.
- Мне надо уходить, Алексей Петрович…
Старик помрачнел.
- Куда?
- Иду с дочкой в цирк. - Улыбнулся Кондаков. - Я давно ей обещал.
Алексей Петрович насупился.
- Цирк значит… А работа…
- Сегодня воскресенье…- Не смущаясь, ответил Кондаков. - У меня семья, Алексей Петрович… - Он отложил карандаш. - Предварительные расчёты все правильные. Завтра я ещё раз проверю. До свиданья, Алексей Петрович.
Он снял лабораторный халат, взял со стола свою кожаную папку, и, подмигнув Славке, ушёл. Совсем забыв про внука, старик сидел боком на высоком лабораторном стуле и мрачно о чём-то размышлял.
- Дед, - позвал Славка. - Да не расстраивайся ты так… Он завтра всё обязательно сделает, ты что, Кондакова не знаешь? И ты тоже иди домой, отдохни хотя бы одно воскресенье…
- Ладно, - вздохнул Алексей Петрович. - Без тебя как-нибудь…
Соколов не понимал своих аспирантов. Это были способные, нет - талантливые ребята. Но они совмещали с наукой тысячу других дел: любовные свидания, семью, дачу и вот даже цирк… Ходил ли он в цирк с Наташей? Наверно, ходил… Только это было очень редко, так редко, что он сейчас и вспомнить не смог…
- Ты чего пришёл?- повернулся он к внуку.
Славка, молча, протянул ему повестку. Алексей Петрович внимательно её прочитал, остался очень доволен, встал и наивно торжественно пожал Славке руку.
- Поздравляю. Это такое событие…
- Вот ради такого события и пошли вместе домой. Бабушка будет очень рада.
- Нет, сейчас не могу… Реакцию сразу остановить нельзя, реактивы пропадут, а они очень дорогие… Но постараюсь пораньше. Ты куда сейчас?
-К ребятам. Я ведь не один повестку получил, сразу несколько человек из нашего класса. Решили отметить.
-Как это? - Подозрительно прищурился дед.
- В мороженицу пойдём. Есть у нас одна, придворная…
Алексей Петрович достал бумажник, сунул Славке купюру.
- На вот… Девочек угостишь… Только без вина.
Славка чмокнул его в щёку.
- Что ты, дедушка! Да мы - не в жисть! Спасибо!
Когда Славка был маленьким, всё было так просто… Алексей Петрович очень любил внука, с удовольствием возился с ним - в свободное от работы время… Поскольку времени этого было очень мало, то Славка совсем незаметно вырос, и вдруг стал поступать и жить как-то не так, как рассчитывал дед. Будучи от природы ловким и быстрым, внук успел позаниматься и настольным теннисом, и плаванием, и борьбой, но серьёзным спортсменом не стал. Увлёкшись чем-то, - быстро остывал, по всей его комнате валялись рассыпанные нечаянно марки и значки, а незаконченная модель планера пылилась под кроватью. В старших классах он стал учиться «через пень - колоду», как говорила бабушка, и к величайшему стыду и огорчению деда, едва натянул тройку по химии. К тому же Славка любил попридуриваться, побалагурить, а дед его юмора не понимал, и это раздражало обоих. Постепенно они почти перестали общаться - говорить было не о чем, каждый жил своей жизнью.
Выходя из лаборатории, Славка замешкался и спросил у деда, глядя куда-то в бок.
- А если меня в Афган пошлют, дедушка?..
Алексей Петрович вздрогнул и испуганно посмотрел на внука. Он запаниковал - нужные слова не приходили. Славка не дождался ответа, ушёл, плотно закрыв за собой дверь.
Попасть в мороженицу оказалось не просто. Очередь тянулась через весь тротуар и заканчивалась у проезжей части. Славка с друзьями пристроился в хвост.
- Мы тут до закрытия простоим…- разочарованно протянула Вера.
- Поторчим… - Отозвался один из Славкиных приятелей. - Всё равно делать нечего. Лучше расскажи, что тебе предки из Англии привезли?
Вера отмахнулась.
- Да ничего особенного.
- Во даёт! Родители который год в торгпредстве пашут, а ей, значит, из Англии ничего не привезли…
- Что ты пристал! - Вмешался Славка. - Не хочет говорить - и не надо. Наденет - увидишь.
У самой кромки тротуара с визгом затормозила машина. Из такси выскочил молодой человек и, не обращая внимания на очередь, направился прямо к дверям кафе. Славка, увидев его, обрадовался, окликнул.
- Сакен!
- Кого я вижу! - Сакен крепко, как товарищу, пожал Славкину руку. - А это твои друзья? И Вера здесь… - Он поздоровался и с Верой.
- Вот хотели посидеть, а здесь очередь…
Сакен оценивающе оглядел длинный хвост у дверей мороженицы.
- Многовато…Но ничего… Этой беде можно помочь. Мне как раз сигареты понадобились… Стойте здесь. Ни с места!
И он исчез за дверью кафе.
- Кто это? - Спросил у Славки приятель.
- Аспирант моего деда. Самый любимый. Дед говорит, очень талантливый.
- Слушай, а что твой знаменитый дед тебя ни в один институт не пристроил? - ядовито поинтересовался тот самый парень, который расспрашивал Веру о подарках из Англии. - Ведь ему достаточно было только позвонить…
-У него совсем не тот дед, чтобы звонить, - вместо Славки ответила Вера.
А толпа у дверей мороженицы вдруг мгновенно растаяла. Ребята недоумённо переглянулись. Подошли поближе. К стеклянной двери была приставлена табличка «Мороженого нет», у буфетной стойки Сакен расплачивался за сигареты, и молоденькая буфетчица во всю кокетничала с ним. Оглянувшись на дверь и увидев за ней Славку, Сакен помахал рукой.
- Всё в порядке. Заходите!
Ребята растерянно топтались на пороге.
-Так если мороженного нет…
- Есть мороженное, есть… Два часа кафе в вашем распоряжении…
-Как это? - Заупрямилась Вера.- Для всех, значит, нет, а для нас есть?
Славка толкнул её в бок.
Остальные друзья были в восторге.
-Ну, просто Кио!
-Это же надо так уметь!
- Вот будет у тебя много-много денег, и ты тоже будешь, как Кио…
И Веру насильно затолкнули за столик.
Славка проводил Сакена до машины. С этим весёлым, предприимчивым узбеком у Славки были почти братские отношения. И внук, и дед его любили одинаково. Алексей Петрович ценил в Сакене талант химика и целеустремлённость, а Славка тянулся к нему подсознательно, ощущая в нём человека своего времени.
- Сакен… Дед в институте сидит… В восьмой лаборатории… Кондаков в цирк ушёл, дед очень расстроился…
Сакен кивнул.
- Понятно… Ничего, я еду в институт…
- Обедать к нам приходи… Вместе с дедом… Обязательно!
- Приду…
Кафе было маленькое, всего несколько столиков. Два из них ребята сдвинули, сидели тесно прижавшись друг к другу. Таяло мороженое в металлических вазочках. Ребята разговаривали солидно, серьёзно: повестки в военкомат делали их в собственных глазах значительно взрослее.
- Ну, и что же такое, по-твоему, взрослость? - Насмешливо сверлил Веру глазами один из друзей Славки.
Она пожала плечами, задумалась.
- Взрослость - это когда дело твоего деда становится тебе понятно…
Славка присвистнул.
- Велика мудрость! Дело есть дело. У каждого человека есть профессия. Мой дед - химик, твой - хирург. Каждый на своём месте вкалывает, как может. По- твоему, чтобы стать взрослым, мне надо понимать, что за реактив он из колбы в колбу гоняет?
- Перестань! - Отмахнулась Вера. - Ты нарочно упрощаешь… Я не о профессии говорю, а об отношении к жизни, которое у наших с тобой дедов отношением к делу определяется…
- Верк, - усмехнулся Славка, - ты такая умная, аж тошнит… Тебе поглупеть чуть- чуть - цены бы тебе не было…
Ребята засмеялись, и Вера, не обидевшись, хлопнула ладонью Славку по лбу.
- Хорошо вам о дедах рассуждать, они у вас оба - академики… А мой дед из пивных да закусочных не вылезает… Я-то как должен свою взрослость определять? - вздохнул один из одноклассников.
- А ты её уже определил, если понимаешь, что жизнь существует не только в пивных и закусочных…- Не задумываясь, ответила Вера.
- Всё-то ты знаешь…- Вздохнул её товарищ. - А если я всё равно своего деда люблю и ни на какого чужого академика его не променяю?
Ребята загалдели, кто-то даже попытался вскочить с места - не получилось, было слишком тесно…
На улицу опустилась влажная осенняя темнота, зажигались фонари и свет в окнах. Старик - вахтёр, щуря подслеповатые глаза, аккуратно набрал короткий номер местного телефона. Трубку долго не снимали, наконец, ему ответили.
- Алексей Петрович, это я, Снегирёв с проходной… Вы ещё долго в институте будете? А то сейчас двадцать два ноль-ноль, мне в обход идтить пора… Ещё часик посидите? Ну, я как раз за часик и укладываюсь…
Старик аккуратно повесил трубку, проверил, заперта ли с улицы дверь проходной, кликнул собаку и пошёл по длинному узкому двору, проверяя запоры и замки на складах и лабораториях. Большая добродушная овчарка, довольная возможностью побегать, с удовольствием сопровождала его…
Был поздний осенний вечер, похожий на ночь, когда Алексей Петрович и Сакен заперли, наконец, двери лаборатории. Проходя по двору, Соколов оглянулся на здание института, оно возвышалось за его спиной огромным тёмным айсбергом. Ярко светилось только окошко проходной. Алексей Петрович и Сакен, попрощавшись с вахтёром, вышли на улицу. Стоявшая неподалёку машина бесшумно снялась с места и подъехала к ним.
- До свиданья, учитель, - мягко попрощался Сакен.
- Ты вызвал такси? - Удивился Алексей Петрович. - И когда успел?
- Нет… Я заплатил вперёд… Он меня ждал…
Старик не понял.
- Всё это время?
Сакен помахал ему рукой, сел в машину, хлопнул дверцей.
Соколов растерянно смотрел вслед автомобилю. Он не сразу понял, что ему сказал Сакен, а поняв, помрачнел, и недовольно покачал головой. Эти « барские замашки» своего аспиранта, который, приезжая из Ташкента, подолгу жил у него в доме на правах близкого родственника и был ему, как любил повторять Алексей Петрович, вместо сына, эти «барские замашки», очень не нравились Соколову.
На всём белом свете было два места, где Алексей Петрович чувствовал себя, как рыба в воде: это родной дом и институт. Дома он отдыхал, в институте - работал. Всё остальное только дополняло одно или другое. За стенами этих крепостей он чувствовал себя неуверенно и неловко. В общественном транспорте Соколов ездить не умел: на работу и обратно домой он ходил пешком, на совещания в Смольный или Таврический ездил на служебной машине. Если (очень редко) приходилось отправляться куда-то в трамвае или в автобусе, он вставал как-то боком в самом проходе, и его постоянно толкали и ругали за неловкость. С годами выезды на общественном транспорте стали целым событием. Но иногда под натиском домочадцев, Алексей Петрович сдавался, хотя в душе не переставал сожалеть о брошенных делах и какой-нибудь недописанной статье.
Но сегодня был особенный день: все вместе они ехали на дачу к единственному верному другу Соколова Дмитрию Павловичу Ершову. Ехали с подарками ко дню рождения, который знаменитый хирург - академик отмечал по традиции только с семьёй Алексея Петровича и в обществе своей любимой внучки Веры, скрывшись от всех прочих на своей скромной даче.
Плотная толпа стояла на платформе. Подошла электричка. Славка придержал спиной напиравших сзади, пропустил вперёд своих стариков, потом Веру и с трудом втиснулся сам. Тесно прижатые друг к другу, они стояли в вагоне у самых дверей тамбура. На первой скамейке прямо перед ними расположились трое - два моложавых мужчины и женщина. Импортные штаны, фантастической красоты кроссовки и весь «навороченный» антураж бросался в глаза. Вели они себя независимо, свободно, разговаривали громко, шумно и раскатисто смеялись, нарочито привлекая к себе общее внимание.
Электричка шла полным ходом, втягивая в себя на остановках новых пассажиров. После затяжных осенних дождей день вдруг выдался яркий, солнечный, и горожане потянулись на природу.
Мужчина из «импортной» компании громко включил магнитофон, на весь вагон грохнул тяжёлый рок. Зоя Васильевна невольно поморщилась.
Кто-нибудь, может быть, и поступил бы иначе, но Алексей Петрович иначе не умел. Он умел жить только в недрах своего института и наивно полагал, что законы, установленные им внутри социума, созданного его собственными руками, действуют также во всей Вселенной. Он сказал властно и громко.
-Выключите это!
Его услышали, но никак не прореагировали. Тогда он повторил.
- Выключите!
Мужчина, державший в руках магнитофон, подчёркнуто прибавил звук и насмешливо взглянул на просто одетого старика, державшегося за плечо смущённого внука.
- Что, дед? Сдают нервишки-то?
Славка побагровел и быстро взглянул на деда. Вера дёрнулась было, но смолчала.
- Это мешает, - мрачно сказал Алексей Петрович. - Люди едут отдыхать, эта какофония раздражает…
- Слушай, мужик, - вмешался его приятель. - А ты давай пешочком… В лесу тихо…
Они сидели, а старики перед ними стояли, и молодая женщина весело поглядывала вокруг, вполне довольная своими остроумными спутниками. Люди, тесно прижатые друг к другу, стояли вокруг с непроницаемыми лицами и молчали.
- Оставь его…- громко захохотал первый «импортный». - Он, наверно, и ветеран к тому же…
- Ветеран…- гордо кивнул головой Алексей Петрович.
Теперь они хохотали все.
- О, - вскочил с места один из них, - тогда ты садись, дед… Почёт тебе и уважение…
Зоя Васильевна заплакала. Славкины уши горели. Он словно онемел.
- Прекратите! - Громко крикнула Вера. - Вы… Вы… - Она захлебнулась словами.
Это вызвало следующий взрыв хохота.
Поезд притормаживал на очередной станции. Алексей Петрович, схватив за руку жену, потащил её к выходу. Люди теснились, выпуская их, избегая глядеть друг на друга.
Вера, за ней вспотевший от мучительного стыда Славка, едва протолкнулись вслед за стариками.
-Ладно, - сказал Алексей Петрович на платформе. - Отдохнули. Поехали домой.
- Это ведь последняя остановка…- Вытерла беззвучные слёзы Зоя Васильевна. - Дима ждёт… нехорошо.
- Сколько отсюда, Вера?
- Три километра…
- Пошли пешком.
Алексей Петрович резко повернулся и пошёл вперёд, волоча за собой хозяйственную сумку на колёсах. Славка подскочил было к нему, схватился за тележку, дед сердито оттолкнул его локтем.
- Я не трус, дедушка! - Твёрдо сказал Славка.
Дед резко повернулся к нему, прямо взглянул ему в глаза.
- Ты - не трус, ты - приспособленец! - И сердито поволок свою сумку дальше.
Зоя Васильевна заторопилась за ним. Славка повернулся к Вере, но она только презрительно взглянула на него и побежала догонять стариков. И он потащил свои сумки в одиночестве. Уши горели до сих пор.
Увлёкшись общим делом,старики с азартом чинили завалившийся набок парник. Подначивали, подзадоривали друг друга, заразительно смеялись.
Близкий друг Алексея Петровича Дмитрий Павлович был ему прямой противоположностью: высокий, худощавый, быстрый и ловкий в движениях. Кабинетный человек, Алексей Петрович отвык от физической работы, всё время что-нибудь ронял и ушибался. Очередной раз запнувшись, он чуть было не упал.
- Смотри под ноги! - Крикнул ему Дмитрий Павлович. - Расшибёшься!
- Легко сказать «под ноги», - отозвался Алексей Петрович. - А живот?
Они оба рассмеялись.
- Что нового в хирургии? - Посмеивался Алексей Петрович, передавая другу ящик с гвоздями.
- А что у нас нового? - отозвался Дмитрий Павлович. - Режем. Чиним, штопаем… Всё по-старому. А что нового в химии? Вредны фосфатиды или нет?
- Ты мне зубы не заговаривай…. Ты когда мне отзыв на наш бактерицидный порошок напишешь? Все сроки вышли.
- Пришлю,
Алёша… В понедельник своим бактериологам
скажу - они проверяли, очень хороший порошок, надо его срочно в производство…
Нам такой в хирургии очень нужен…
Славка помогал охотно, уверенно
стучал молотком, прислушиваясь к разговору.
Зоя Васильевна смотрела на них через окно летней кухни. Вера мыла посуду.
- С каким удовольствием на земле работает… - Кивнула на мужа Зоя Васильевна. - А в молодости и слышать о даче не хотел, презирал собственников. Наташка летом болталась по всей Ленинградской области, то от рыбокомбината в лагерь едет, то от асбестового завода…
В кухню влетел Славка.
- Дайте попить…
Вера подала ему ковш с водой.
Он жадно напился. Тоже взглянул в окно. Старики, оставив работу, громко смеялись над чем-то, глядя друг на друга.
- Ну, друзья…- Кивнул на них Славка. - С полуслова друг друга понимают… И смеются, как дети…
- Вот и хорошо, что смеются.
Славка вернул Вере ковш, заглянул ей в лицо. Она отвернулась.
- Ну, что я должен был сделать?! Что?! - Славка повернул её к себе. - Мне с ними подраться надо было, что ли?
- Не знаю… - Пожала Вера плечами, освобождая свою руку. - Может быть, и подраться…
- Не ссорьтесь, - вздохнула Зоя Васильевна. - Драться было бесполезно. Такие люди были всегда, но их было мало… А сейчас почему-то становится всё больше и больше… Что-то с нами со всеми происходит, не знаю…
- Я не трус, понимаешь? - Сказал в спину Вере Славка. - Я просто знаю, что если бы я кому-нибудь из них набил морду, а они бы потом меня измолотили, всё равно ничего бы не изменилось. Они над следующим стариком измывались бы точно также…
А над парником снова дружно стучали молотки…
- Знаешь, мы новый наливной маргарин сделали, - по-детски похвастался Алексей Петрович. - С повышенным содержанием растительного масла… Для таких, как мы с тобой…
- Для стариков, значит…
- Ну, я этого не говорил…
Зачихал, закашлял старый двигатель, и по улице вдоль забора участка проплыл грузовик. Поверх ограды было видно, что в нём, прикрытая полиэтиленом, лежала картошка.
- А вот и наш основной продукт питания прибыл… У нас, горожан, выращивать его ни сил, ни времени нет, а местные с удовольствием нам картошечку сбывают. Слава, тащи ведро…
- Сколько она у вас здесь стоит? - Алексей Петрович вместе с другом направился к калитке…
Машина остановилась. Со всех сторон к ней потянулись садоводы с мешками и корзинами. Бойкий старичок быстро управлялся с деньгами, успевая поругиваться с покупателями из-за малой ёмкости своего мерного ведра.
Подбежал к толпе и Славка. Старики захлопали по карманам, заспорили, кто будет платить. Славка с улыбкой наблюдал за ними. Дмитрий Павлович поднял к старику своё ведро, и картошка громко затарахтела по его дну. Алексей Петрович протянул было деньги старику, они встретились на мгновение взглядами, и рука его вдруг застыла в воздухе. Старичок, всё время что-то балагуривший, замолчал на полуслове, лицо его точно окаменело, он, не отрываясь, смотрел в глаза Алексею Петровичу, словно не мог от них оторваться.
- Что такое? - Повернулся к другу Дмитрий Павлович. - Что с тобой, Алёша?
Он удивлённо смотрел на Алексея Петровича, потом перевёл взгляд на старика. Тот тоже взглянул на него и, вдруг обмякнув, опустился прямо на картошку. Теперь все трое смотрели друг на друга и молчали.
- Поехали! - Вдруг неожиданно зычно рявкнул старик. - Федька, сукин сын, я кому сказал - поехали!
Машина дёрнулась, рванулась с места, оставив на пыльной улице недоумевающих покупателей. Старичок в кузове так и сидел на картошке, и скоро стало совсем непонятно, в какую сторону он смотрит. Алексей Петрович всё ещё сжимал деньги в кулаке, пока Дмитрий Павлович не разжал его пальцы и не убрал смятую купюру ему в нагрудный карман.
- Пошли…- Дмитрий Павлович сжал его плечо и повернул к калитке.
- Это был он, да, Дима? Это был он? - Алексей Петрович ещё раз беспомощно оглянулся вслед машине.
- Да. Он…
- Кто? Кто это был, Дмитрий Павлович? - Ничего не понимал Славка.
- Запомни его, Вячеслав… - Дмитрий Павлович прямо посмотрел ему в глаза. - В тридцать седьмом году этот человек подписал нам с твоим дедом смертный приговор.
Славка оглянулся, но машины и след простыл. Только пыль всё ещё кружилась в воздухе и медленно оседала на землю.
- Он… Он был следователь? Судья?
- Нет. Просто подлец…
Ночь пришла холодная, по - настоящему осенняя. Славка с Верой топили в кухне печку. Возле неё было тепло и уютно. А старики сидели в комнате за пустым столом. Молчали, не замечая времени. Их крепко сцепленные руки лежали на выцветшей дачной скатерти тяжело и печально. Зоя Васильевна подошла, присела рядом, положила свои мягкие тёплые ладони поверх их сцепленных пальцев.
- Хватит. - Мягко сказала она. - Надо забыть. Этого человека надо забыть.
Старики не пошевелились. И она повторила строже.
- Надо забыть. Вы живы, и вы сегодня такие же, как перед лагерем. Вы не стали другими - это главное.
Что-то чуть слышно ответил ей Дмитрий Павлович, и они продолжали разговор совсем тихо, так, что внуки уже не разбирали доносившихся до них слов.
- Реабилитировали их перед самой войной… - Также тихо сказала Вера. - Мой дед хирургом на передовую пошёл, а твоего на Дальнем Востоке оставили, он цеха по производству водорода строил…
- Зачем водород на войне?
- Для дирижаблей… Им дирижабли заполняют, которые всякие объекты заграждают от вражеских самолётов…
- Я видел на фотографиях… А ты откуда это всё знаешь?
- Дед рассказывал… Не специально, а так… К слову…
- А мне - никогда и никто… Маленьким считают…
- Нет… Я думаю, им до сих пор очень больно… Они боятся, что мы их не поймём…
А старики всё сидели, сцепив руки, и чуть слышно шелестели их слова, среди которых чаще других повторялось одно: «Помнишь?»…
Дмитрий Павлович, молодой хирург из местного дальневосточного госпиталя, был арестован в тридцать седьмом по доносу санитара, которого отчитал однажды за грязь в Приёмном покое. Санитар был очень обидчивым человеком. Он писал доносы за подписью « Активист» на всех, кто так или иначе вставал на его пути.
В лагере Дмитрий Павлович был назначен врачом детского лазарета. В лагерь нередко отправляли женщин вместе с маленькими детьми, сажали также и на последних сроках беременности… Детей держали в лагере два-три года, потом отправляли в детские дома, рассылая по отдалённым уголкам необъятной Родины так, что родители, освободившись, половину оставшейся жизни тратили на то, чтобы их разыскать… Дмитрий Павлович курировал этих ребятишек как врач, пытаясь хоть как-то облегчить их участь.
Алексей Петрович будучи соседом по дому того самого санитара, никогда не был дипломатом. Однажды он выразил недовольство соседу по поводу затянувшегося пьяного застолья. «Активист» написал донос и на него. Засадить молодого инженера, которого поощряла администрация комбината, было легче лёгкого - только что как «врага народа» арестовали директора предприятия. Алексея Петровича забрали в «органы» в Новогоднюю ночь, без пятнадцати двенадцать… Зоя, (ей только что исполнилось двадцать три!) была беременна Наташей на восьмом месяце. Она не чувствовала тяжести своего живота и бежала за машиной, увозящей мужа, до самых «кожаных дверей», как называли эту тяжёлую, обитую дерматином дверь, в городе. Эта страшная дверь словно пожирала мужчин и женщин, захлопываясь за ними порой навсегда. Зоя простояла под ней несколько часов. Она не ощущала времени, просто стояла и ждала, леденея от страха, и не замечая грозного дальневосточного мороза. Потом подъехал « Воронок», и через несколько минут вывели её Алёшу. Он был страшно избит, глаза смотрели с трудом сквозь заплывшие, залитые кровью глазницы. Но он увидел жену, и даже попытался улыбнуться ей, но улыбка на разбитых синих губах не получилась. Его втолкнули в машину, и он почти упал к ногам конвоиров, равнодушно принявшим очередного арестанта. Дверца машины захлопнулась.
Алексей оказался в одном бараке с врачом детского лазарета. Так началась их дружба. Свою маленькую дочку он увидел только в сорок первом.
Освободили их почти одновременно перед самой войной. Выйдя на свободу, Дмитрий Павлович, не имевший права переписки, стал разыскивать своих. Его жену выселили из гарнизонной квартиры сразу после его ареста. Вместе с маленьким сынишкой она долго скиталась по чердакам и подвалам. Близких родственников репрессированных на работу не брали, открыто их поддерживать люди боялись. Не было денег, еды, одежды. Умерла жена Дмитрия Павловича, кажется, от дизентерии… К счастью, сынишку он нашёл в местном детском доме, успел отправить его к сестре в далёкий тыл, а сам ушёл на фронт и провоевал до самого последнего дня войны.
Но едва начали рубцеваться былые душевные раны, всплыло знаменитое «Дело врачей». Дмитрия Павловича опять арестовали. Молодой следователь, словно опьянённый ветрами, подувшими из тридцать седьмого, бил по его коленям каблуками своих новеньких сапог. Он разбил ему коленные суставы так, что фронтовой хирург, вытащивший с того света сотни раненых, едва мог переставлять ноги…
В отличие от тридцать седьмого на этот раз был суд. Колонну арестованных медиков, среди которых было немало женщин, на закрытые судебные заседания водили пешком из тюрьмы через весь город. Это была не одна колонна, а целых три. В центре шли осуждённые в сопровождении немногочисленных равнодушных конвоиров. А по обе стороны этого молчаливого шествия спешили их родственники, не сводя глаз со своих близких, боясь пропустить хоть малейший намёк на просьбу или вопрос. Но арестанты шли молча, низко опустив головы и не оглядываясь на своих родных. Дмитрий Павлович передвигался с трудом, он ковылял в самом хвосте колонны, изо всех сил пытаясь не слишком сильно отставать. Конвоиры, замыкавшие строй, делали вид, что не замечают его усилий.
Через многие годы Зоя Васильевна не раз вспоминала, как вместе с мужем искала в проходящей колонне своего друга. Наконец, они увидели его спину и заспешили было за ним. Алексей Петрович пробежал вперёд, заглянул в лицо арестанту, и разочарованно вернулся к жене.
- Это не он…
- Нет, это Дима… - упрямо мотнула головой Зоя Васильевна.
Теперь она, просочившись сквозь толпу, пыталась поймать взгляд товарища. Он равнодушно посмотрел на неё, и только тогда она согласилась.
-Не он…
Но это был Дмитрий Павлович. Не война, а второй арест неузнаваемо изменили его черты…
Но вдоволь поиздевавшись над людьми, заставив всех вздрогнуть, вспомнив про лагеря и ссылки, власть отступила. «Дело врачей» было закрыто. Дмитрий Павлович вернулся к обычной жизни.
Он имел все заслуженные звания и награды, на богатом фронтовом материале защитил сначала кандидатскую, потом и докторскую диссертации, был переведён в Ленинград, где назначен руководителем клиники в Военно-Медицинской Академии, но душа его часто ныла и болела, словно военная рана под струпом… К счастью, вскоре в Ленинград переехал и Алексей Петрович с семьёй, и жизнь постепенно вошла в накатанное русло. У него был взрослый сын, работавший в Англии в дипломатическом корпусе, и работа, которой он жил…
Внучка выросла в его госпитале. Родители разъезжали по всему миру, а Веру оставляли деду. Дмитрий Павлович таскал её на дежурства. Она спала в его служебном кабинете на кожаном диване, ела госпитальную кашу вместе с больными солдатами, её нянчили медсёстры и убаюкивали санитарки, когда дед стоял у операционного стола… С Верой они дружили.
По телевизору показывали плохой фильм о войне. Гремели взрывы, шли танки, кто-то кричал «Ура!»…
Алексей Петрович болел. Он сидел в кресле, прямо перед телевизором, спрятав ноги в электрический сапог-грелку. Шея его была обвязана тёплым шарфом. Словно поперхнувшись, он опять закашлялся сухим, лающим кашлем.
Славка вошёл, встал у порога.
- Дедушка, сделай, пожалуйста, потише… Оглушил…
Алексей Петрович промолчал. Оторванный от любимого дела, он не мог найти себе занятия и отыгрывался на близких. Славка убавил громкость телевизора и хотел было уйти, едва скользнув взглядом по экрану.
- А ты почему фильмы о войне не смотришь, будущий солдат?
- Так скучно же… Всё заранее известно…
- Ишь ты… Что ты вообще знаешь о войне, что тебе всё известно?
Вошла Наташа. Алексей Петрович, покашливая, обернулся к ней.
- Совсем он у тебя аполитичный вырос… Ничего не знает, ничем не интересуется… Одни анекдоты на уме…
- Он не только у меня вырос, папа… Но и у тебя тоже… Откуда тебе знать, что у него на уме? Это тебя никогда не интересовало…- парировала дочь.
- В фильмах о войне ему, оказывается, всё известно… - ворчал Алексей Петрович, не слишком вслушиваясь в её слова.
- Папа, - поморщилась Наташа. - Не придирайся. Ты в первый раз за полгода перед телевизором сидишь, и то по болезни. А Славка в кинотеатрах не одни штаны протёр. А фильмы о войне, и в самом деле бывают разные - и хорошие и плохие…
- Ладно… - Махнул рукой Алексей Петрович и снова закашлялся. - Вас не переспоришь, вы всегда самые умные… Поставь-ка мне банки…
Зоя Васильевна готовила на кухне обед. Славка заглянул, быстро стащил со стола что-то вкусное. Она звонко хлопнула его ложкой по лбу.
- Ба… - Обиженно пропел он. - Я в армию ухожу, не обижай меня…
Зоя Васильевна улыбнулась.
- Отец звонил. Сейчас прибудет.
Славка хлопнул в ладоши.
- Хоть раз в жизни побыть в центре внимания! Все меня любить сразу начали, ходят вокруг, сочувствуют… - Он примолк и вдруг спросил, став совсем серьёзным. -Бабуля, а ты будешь переживать, если меня в Афган отправят?
Зоя Васильевна побледнела, уронила половник, перешагнула через него, схватила внука за плечи и прижала к себе.
- Я бы всё сделала, только бы не было этой бессмысленной бойни… Но как тебя защитить, я не знаю…
Наташа ставила отцу банки. Он лежал на животе, подставив рыхлую спину и, отвернув поневоле голову к стене, сердито выговаривал дочери.
- Работать надо, работать…
- А искусство, по-твоему, не работа? - обиженно возражала Наташа.
- Это у тебя-то искусство? Вертишься, как белка в колесе: три слова на радио, роль без слов на телевидении, «Кушать подано» в театре…
Наташа сдерживала слёзы, эти бесконечные споры людей, не способных понять друг друга, опустошали её.
- Папа, ты ведь занимаешься наукой… Это тоже творчество. Почему ты не хочешь меня понять?
Она загасила горящую палочку и крепко укутала старика пледом.
- Творчество… - Гнусавил в подушку Алексей Петрович. - Наука - это, действительно, творчество. Это нужно всем - и государству, и людям…
- Театр тоже нужен всем, - не сдавалась Наташа, хотя спорить она совершенно не умела.
- Зачем нужен? - Последовал гнусавый вопрос.
- Ну… - Совсем растерялась Наташа. - Просто, чтобы лучше узнать жизнь…
Алексей Петрович хрипло засмеялся, закашлялся…
- Это в театре-то? Сколько раз на твои премьеры ходил, мать заставляла… Три часа в темноте просидишь, а про что речь, так и не поймёшь… Вот я где-нибудь в Чимкенте сутки на вокзале в ожидании поезда проведу, такую жизнь увижу, что твоему Товстоногову и не снилось…
Славка снова заглянул в кухню.
- Ба, разними их… Подерутся…
Зоя Васильевна отложила половник, закрыла крышкой кастрюлю, выключила газ.
- Совсем наш дед болеть не умеет…
Когда она вошла в комнату и встала у порога, Наташа сидела в кресле, обречённо дожидаясь конца процедуры. Алексей Петрович всё ещё лежал, уткнувшись носом в подушку. Банки подпрыгивали на его спине, когда он говорил.
- Я, между прочим, всё это ему сказал…- вдруг ядовито хихикнул он.
- Кому? - Даже привстала с места Наташа.
- Да Товстоногову твоему, Гоге…
Зоя Васильевна всплеснула руками.
- Да где же ты с ним встретился?
- А мы часто встречаемся …В Смольном… Пленум обкома был на той неделе… Рядом сидели… Вот я ему всё и сказал…
- Что «всё» ?
- Что он ставит всякую дребедень… Что думал, то и сказал…
Наташа выразительно посмотрела на мать, потом на часы, и, вздохнув, начала снимать банки со спины отца.
- Надеюсь, ты ему не сказал, что ты - мой отец?
- Конференция началась. Мне с докладом надо было выступать. Уже не до тебя было…
Наташа еле сдерживала слёзы.
- Мам, ты на какой спектакль его водила? - Спросила она через плечо.
- «Ханума»… Хотела, чтобы он посмеялся, отдохнул…
- Ну, вот… Надо было в Пушкинский… На «Оптимистическую трагедию»…
Наташа быстро вышла и заперлась в ванной.
- Зачем ты её обижаешь, Алёша? И без того ей не просто живётся…
Алексей Петрович, освобождённый, наконец, от банок, сел на диване.
- Сама себе такую жизнь придумала. Вместе с тобой, между прочим… Могла бы любую профессию выбрать - инженера, доктора… В артистки ей захотелось… - И, останавливая жену, которая хотела что-то возразить, попросил:
- Подиктуй-ка мне этих… писателей, что ли…
Наташа беззвучно плакала в ванной.
Вскоре телевизор был выключен. Алексей Петрович, закутанный женой в плед, старательно писал под её диктовку за круглым обеденным столом.
-Эк-зю-пе-ри… Э-лю-ар…
Зазвенел звонок. Славка бросился в прихожую, распахнул дверь. Вошёл Дмитрий Павлович.
- Ты чего? - Засмеялся он, увидев разочарованную физиономию парня. - Девочку ждал?
- Отца. Должен приехать.
- Как дед?
- Всех «низводит»… Как Карлсон «домомучительницу». Спасайте.
Дмитрий Павлович снял пальто, прошёл в гостиную. Алексей Петрович сосредоточенно записывал.
- Мане, Моне, Дега, Лотрек… Латрек или Лотрек?
- Принести альбомы?
- Не надо. Не хочу ничем лишним забивать себе мозги. Мне бы только писателей с художниками не перепутать, как в Голландии… Хорошо, что наш посол тогда меня своим телом закрыл… Пусть этот список в кармане лежит, подсмотрю, коли нужда будет…
- Ты что, во Францию собираешься? - Вошёл в комнату Дмитрий Павлович. - Здравствуй, Зоя…
Поцеловав Зою Васильевну в щёку, он профессиональным беглым взглядом окинул друга, коснулся тыльной стороной ладони его лба.
- Франция потом. Сначала мне надо в Среднюю Азию слетать, оттуда - на Дальний Восток… Вот тебе профессиональная задача - поставить меня на ноги за три дня…
- Это как получится…
- У меня билет на пятницу…
- Я его не пускаю, да он разве послушается… Везде незаменимый…
- Надо мне туда, понимаете? Я из тридцати пяти лет, что институтом руковожу, пять лет в Коканде провёл - завод строил… И теперь должен посмотреть, как он жить начнёт. И на Дальний Восток самому надо слетать, там наш филиал совсем захирел, кроме меня никто не решит, закрывать его или нет... Такие дела… Но даю вам всем слово- это прощальная гастроль… Вот юбилей отметим – и всё…
- Дима, ты пока этого гастролёра посмотришь, я на стол собирать буду. Наташа, ты где там?
Опять кто-то позвонил в дверь. На этот раз это был, действительно, Славкин отец.
- Я не опоздал? - Похлопал он сына по плечу. - А то, думаю, маршируешь уже где-нибудь с песней… У тебя в детстве самая любимая была: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди…».
- А что - хорошая песня, - обнимая отца, подхватил Славка. - Главное всё понятно: «Солдат вернётся, ты только жди!»…
Владимир был вполне современным человеком дела. Мужской красотой он не обладал, но женщины всегда его выделяли не только за высокий рост, но и за умение быть с ними предельно вежливым и даже галантным. Родители его, совсем простые люди, ничего не могли ему дать кроме своей любви. Отец Володи, пройдя солдатом всю войну, так и остался с четырьмя классами образования, а мать и вовсе едва умела расписаться. Владимир закончил десять классов, потом техникум и в девятнадцать лет начал строить жизнь и карьеру самостоятельно. Никто и никогда ему в этом не помогал. Но был он умён, для своих лет достаточно образован, умел ладить с людьми, избегать ненужных конфликтов, и вскоре стал быстро учиться пользоваться нужными знакомствами и связями. В результате продвижения по службе не заставили себя ждать. Владимир быстро поднимался по служебной лестнице, оставляя далеко позади своих сверстников.
С Наташей они познакомились случайно, в отпуске на Кавказе. Море и южные ночи быстро сблизили их, они поженились, родили Славку и вскоре разбежались, так и не научившись понимать друг друга. Но Владимир искренне любил своего сына, часто проводил с ним отпуск и выходные дни, и был по-прежнему неравнодушен к Наташе, хотя она его постоянно раздражала своей независимостью и патологическим упрямством. Рано потеряв всех своих родных, он остался на правах близкого родственника в доме Соколовых, всегда молчал, когда в его присутствии происходила очередная стычка отца с дочерью, но в душе был вполне согласен с Алексеем Петровичем по поводу работы Наташи в театре.
- Пришёл? - Заглянула в прихожую Зоя Васильевна - Вот и хорошо, сейчас обедать будем.
Алексей Петрович аккуратно убрал свои шпаргалки в карман. Дмитрий Павлович терпеливо ждал, пока он разоблачится, сняв чуть влажную от испарины майку. Потом долго и внимательно выслушивал и выстукивал друга, заставляя его то покашлять слегка, то подышать ртом посильнее. Результаты обследования его насторожили.
- Хрипов в лёгких нет, но дыхание… С банками вы пос1пешили… Надо обследоваться, Алексей. Это очень серьёзно…
Зоя Васильевна с Наташей накрывали на стол. Зоя Васильевна молчала, но внимательно прислушивалась к разговору.
- Садитесь обедать… - Только и сказала она, когда Наташа внесла большую дымящуюся кастрюлю.
- Я тебя понимаю, - продолжал доктор. - Но, может быть, всё-таки отложить командировку?
- Об этом не может быть и речи. - Покачал головой Алексей Петрович. - У меня в этой поездке ещё одна цель есть… Надо от Ташкента в сторону километров триста проехать…
- А что там, дедушка? - Беспечно спросил Славка.
Алексей Петрович низко опустил голову над тарелкой и ответил не сразу.
- Там похоронена моя мать…
Над столом повисла тишина. Сразу расхотелось есть. Все молчали, только у Славки невольно вырвалось:
-Ты… ты простил её, дедушка?
Алексей Петрович не ответил, только мерно стучал ложкой по тарелке, ещё ниже опустив лысую голову…
Дверь в комнату Славки была приоткрыта. Снаружи висело объявление, написанное от руки: « Вход для родственников по пятницам с 16.30 до 17 часов по пригласительным билетам». Здесь царил творческий беспорядок: по стульям валялась какая-то одежда, сверху - журналы, на кровати - скомканный плед. Отец взглянул на обложку книги, лежащей на столе, покачал головой.
- « Винни - Пух»…
- А что? - ничуть не смутился Славка. - Ты её, хотя бы раз, открыл? Вот именно… В ней каждый своё находит: взрослые - одно, дети - другое… Мама с бабушкой укатывались, когда я им вслух читал… Это, конечно, Заходер постарался. Моя настольная книга, между прочим. Я её в армию возьму.
Славка устроился рядом с отцом на диване. Вошла Наташа, молча присела на стул.
- Как только Славка мне позвонил насчёт повестки, - серьёзно начал отец, - я сразу поднял на ноги всех друзей. И нашёл. Как говорится, «кто ищет…»… Нашёл одного нужного мужика прямо здесь, в вашем военкомате… Сходил с ним кое-куда, посидели пару часов, поговорили… В общем… он сказал, что по этой повестке Славке никуда не надо появляться… Надо переждать, понимаешь? - со скрытым вызовом повернулся он к Наташе. - Ему надо заболеть, наверно… У тебя никого нет, кто бы мог сделать справку?
Наташа, слушая, постепенно мрачнела, а на прямой вопрос медленно покачала головой. А Славка вдруг залился краской и заёрзал на месте, переводя взгляд с одного на другого.
Наступило долгое молчание. В душе у Наташи бушевала буря. Она совершенно растерялась. В доме Соколовых не принято было лгать, изворачиваться и приспосабливаться. Но при одной мысли, что её Славка может пойти на войну, на самую настоящую войну, ей становилось плохо. Но Наташа была дочерью своего отца. Собравшись с духом, она выпалила:
- Я думаю, Вячеслав догадывается, что я могу сказать на это… Он знает, что скажет по этому поводу бабушка и, тем более, дед… Ты ему поможешь увильнуть от своего долга - пожалуйста. Только помни, Слава, - тебе жить в этом доме…
Владимир, забыв о сдержанности, вскочил с места, забегал по комнате. Он очень уважал Алексея Петровича и искренне любил свою бывшую тёщу, но патологический идеализм этого семейства приводил его в бешенство.
- Зачем ты так ставишь вопрос, Наташа? Зачем взваливать на парня такой груз? Зачем превращать его в уголовника? Ты что… Ты, действительно, хочешь, чтобы он пошёл воевать с душманами?
- Нет, я не хочу, чтобы мой сын шёл с кем-то воевать… Но я также не хочу, чтобы он стал приспособленцем. Пусть решает сам, он совершеннолетний. - Отрезала Наташа и вышла из комнаты. За дверью она перевела дух и беззвучно заплакала.
Сегодня был на редкость удачный день. В новом спектакле Наташа получила настоящую роль. Совсем небольшую, но очень важную в пьесе. Это была женщина с ярким характером, с внятными поступками, в общем, было, что играть… Наташа репетировала везде: и дома - в своей комнате, в кухне и даже в ванной, в метро ( про себя), и даже пока бежала по набережной Фонтанки повторяла и повторяла отдельные фразы, ища правильную интонацию. Репетировала с азартом, забыв про всё на свете кроме своей героини. Именитые партнёры поглядывали на неё доброжелательно, и режиссёр остался вполне удовлетворён. Но самое главное, когда она случайно посмотрела в зал, то даже не поверила своим глазам: на заветном месте сидел он, Георгий Александрович, их ненаглядный Гога. Оказывается, он пришёл ещё в середине репетиции, все это видели, кроме Наташи. Встретив её изумлённый взгляд, Товстоногов чуть улыбнулся и едва заметно одобрительно кивнул головой. Возможно, ей только показалось, что он кивнул, но всё равно это была, если не победа, то удача, и это непременно надо было отметить. И вдруг она вспомнила, что на самом дне её видавшей виды сумочки в конверте лежит заветная сумма, и Наташа, наконец, решилась…
Вернувшись домой, она едва протиснулась в дверь с большой коробкой в руках. Настроение было почти праздничное, если бы не какое-то внутреннее беспокойство. Она не сразу поняла о чём, подумала и сообразила – Славка… Душа её заныла – она не знала, как нужно поступить. Наташа была дочерью своего отца, и с детства усвоила такие понятия, как честность и порядочность. Так же, как и её родители, она совершенно не умела лгать и лицемерить. Она понимала, что Владимир во многом прав. Наверно, он был во всём прав – надо было спасать сына от войны. Но для этого надо было сломать себя. Это было безумно трудно. Невозможно.
Наташа, вздохнула, отогнав от себя на время тяжёлый груз нерешаемой проблемы, с трудом вместила свой плащ на вешалку, утопающую в разных пальто и куртках трёх взрослых людей. В межсезонье, наверно, в каждом доме на вешалке по два-три пальто на каждого… И, наконец, она приступила к священнодействию: развязала упаковочный шпагат на коробке и достала из неё великолепную норковую шапку. Серебристый голубой мех переливался в её руках. Это была мечта, а не шапка. Наташа надела её на затылок, поглядев в зеркало, тут же сдвинула её на лоб, почти до самых глаз. Шапка необычайно шла ей, и Наташа осталась очень довольна собой.
- Мама! - Крикнула она. - Ты где?
- Где я могу быть? - откликнулась Зоя Васильевна из кухни. - У мартена…
- Смотри! - Гордо сказала Наташа и вошла, неся на голове шапку, словно корону.
- Купила?! - Зоя Васильевна придирчиво оглядела дочь. - Великолепно! Тебе очень идёт!
- Спасибо, что деньжат добавила, - Наташа чмокнула мать в щёку.- Я бы сама ещё лет десять копила…
- Сними… Мех запахи очень впитывает, а здесь жареной рыбой пахнет, ещё не проветрилось…
Наташа вернулась в прихожую, сняла шапку, ещё раз засмотрелась на серебристый мех, подула на него легонько, полюбовалась на голубую дорожку, и с сожалением убрала шапку в коробку. Потом долго не могла пристроить её на полке для головных уборов: коробка не помещалась и падала. Наконец, получилось, и Наташа, по-детски облегчённо вздохнув, ушла к себе в комнату.
Алексей Петрович всегда быстро собирался в командировки. Он уложил последние вещи в свой дорожный портфель, заменявший ему чемодан, щёлкнул замками. Услышав весёлый голос дочери, вышел из своего домашнего кабинета и постучался к ней в комнату.
- К тебе можно, Наташа?…
Наташа вопросительно повернулась к отцу. Он редко разговаривал с ней. В далёком детстве, когда случалось ей что-нибудь натворить, и мать призывала его на помощь в качестве « тяжёлой артиллерии», Алексей Петрович сердито стучал пальцем по столу и, сурово глядя на неё, говорил:
- Ну, погоди… Вот я до тебя доберусь!
Нельзя сказать, что эта фраза имела какое-то воспитательное действие, но само участие в педагогическом процессе столь грозной силы на время смиряло буйный характер дочери. А когда позднее в подростковом возрасте проблемы и поступки стали намного серьёзнее, Алексей Петрович садился рядом с Наташей на диване и спрашивал, глядя на неё в упор:
- И что ты собираешься делать дальше?
Что и говорить, педагог он был никудышный. Не познав в детстве родительской любви и заботы, не почувствовав тепла отчего дома, проскитавшись в юности по общежитиям, а потом и проведя несколько лет в лагере, откуда ему было знать, каким должен быть настоящий отец? Он был плохим отцом. Конечно, он любил Наташу, всегда очень переживал, когда она тяжело болела в детстве, беспокоился, старался принести домой что-нибудь вкусное, достать нужные лекарства, которых после войны было очень мало… Но проблемы дочери, её семейная жизнь, любые события по эту сторону института не могли надолго занять его. Он тяжело переживал Наташин развод, вообще понятие «развод» для него, человека старого поколения, было совершенно абсурдным. Как можно было думать о разводе, имея сына?! Но помешать этому разрыву он не смог, по-своему сожалел об одиночестве дочери, и не терял надежды на восстановление её семьи…
Немного смущаясь, он присел на стул рядом с ней.
- Я вот что хотел сказать тебе, Наташа…- Этот разговор с дочерью давался ему нелегко. На его лбу выступила испарина. - Мы с матерью старые уже, и Славка в армию уходит… Ты не боишься остаться совсем одна?
Наташа удивлённо посмотрела на него. Подобная беседа происходила впервые.
- Что так мрачно, пап? - Попыталась она отшутиться. – Нет повода для таких трагических интонаций…
- Я говорю серьёзно, - даже не улыбнулся Алексей Петрович. – Я до сих пор не могу понять, чем тебе не угодил Владимир … Главный инженер такого огромного предприятия, работоспособный, перспективный… - Наташа улыбнулась. - Я бы очень хотел, чтобы вы помирились.
- Вся беда в том, папа, что мы не поссорились… Просто мы очень разные люди, вот и всё.
- Разные люди… Мы с тобой тоже - очень разные люди… - Покачал головой отец. - А ты никогда не задумывалась о том, какие мы с матерью разные? И, думаешь, я стал бы тем, кто я есть, если бы не чистые рубашки и горячий обед на столе?
- Перед мамой я просто преклоняюсь. Я бы так не смогла…
- Как «так»? Ты думаешь, она всегда мечтала быть только домашней хозяйкой?
Наташа внимательно посмотрела на отца. Не много она знала о прошлом своих родителей, никогда при ней не вспоминали они о репрессиях, не обсуждали в её присутствии тяжёлые события внутри страны. Как любой маленький ребёнок, все лишения своего голодного нищего детства она воспринимала естественно, многого из-за малолетства и частых болезней не помнила. Она училась в седьмом классе, когда умер Сталин, и в дни траура плакала навзрыд вместе с другими девчонками. И когда после знаменитого выступления Хрущева в её классе на месте портрета вождя над учительским столом вдруг повисла мусорная корзина, Наташа была в полном недоумении. Но дома и в этот раз с ней не стали обсуждать эту тему, родители переглянулись, когда она недоумённо рассказала об этом, и только мать скороговоркой проговорила что-то вроде: « Подрастёшь – узнаешь»…
Заговорив о жене, Алексей Петрович вдруг надолго замолчал, задумался. Наташа не шевелилась: таким она видела его очень редко.
Зоя Васильевна никогда не была только тенью своего мужа. Смышленая девчонка из большого сибирского села, мать которой была местным счетоводом ( сельская интеллигенция, между прочим!), она закончила девять классов школы в соседнем уездном городе. В те времена девять классов были серьёзным образованием, из выпускников готовили преподавателей начальной школы. Весёлая, озорная, заводила и насмешница, она верховодила не только пионерами, но и своими ровесниками. Когда в городе вдруг открылся геологический техникум, это было так ново и интересно, что Зоя, не задумываясь, туда поступила. Училась легко, на лету запоминая не только хитрые названия многочисленных минералов, но и сложные химические формулы и реакции. На летней практике побывала в геологической экспедиции на Алтае, и не раз потом со смехом рассказывала Наташе, как ловила свою маленькую горную лошадку, которую ей выделили для перевозки образцов породы. Лошадка оказалось хитрой и вредной – подпускала к себе, а как только Зоя протягивала к ней руку, лёгкой трусцой убегала вперёд. Погоняв так по горным тропинкам усталую от работы девчонку, лошадка вдруг сдалась, спокойно подставила своё седло и быстро доставила её в лагерь…
Но с техникумом пришлось расстаться. Старший брат Зои, офицер Красной Армии ещё с Гражданской, был переведён на службу на Дальний Восток. Чтобы не расставаться с больной матерью и сестрёнкой, он забрал их с собой. Зоя не слишком горевала – новая жизнь манила её, а приобретённые в техникуме знания по химии неожиданно пригодились – она устроилась на работу в лабораторию на тот самый комбинат, куда был направлен после института молодой инженер Алексей Соколов. Так они познакомились. На комсомольских собраниях, которые он проводил, она всегда садилась где-то сзади. Многочисленные цветы с окон лаборатории переезжали на её стол. Она пряталась за ними от смущённых взглядов красивого парня с буйной каштановой гривой, и только изредка из своих кустов бросала в его сторону ядовитые реплики, от которых покатывались от хохота все девчонки лаборатории… Алексей смущался и злился, но… В конце концов они подружились, и, наконец, решили подать заявление в ЗАГС. Был назначен день и время… Зоя так нервничала, так переживала тогда… И нарядная, аккуратно причёсанная мамой, в новых туфлях, которые безумно жали, она прождала его больше двух часов. Он прибежал взлохмаченный, возбуждённый и в дверях вместо извинений громко объявил, что у него пошла реакция, которая, чтоб её! не шла почти полгода, а тут пошла, что у него времени всего полчасика, и что они сейчас должны быстренько сбегать и подать заявление…
Они были очень близки в то время... Вместе бегали на курсы Ворошиловских стрелков. Получили свои удостоверения, честно отпрыгав необходимое количество прыжков на парашюте и отстреляв положенные очки в тире… Получили свою квартиру, забрали маму, и наконец, наступило время приятного ожидания перемен: кто же родится – мальчик или девочка?..
И тут грянул тридцать седьмой. Сначала арестовали брата Зои, который был слишком близок к высшим чинам Дальневосточного штаба. Он исчез бесследно, только после войны Зоя Васильевна узнала, что он был расстрелян в том же тридцать седьмом. Потом пришли за Алексеем. Зою, к счастью, не тронули, но с работы уволили. От всех переживаний Наташку она не доносила, и Зоя почти не верила, что её удастся спасти. Очень помогла мама – женщина болезненная, но самоотверженная. От голода и нищеты спасал огород – Зоя работала на нём с утра до вечера, слава Богу, повезло с погодой. С дочуркой оставалась мама, едва передвигавшая огромные отёчные ноги. Через год мама умерла, и Зоя осталась совсем одна. Сестра и брат Алексея были далеко за Уралом, и, по своим неписанным законам, репрессированные не обращались за помощью к родственникам, боясь навлечь на них свою беду. Всё, что можно было продать или обменять на продукты, было продано и обменяно. Из квартиры её выселили. Сначала весь Зоин скарб помещался в двух небольших чемоданах с коваными углами. Потом остался один, но вещей становилось всё меньше и меньше, и когда от чемодана оторвалась ручка, Зоя выбросила и его. Весну и лето она прожила в своём сарае с протекающей крышей. В сарае была глубокая клеть, которую Алексей сделал для угля. Которым топили в доме печку, в ней она спала вместе с Наташкой, как в сундуке. По крайней мере, здесь не дуло. Осенью соседка тайком пустила их в свою времянку. Времянка была светлой и сухой, это было так замечательно… Всё-таки мир не без добрых людей – потихоньку ей подбрасывали то лоскутное одеяло, то старый ватник, то ещё прочные галоши. Осенью перепадала и картошка , и какой-нибудь подгнивающий кочан капусты… На постоянную работу устроиться было невозможно, но на разовую, видимо, жалея, её даже звали . Она пилила кому-то дрова, мыла лестницы, чистила выгребные ямы… Неведомо как, но Наташку она спасла. Постепенно начало немного сниматься напряжение: стали возвращаться некоторые уцелевшие от расстрела репрессированные. Зою взяли уборщицей на свой комбинат и даже впустили в одну из комнат прежней квартиры, которая так и простояла с заколоченной дверью эти долгие три с лишним года…
Неожиданно вернулся Алексей. В ту первую ночь они сидели в темноте, тесно прижавшись друг к другу и молчали. Перед ними на постели лежала спасённая ею маленькая дочка. Она крепко спала, раскинув в сторону тёплые ручонки. Слова не шли, и вопросы не задавались. Они просидели до утра, так ничего и не сказав друг другу.
А через несколько месяцев грянула война. Алексея на фронт не взяли. Здесь на Дальнем Востоке ждали войны с Японией. Ко времени своего ареста ещё в тридцать седьмом инженер Соколов сумел стать ведущим специалистом в области производства водорода. Шёл июль сорок первого. Водород был необходим для дирижаблей, которыми должны были закрыть мост через Амур. Алексея командировали на строительство завода. Зоя опять осталась с Наташкой одна. Мужа она не видела до ноябрьских праздников. Он был на казарменном положении, почти не спал, питался вместе с солдатами из полевой кухни - строительство не останавливалось ни на минуту. Завод сдали раньше установленного срока, Амурский мост был закрыт…
Потянулись длинные военные годы. Алексея перебрасывали с одного военного объекта на другой… Но как только освободили Харьков, его срочно перевели туда – восстанавливать отраслевой комбинат. Так они оказались в разгромленной, обездоленной Украине. Поселились в пригороде Харькова в одном из принадлежащих комбинату жилых домов, половина которого была разрушена попавшей в него бомбой. Со знаменитой Холодной горы осторожно сползал вниз маленький трамвай, лавируя между руин и осколков зданий. Было голодно. Опять кормил огород, теперь и маленькая Наташка посапывала рядом с матерью, пропалывая грядки. При самой жестокой экономии денег едва хватало. Большая часть зарплаты уходила на облигации внутреннего займа, которые коммунистам вручали в парткоме. Зоя едва сдерживала слёзы, глядя, как Наташка, съев кисель, громко стучит ложкой выскребая последние его капли из кастрюльки: стакан крахмала на рынке стоил сто рублей. А сама Наташа, как одно из самых ярких картин своего безрадостного детства, помнила весёлое лицо молодого отца, держащего над головой буханку белого хлеба, и себя, прыгающую вокруг него и визжащую от восторга: « Белый хлебушек! Белый хлебушек!»...
Но в доме была валюта: маленький мыловаренный заводик на комбинате дарил своим сотрудникам по три куска чёрного хозяйственного мыла в месяц. Такой кусок мыла можно было обменять и на сахар, и на какие-то вещи, и заплатить водопроводчику за ремонт крана на кухне…
Теперь у них была своя квартира, в кухне плита была всегда горячей, а в двух больших комнатах можно было натопить печки, была чистая постель и тёплая одежда. Понемногу налаживался быт. Наташка пошла в первый класс. Всё, что хотела Зоя для себя, всё, что не сумела получить в детстве и молодости, она теперь старалась дать дочери. В доме появились книги, много книг. Зоя читала запоем, читала и с Наташкой все детские книги, которые не удалось прочитать раньше. В соседнем посёлке открылась музыкальная школа, и Зоя отдала Наташу учиться музыке. Но купить рояль или пианино в разрушенном войной городе было почти невозможно. Зоя придумала выход: первые свои гаммы Наташка играла на перевёрнутом корыте…
Но вскоре судьба свела её с двумя женщинами - сёстрами-близнецами, которые жили неподалёку в своём частном доме. Сёстры принадлежали к какому-то старинному дворянскому роду, и чудом уцелели от репрессий. Но война их не пощадила. Господь Бог чертил их жизни под копирку: у обеих погибли на фронте мужья. У обеих были дочери, почти ровесницы. Девочки едва окончили школу, как началась война. Напуганные молодёжным сопротивлением в Донбассе, фашисты по малейшему доносу хватали всех комсомольцев подряд. Девочки были комсомолками. Они были схвачены и посажены в тюрьму вместе с десятками других своих сверстников перед самым освобождением Украины. С ними не стали церемониться: оставляя Харьков, немцы комсомольцев расстреляли. Всех. Сёстры – близнецы остались одни.
Они работали на комбинате вместе с Алексеем Петровичем, ездили по воскресеньям в церковь, тихо отмечали Пасху и Рождество, и вместе с другими несчастными родителями подолгу стояли у края огромного рва, в который были свалены трупы их детей, ставшего для них братской могилой.
Под окошками их дома тянулись вверх разноцветные мальвы, на длинной веранде всегда пыхтел грустный керогаз, в комнатах стоял особый запах старой, почти антикварной мебели, но самое главное – здесь было великолепное, хорошо настроенное пианино со старинными медными подсвечниками на передней крышке. Обе сестры были прекрасными музыкантшами, они с радостью предложили Наташке заниматься музыкой у них в доме и строго контролировали выполнение всех школьных заданий. После урока в качестве вознаграждения она неизменно получала чай с вареньем, которое тут варили по старинным дворянским рецептам. Наташа долго вспоминала потом те райские яблочки в золотом медовом сиропе, которые ставились перед ней в красивой резной розетке…
Алексей пропадал на комбинате сутками, и как-то вдруг, неожиданно для самого себя, защитил кандидатскую степень. Диссертацию не писал, но за военные годы и при восстановлении комбината им было сделано немало изобретений – жизнь заставляла находить выход из безвыходных положений: только закончилась война, голод и разруха царствовали на Украине, не хватало сырья, производственных агрегатов, запчастей к ним…
Но едва комбинат заработал в полную силу, едва Соколов получил удостоверение кандидата наук, поступил приказ о его переводе в Ленинград. Ещё во время войны он стал членом партии и подчинялся партийной дисциплине беспрекословно.
Зоя робела перед новой жизнью, было боязно за Наташку, за себя. Но в Алексее она была уверена. Он уехал первым, получил какое-то жильё, устроился кое-как… Как только закончились занятия в школе, Зоя с Наташей поехали за ним…
В Ленинграде в те годы жизнь была довольно странной. Жилья не хватало, дома были разрушены войной, и многие одноклассницы Наташи жили в сырых подвалах, оборудованных под квартиры. Круглые сутки перед их окнами сновали чьи-то ноги, в дождь по оконным рамам ручьями стекала вода, а в снежные зимы окна заваливало сугробами…
Но в магазинах было много продуктов, здесь была не только колбаса, о существовании которой Зоя просто забыла, была рыба, икра, крабы и многое другое. Весело звенели трамваи, гудели машины, ходило множество автобусов. Семью директора поселили в старом флигеле прямо во дворе института. Вскоре жизнь совсем наладилась. Наташа ходила в школу, занималась балетом и музыкой во Дворце пионеров, Алексей пропадал на работе. Фанатическая борьба за выживание, когда один день был похож на другой так, что год сливался в месяц, а событий за месяц едва хватало на неделю, этот бешеный марафон по жизни вдруг кончился, и Зоя, внезапно остановившись, растерялась. Ей только что минуло сорок лет, и она вдруг с ужасом поняла, что лучшие годы прошли в этой неравной схватке с жизнью, что их невозможно вернуть, чтобы прожить её заново... А тут ещё Наташка совсем отбилась от рук: начала прогуливать уроки, уводя за собой половину класса, забросила музыку, влюбилась… Перепалки с дочерью не кончались ничем. Наташка в это время была яростной спорщицей, всегда старалась оставить за собой последнее слово… Однажды случилась и такая история: она мыла пол, а Наталья стояла, подперев плечом дверной косяк, и откровенно хамила. И Зоя не выдержала – шлёпнула грязной тряпкой девчонку по физиономии. Наташка не вскрикнула, не ойкнула. Повернулась на каблуках и ушла к себе. А Зоя опустилась на табуретку и тихо заплакала. Она вдруг почувствовала такую пустоту, такое одиночество, такую горечь! Ей некому было рассказать о своих переживаниях. Как многого ей хотелось в юности! Каким интересным и удивительным представлялось будущее! Перед Натальей она, конечно, извинилась, та промолчала, ничего не ответила, но вести себя стала чуть получше, а, может быть, Зое так хотелось думать… Она тихо плакала по ночам, боясь разбудить Алексея, который очень уставал на работе. Но однажды он услышал, решил, что она плачет во сне, тронул её за плечо. Зоя не откликнулась, затихла. Разве был виноват её муж в том, что так сложилась их судьба?
Но Зоя Васильевна была мудрым человеком. Переживания были очень глубокими, но недолгими, вскоре она сумела пересмотреть свою жизнь. Она неистово вцепилась в город, в котором теперь жила. Дом наполнился книгами, художественными альбомами и классической музыкой. Все свои первые оперы Зоя Васильевна слушала с пластинок, усаживая рядом свою вертлявую дочь. Она таскала её по залам Эрмитажа почти за шиворот, покупала кучу абонементов в концертные залы и музеи, возила в парки, где императорские дворцы ещё были погребены под руинами, но работали фонтаны в Петергофе, а в Павловске были вновь проложены её любимые Двенадцать дорожек… Она часто ходила в театры, иногда ей удавалось вытащить с собой мужа, но больше – с дочерью, а то и совсем одна…
Алексей с годами всё больше углублялся в работу и всё дальше отстранялся от дома. Он по-прежнему делился своими проблемами, рассказывал о конфликтах с сотрудниками, о творческих удачах. Он внимательно выслушивал мнение жены, считался с ним. Зоя прекрасно разбиралась в людях, намного лучше, чем Алексей Петрович – научила прожитая жизнь. Она умела разглядеть лесть и лицемерие, которые Соколов с годами стал принимать за искренние проявления чувств… Но всё это имело отношение только к нему, к его работе, к его детищу – институту. Подруг у Зои Васильевны не было: жизнь заставила её быть сдержанной и немногословной, многие считали её высокомерной. Она была в добрых отношениях с соседками по дому, иногда перезванивалась с родительницами одноклассниц дочери. Соколовы отмечали праздники в обществе сотрудников Алексея Петровича, с ними же иногда выезжали на пикники и лыжные прогулки… Но, честно говоря, Зоя Васильевна недолюбливала кое-кого из них и скрывала это с трудом. Искренних и преданных друзей мы находим только в юности, а в зрелые годы это бывает так редко!
Молчание отца затянулось. Наташа терпеливо ждала, когда он вспомнит о ней и вернётся откуда-то из глубины своих размышлений. Он вдруг очнулся, тряхнул своей лысой головой.
- Я вдруг подумал, что наша мать, в сущности, – очень одинокий человек… Мне никогда раньше не приходило это в голову… Наверно, я перед ней виноват… И всё-таки мы вместе. Жизнь у всех по-разному складывается, дочка… Жизнь - она большая… Обещай мне, что ты обо всём поразмыслишь, пока меня не будет.
- Обещаю, папа, - вздохнув, согласилась Наташа.
В прихожей позвонили. Они оба встрепенулись.
- Кто-то пришёл, - поднялась с места Наташа.- У Славы есть ключ…
- Отдыхай… Я открою…
Алексей Петрович, шаркая шлёпанцами, направился в прихожую, и не спрашивая, распахнул дверь. На пороге стоял смущённый мужчина, без пальто и тоже в шлёпанцах.
- Простите за беспокойство… Я ваш новый сосед с пятого этажа… У меня что-то с телефоном… У Вас работает?
Алексей Петрович снял трубку настенного телефона, висевшего здесь же в прихожей, прислушался.
- Работает…
- А у меня даже гудка нет… Вы не позволите позвонить? Я быстро… Мне очень нужно, по делу…
- Пожалуйста…
Алексей Петрович посторонился, освобождая место у телефона. Сосед втиснулся между пальто - прихожая была тесной, и быстро набрал номер. Соколов ещё немного потоптался, почти не прислушиваясь к чужим деловым переговорам, и, всё также шаркая, направился к жене в кухню.
- Садись обедать, - Зоя Васильевна ставила на стол приборы.- Я рыбы нажарила в кляре, как ты любишь… - И позвала, - Наташа! Ты где там?
- Я здесь… Славку ждать не будем?
- Отец торопится…
Они ещё немного поговорили так, ни о чём… Через несколько минут громко хлопнула дверь в прихожей.
- Сосед ушёл, позвонить приходил, - пояснил Алексей Петрович.- У него что-то с телефоном…
- Надо дверь закрыть… - Поднялась с места Наташа.
Всегда тесная прихожая показалась ей какой-то странной. Удивлённо оглядевшись, Наташа ахнула. Вешалка опустела почти на половину, а самое главное, в том месте, где лежала коробка с волшебной шапкой, зияла пустота.
- Мама! - Пронзительно, как в детстве, крикнула Наташа.
Она так крикнула, что мать с отцом мгновенно оказались рядом с ней.
- Вот… - Только и смогла выговорить Наташа, указывая рукой на вешалку.- Наши пальто… И моя шапка…
Она села на тумбочку и горько заплакала.
Дверь всё ещё оставалась незапертой, и когда Славка вошёл, он застал немую сцену, которая поразила его своей неожиданностью. Его мать сидела на тумбочке в прихожей и плакала навзрыд, как ребёнок, бабушка, молча, гладила её по голове, а дед виновато сопел, прижавшись к дверному косяку.
- Что у вас тут стряслось? - Уставился на них Слава.
Дед вздохнул, и ничего не ответив, заскрёб шлёпанцами в сторону кухни.
Через несколько минут все вместе опять сидели за обеденным столом. Наташа всё ещё всхлипывала, а Слава пытался разрядить обстановку.
- Мамуля, ну, не огорчайся ты так!
- Я на эту шапку столько лет копила… - Вздохнула Наташа. - Только нужную сумму накоплю, а цену раз - и опять поднимут… Бабушка вот добавила…
- Когда я вырасту большой, - дурачился Славка. - Я куплю тебе тысячу новых шапок!
- Ешь, Буратино…
Алексей Петрович Соколов, приняв однажды решение, не менял его никогда. Он, и в самом деле, понимал, что с дальними поездками и командировками надо заканчивать. Длительные переезды, ночёвки где попало, скверное питание - всё это с возрастом стало выбивать его из колеи. Он всё чаще чувствовал какую-то тошнотворную слабость, желание прилечь, спрятать от всех неожиданное головокружение, закрыть глаза. В какой-то момент он признался самому себе, что настало время круто менять жизнь. Он не помышлял о том, чтобы совсем уйти с работы, это было просто невозможно, но с директорством надо было заканчивать. Впереди был очередной юбилей, и Алексей Петрович решил после него торжественно закрыть шлагбаум. Беда была в том, что Соколов не видел своего преемника. Он искал себе замену, подходя к следующему поколению со своими мерками давно ушедшего времени. Он искал человека - своё точное продолжение, а таких сегодня не было. Быть может, Сакен едва-едва дотягивался до той планки, которую держал перед ним Соколов, но во-первых, он только собирался защищать кандидатскую диссертацию, а во- вторых, в нём, так же, как и в других, молодых, было много непонятного Алексею Петровичу, пугающего, отталкивающего… Но слова о «прощальной гастроли», сказанные домочадцам, кокетством не были. Он полетел в Среднюю Азию по делам, одно из которых было сугубо личным.
Старшая сестра Алексея Петровича Ольга, начала искать мать ещё до войны… А после лихолетья, когда тысячи тысяч потерявшихся разыскивали друг друга по всему миру, найти кого-то было почти невозможно… Но Ольга всё-таки нашла - место могилы. Как это её удалось, одному Богу известно… А вот съездить туда не успела. И хотя Алексей Петрович мать не помнил и, дожив до старости, так и не смог ни понять её, ни простить, он посчитал своим долгом выполнить заветное желание покойной сестры - съездить на могилу матери…
Путешествие для пожилого человека было нелёгким. Он прилетел в Ташкент на два дня раньше назначенного времени, тут же в аэропорту договорился с частником, и, не думая о деньгах, поехал в отдалённый кишлак за двести километров от Узбекской столицы. Здесь, с трудом разогнув затёкшие ноги, Соколов вышел из машины и расплатился с водителем. Потом легко разыскал Дом колхозника, в котором, как он и ожидал, не было ни одного свободного места. Алексей Петрович много лет разъезжал по Средней Азии, бывало, месяцами жил в маленьких городках и кишлаках: под его руководством здесь строились заводы, приходилось подолгу отлаживать технологический процесс. Ночёвка на сдвинутых стульях возле рабочего стола дежурной Дома колхозника была привычным делом. Но сказывался возраст и полнота, старик боялся лишний раз пошевельнуться, долго не мог заснуть, и, в конце концов, под утро стянул матрас прямо на пол…
Телегу то трясло, то подбрасывало. Сверху припекало ещё жаркое в этих местах солнце, было душно, и клубы пыли выкручивались из-под колёс. Алексей Петрович снял свою летнюю кепку, вытер носовым платком лицо и лысину. На платке осталось грязное пятно.
- Даже не верится, что сейчас в Ленинграде идёт холодный дождь, - вздохнул он.
Пожилой узбек, легко управляя поджарой южной лошадкой, говорил быстро с сильным акцентом.
- Стрелочники на том переезде всегда русские были. Если кто умирал, русские же на его место и приезжали. А все, кто там умерли, все там и похоронены, неподалёку совсем. А за могилами ухаживает тот, кто сейчас служит на переезде: родственники редко приезжают, далеко слишком.
Наконец, дорога потянулась вдоль железнодорожного полотна. Оно пролегало через бесконечные хлопковые поля, неровные, вздыбленные каменистой почвой. Огромные хлопкоуборочные комбайны, так эффектно показываемые в киножурналах « Новости дня», здесь пройти не могли. Здесь ломались и трактора. По всему полю рядами шли и шли мужчины и женщины. Здесь собирали хлопок вручную.
Проехали мимо рабочего барака с открытой кухней. Возле неё хлопотали несколько узбечек.
- А собирает кто? Колхозники? - Спросил Соколов у возницы.
- Студенты.
- И сколько времени они здесь?
- Второй месяц. Это недолго ещё. Бывает и до Нового года остаются.
- А учатся как же?
- Да вот так и учатся…
Алексей Петрович присмотрелся к работающим людям. Студенты собирали хлопок молча. Лица девушек были завязаны платками до самых глаз. Молодые люди работали полуобнажёнными, подставив солнцу совсем почерневшие спины. Сухие коробочки хлопка больно кололись, у многих пальцы и ладони были перевязаны посеревшими бинтами.
Соколов смотрел на них серьёзно, с уважением. Потом вздохнул, покачал головой.
- Да… Тяжело…
-Тяжело… - Согласился возница.
В стороне от станционного домика, едва прикрытое тенью старого полуистлевшего платана, и находилось это маленькое, на десяток могил кладбище бывших служителей железной дороги. Старуха - стрелочница, в крови которой подозревался целый интернационал, была одета по всей форме, не смотря на жару и одиночество. Она провела Алексея Петровича между могилами к самому платану и указала на деревянный крест с хорошо сохранившейся надписью: « Прасковья Фёдоровна Соколова 1930 год»
Алексей Петрович принёс с собой лопату и ящик с инструментами. Стрелочница, указав могилу, ушла. Возница, напоив свою худосочную кобылу, тоже скрылся от жары в сторожке. Где-то вдали загудел тепловоз и постепенно стал вырастать из-за горизонта и вытягиваться вперёд длинной чёрной лентой…
Алексей Петрович не слишком ловко и умело поправил покосившийся крест и попытался соорудить холмик над могилой, совсем сравнявшейся с землёй. Это у него получилось не сразу: вокруг были только песок и камни, они рассыпались прямо под лопатой. Наконец, работа была закончена, старик опустился прямо на горячую землю, прижался спиной к толстому платану. Он смотрел на крест и тихо покачивал головой.
- Ну, вот… - вдруг тихо сказал он вслух - Вот такие дела, мать… Олю я в Краснодаре похоронил. Всем в жизни ей обязан, из приюта забрала, во всём себе отказывала, а нас с Кешкой вырастила, выучила… Сколько раз её хорошие мужики замуж звали - всем отказывала, боялась, что нам её заботы не хватит… Прожила она восемьдесят лет и всю жизнь тебя искала. А съездить к тебе не успела… Кеша погиб на войне, в Ростове он…
Старик опять надолго замолчал, потом так же тихо и грустно спросил:
- Почему же ты нас не нашла, мать?
Он не сразу смог подняться с земли, подобрал лопату, инструменты и пошёл, обходя могилы, как всегда, сильно сутулясь. Но вдруг остановился, вернулся назад, отложив лопату, похлопал себя по карманам, но ничего подходящего не нашёл кроме колбочки с валидолом. Аккуратно извлёк из неё таблетки и положил их обратно в нагрудный карман. Потом нагнулся, насыпал сухую песчаную пыль с могилы матери в пустую колбочку, и уже не оглядываясь, зашагал в сторону сторожки.
Дорога обратно казалась ещё тяжелее. К горлу подкатывало удушье, Алексей Петрович пыхтел, то и дело вытирая пот со лба. Возница сочувственно поглядывал на своего пассажира, но молчал, не зная, чем можно помочь. Наконец, солнце начало переезжать за их спины, уже не пекло так сильно затылок, и стало немного легче.
Вдали показался быстрый юркий газик, приблизился и проскочил было мимо, но вдруг завизжали тормоза, хлопнула дверца, и кто-то громко и удивлённо позвал:
- Алексей Петрович!
Старик оглянулся: от машины вдогонку за телегой бежал Сакен.
- Какими ветрами сюда? - Не верил он своим глазам. - Мне телеграмму два часа назад принесли, что Вы в Ташкенте только завтра будете…
- Завтра и буду, - усмехнулся Алексей Петрович. - Дело у меня здесь было своё, личное… А ты-то здесь, что делаешь?
- Так на хлопке я … Со своими студентами…- Он задумался на мгновение. - Я сейчас, Алексей Петрович, уехать отсюда не могу, представителя Исполкома встречаю, собрание будет… Может, останетесь до вечера? А потом вместе на машине в город поедем…
Алексей Петрович расплатился с возницей и пересел в газик, который, набрав скорость, быстро покатил по пыльной дороге. Ещё неостывший ветерок через раскрытые окна машины сквозняком обдувал лицо, и Алексей Петрович задышал ровнее и спокойнее…
Пока ехали в машине Сакен и товарищ из Исполкома быстро разговаривали по-узбекски, Соколов помалкивал, рассеянно поглядывая в окно. Сакен горячился, размахивал руками, Исполкомовец, сидя рядом с водителем, отвечал ему что-то назидательным тоном, словно поучая.
Когда они подъехали к лагерю, студенты, собравшиеся у рабочего барака, уже сидели на скамейках, перевёрнутых корзинах, а то и прямо на земле. Среди них были и молодые преподаватели, такие же усталые и закопчённые узбекским солнцем. Представитель Исполкома встал перед ними словно на трибуну и заговорил по-русски, громко, чётко выговаривая слова, отработанного на подобных собраниях выступления.
- Наш узбекский хлопок, наше белое золото с нетерпением ждёт страна. Труд ваш, конечно нелёгкий, но какое истинное удовлетворение он должен приносить!
Алексей Петрович и Сакен сидели на скамейке среди студентов. Ребята слушали выступающего невнимательно, устало перешёптывались, негромко перебрасывались словами. Соколов мрачно поглядывал на оратора, из-под кустистых бровей наблюдал за слушателями.
Сакен наклонился к нему.
- Может, выступите, а? У меня тут Гражданская война сейчас начнётся… Ребята, по честному, очень устали… Я им много про Вас рассказывал, они вас знают по прошлому году помнят… Вам они поверят…
Алексей Петрович покачал головой.
- Мне нечего им сказать… Ведь каждый год одно и тоже…
А представитель Исполкома продолжал.
- Признаю, что ваши недовольства вполне справедливы… И то, что с водой у вас перебои, нам известно, товарищи… Да, вам, действительно, здесь нелегко, но когда людям трудно, они особенно крепко сплачиваются, объединяются…
Сидевший рядом с Алексеем Петровичем студент вздохнул и достаточно громко сказал что-то по-узбекски. Его услышали, и ядовитый смешок прокатился по рядам.
Алексей Петрович повернулся к Сакену.
- Что он сказал?
- «Не болит голова у дятла»…- Чуть смутившись, перевёл тот.
- Скажите, - вдруг спросил с места Соколов - Вы когда в последний раз мылись?
Представителя Исполкома смутить было трудно.
- К чему эти вопросы? - Пожал он плечами. - Конечно, я мылся сегодня и не один раз… Но когда-то я вот так же, как вы сейчас… И тогда я понял, что именно в таких условиях проявляется истинная цена коллектива, его энтузиазм…
Алексей Петрович мрачно продолжил:
- А до каких пор нужно будет проявлять энтузиазм на местах, чтобы прикрыть бездеятельность руководителей?
Студенты зашевелились, с любопытством повернулись к Соколову. Он поднялся с места и продолжил.
- Такая работа никому и никогда радости не приносила. Советской власти шестьдесят с лишком лет, а в передовой республике собираем белое золото прапрадедовским способом, и при этом совершенно не заботимся о людях, которых превратили в рабов… Я лично ничем этим ребятам помочь не могу, разве только поклониться им за их труд. А вот Ваш долг - не заниматься здесь болтовнёй, а сделать для них всё необходимое…
Он махнул рукой и начал пробираться между тесно сидящими студентами.
Тон Соколова очень не понравился представителю Исполкома.
- А собственно, кто Вы будете? - сдвинул он брови.
- Соколов моя фамилия… - С откровенной ненавистью взглянул ему в глаза Алексей Петрович. Он ненавидел этих болтунов, которые всё больше и заметнее вытесняли людей дела во всех коридорах власти. - Коммунист Соколов…
Сакен смущённо поднялся вслед за ним, повернулся к представителю Исполкома, извиняюще развёл руками…
Молчаливый и мрачный Алексей Петрович занял своё место на заднем сидении газика, Сакен сел впереди, захлопнул дверцу.
- Поехали…
Довольно долго ехали молча.
Сакен в зеркало исподтишка наблюдал за стариком, а тот неожиданно взорвался.
- Ты-то куда смотришь?! Тебе людей доверили… Местное руководство надо было на клочки разнести!
- Да почти разнёс…- Виновато отозвался Сакен. - Потому и представитель приехал…
- От такого представителя толку, видать, не будет… Ты дня два-три подожди, если ничего не изменится, прямо в ЦК республики иди… Это их кровное дело…
Сакен грустно усмехнулся, но промолчал.
День для Соколова выдался слишком тяжёлым. Он очень устал. Грустно поразмышляв ещё о чём-то, он задремал, запрокинув большую тяжёлую голову на спинку сиденья и слегка похрапывая на вдохе.
Алексей Петрович, не зная законов развития атеросклероза, с удивлением стал замечать странные изменения своей памяти. Иногда выпадали из неё какие-то события и разговоры совсем недавнего времени. Это, конечно, не касалось работы, его дела - здесь всё было надёжно и цепко, но по ту сторону своей жизни иногда он не мог вспомнить чего-то важного, существенного, что чрезвычайно огорчало его домочадцев. Но зато всё чаще и подробнее вставали перед ним очень давние перипетии его жизни - то ему вспоминались соседи по лагерному бараку, какие -то маловажные детали того страшного времени, то вдруг наплывали, словно кадры кинофильма, эпизоды юности, первые годы работы на Дальнем Востоке и даже, ясно и свежо, словно это было совсем недавно, события голодных студенческих лет… Вот и сейчас, чем глубже он проваливался в дремоту, тем яснее он видел себя студентом Технологического института, Алёшей Соколовым, всегда бедно одетым, всегда полуголодным.
Всё началось с того, что сестру Олю взял в горничные один из профессоров Техноложки, пожилой, одинокий и очень занятой человек. Но несмотря на свою занятость, он заметил ловкость и сметливость своей горничной, на ходу научил её заниматься не только хозяйством, но и секретарской работой. Пройдя поверхностную школу ликбеза, она едва умела писать, но настойчивость и желание учиться были в крови её поколения, она занималась по ночам, читала всё, что давал читать ей профессор, учила всё, что он предлагал ей выучить и, в конце концов, стала его ассистенткой. Он забрал её в институт, но в помощи по дому нуждался по-прежнему. И Ольга привела к нему своего брата. Алексей жил с сестрой и заканчивал школу. Он рос, денег в их доме всегда не хватало, и хотя Алёша очень стеснялся своей «бабьей» работы, но она была удобна во всех отношениях. К тому же профессор редко бывал дома, а когда приходил, рассказывал о своей работе так интересно и увлечённо, что мальчик полюбил химию, почти совсем ничего о ней не зная. Само собой получилось, что после окончания школы Алёша поступил в Технологический институт. Он учился, продолжая мыть полы в квартире профессора, выгуливать его добродушную овчарку и варить ему картошку на ужин.
А ночью в какой-то маленькой котельной, не забывая подбрасывать уголь в раскалённую топку, Алёша учил химию, бормоча что-то, проверяя себя по трепаному учебнику, писал формулы в тетрадь и решал мудрёные задачи…
Иногда Ольга приносила ему в кочегарку в закопчённом помятом котелке постные домашние щи, с удовольствием смотрела, как вечно полуголодный её братишка мгновенно расправляется с ними, и рассказывала о своих делах – она всё время занималась на каких-то курсах: училась то на стенографистку, то на машинистку, то на химика – лаборанта…
После окончания войны институт, которым руководил Соколов, едва сводил концы с концами. Он влачил жалкое существование даже в блокаду - но работал! Когда в начале пятидесятых Алексей Петрович был назначен сюда директором, ему едва исполнилось сорок лет, а число сотрудников с трудом дотягивало до ста человек. Руководители отделов, лаборанты и технический персонал встретили нового директора настороженно и отчуждённо: война научила его быть требовательным до жестокости. Он вникал во все тонкости работы отделов до самых незначительных мелочей, а самое главное, поставил на проходной специальные часы, отбивавшие на пропусках время явки на работу и ухода с неё. Сотрудники, которые привыкли жить достаточно вольготно, эти нововведения приняли в штыки, в вышестоящие органы понеслись доносы и анонимки. Алексей Петрович писал бесконечные объяснительные, ездил на вызовы то к следователям, то в прокуратуру. По доносам «доброжелателей» несколько раз возбуждались уголовные дела, но Соколов держался стойко и гнул свою линию в институте, не отступая ни на шаг. Прошло немало лет, пока прекратились многочисленные комиссии и проверки, когда авторитет его в районе и в городе стал настолько велик, что даже грозное КРУ стало беспокоить институт достаточно редко. Иногда он получал из прокуратуры малословное сообщение о том, что уголовное дело, заведённое на него по такому-то вопросу, прекращено в виду отсутствия состава преступления. Это всегда вызывало весёлый смех у его домочадцев. Но вся эта многолетняя канитель, эта расплата за требовательность и жёсткость, за неумение идти на компромиссы и проявлять хоть какую-то дипломатичность, стоила Соколову его пышной шевелюры: она заметно поредела и стала быстро седеть…
А борьба за дееспособность института была ненапрасной. В стенах его лабораторий рождались новые интересные идеи, сам Алексей Петрович просто фонтанировал ими, раздавая своим аспирантам темы для диссертаций даже в приватной беседе. Организовывались филиалы и опорные пункты по всем республикам. Разработки института приносили огромный экономический эффект, и докторскую степень Соколов получил за совокупность своих работ.
Много раз ему настойчиво предлагали перейти на работу в Москву. Органы управления промышленностью менялись, были главки, потом министерства, требовались свежие силы. Алексей Петрович отбивался, как мог: превращаться в управленца ему вовсе не хотелось. На время его оставляли в покое, но вскоре всё начиналось сначала. Только через многие годы наверху было принято соломоново решение: Соколов помимо руководства институтом был назначен Генеральным директором своей отрасли пищевой промышленности. Теперь за всё, что происходило на предприятиях этой самой отрасли имело к нему самое прямое отношение. Он отвечал за всё. И в далёком любимом Хабаровске, где помимо филиала института работал отраслевой комбинат, его ждала тяжёлая встреча со старым товарищем, с которым в юношеские годы начинали они свой профессиональный путь, с которым было связано так много милых и дорогих сердцу воспоминаний.
Очень много лет Алексей Петрович не бывал в этих краях. Строительство новых перерабатывающих заводов в Средней Азии и на Кавказе крепко держало его своими бесконечными проблемами. Но сейчас возникла острая необходимость побывать самому и здесь.
А на Дальнем Востоке стоял период осенних дождей. На улицах Хабаровска дождь падал непрерывным потоком на успевшие оголиться деревья. Разбухший, посеревший Амур скрыл в мутных водах свои отмели. На площади перед аэропортом потоки воды раскатывались по асфальту, и прицеливающийся к посадочной дорожке самолёт с трудом угадывался в пелене дождя.
Ещё подгоняли к борту лайнера трап, ещё не успели замолкнуть двигатели, а к самолёту уже подбегал запыхавшийся старик. Он бежал через всё лётное поле, потеряв где-то головной убор, дождь скатывался по его лицу и мокрым плечам, коварная одышка душила его, но он успел во время. Старик нетерпеливо переступал с ноги на ногу и пристально вглядывался в лица ежившихся под ливнем пассажиров, осторожно спускавшихся по скользким ступеням трапа. Наконец, он взмахнул рукой и крикнул сорвавшимся голосом:
- Алёша!
Алексей Петрович, услышал его голос, рванулся вперёд, чуть было не упал, поскользнувшись на мокрых ступенях, но старик подхватил его, они крепко обнялись и замерли надолго, загораживая другим пассажирам дорогу. Но никто на них не сердился, над их головами щёлкали замки чужих зонтов, люди спешили к автобусу, стоявшему неподалёку. Наконец, встречавший спохватился, раскрыл над головой Алексея Петровича большой зонт и, обняв его за плечи, повлёк за собой в сторону машины, стоявшей в стороне прямо у кромки лётного поля.
А за стариками, чуть снисходительно улыбаясь, шёл Сакен, который прилетел на Дальний Восток вместе со своим шефом. Как и положено верному ординарцу, он шёл позади, никому не навязывая своего общества, но готовый в любой момент прийти на помощь.
Завидев их, из чёрной «Волги» выскочил водитель, натянув на голову капюшон непромокаемой куртки, подхватил из рук Алексея Петровича тяжёлый портфель, Сакен сел рядом с водителем, старики - на заднем сидении. Они освободились от мокрых плащей и снова обнялись, вглядываясь в лица друг друга. Машина неслась по загородному шоссе, и стрелки «дворников» суетились по мокрым стёклам.
- Да… Как жизнь быстро пролетела…Столько лет…
- Тридцать девять, Алёша… Я вчера подсчитал. Какие мы с тобой молодые были, когда сюда приехали…
- Почёта было много, а умения - ни на грош…
- А помнишь, как у рогожного знамени клятву давали?
- Рогожное знамя!.. Ведь было такое! Его давали…
- Самому отстающему участку на комбинате! И мы с тобой тогда поклялись, что выведем свой цех в передовые!
- Вот с того всё и началось… - Алексей Петрович на секунду задумался, потом встрепенулся. - А помнишь. Иван, как ты меня на охоте из проруби вытащил?
- Ерунда!
- Не скажи! А какая здесь охота была! Нигде я больше такой охоты не видал, как здесь на Дальнем Востоке… Помнишь, как выезжали все - ты, я, Колька Снегирёв… Кстати, где сейчас Снегирёв, не знаешь? Я во время войны его из виду потерял…
- Да у нас Колька… Где же ему ещё быть! И Василий Фёдоров у нас… Как с войны вернулся, так и работает на комбинате… Без руки, правда… И Клава Седова… Институт закончила, лет двадцать как центральной лабораторией командует… Помнят все тебя… Ждут. Слушай, я что-то забыл… Ты когда с Дальнего Востока уехал?
- В сорок четвёртом… Осенью.
- А меня в начале сорок пятого прямо с фронта отозвали… Сначала на твоё место, потом главным инженером, а с пятидесятого вот директорствую…
- Да…- Кивнул Алексей Петрович - Я всегда вашим комбинатом интересовался, он для меня так и остался родным… А в пятидесятые - как он гремел! Лучший в отрасли!
И тут же замолчал, словно сказал какую-то неловкость, и какой-то холодок пробежал между ними. Алексей Петрович искоса посмотрел на притихшего друга и снова крепко обнял его.
Сакен поглядывал на них через зеркало водителя и улыбался.
- Вот, Иван Кириллыч, - кивнул в его сторону Алексей Петрович. - Мой аспирант, Сакен Мамедов… Между прочим, изобрёл очень дешёвый и экономичный способ извлечения жиров из сточных вод и использования их на корм скоту… Теряем ведь тысячи тонн…
Сакен грустно улыбнулся.
- Способ изобрели. Осталась мелочь - внедрить в производство…
- Да с этим тяжело, - кивнул Соколов. - Может, ты, Иван, возьмёшься?
- Подумать надо… - Покачал головой Иван Кириллович. - Взвесить.
- Экономический эффект - пять миллионов!
- Своя голова - дороже пяти миллионов…
И тут в машине повисла тишина.
На следующий день Алексей Петрович, расстроенный и мрачный, проходил по цехам комбината. Его сопровождали Иван Кириллович, Сакен и несколько человек из Управления. Остановились у рабочего места одной из аппаратчиц. Соколов что-то поискал глазами с одной стороны агрегата, с другой, и не найдя нужного, спросил:
-Скажите, как Вы определяете температуру внутри аппарата?
- Так очень просто же! - Весело отозвалась работница. - Я рукой любой градус чувствую! Двадцать лет на этом месте сижу… Вот здесь надо трогать, вот так… - Она взяла руку Соколова и приложила к корпусу агрегата.- Здесь я Вам все градусы назову точно, как термометр!
Соколов быстро взглянул на директора.
- Так сколько раз я эти термометры просил! – Суетливо начал оправдываться тот. - Где только не искал! Это ведь не только у нас, это везде такая история, по всей отрасли… Нет измерительной техники, не хватает… Даже разговаривать никто не хочет…
Алексей Петрович не дослушал и пошёл дальше, бросив через плечо Сакену.
- Вызывай Кондакова. Лучше него в технологии никто не разберётся…
Дождь всё также поливал дальневосточную землю, не давая ей ни часа на отдых. Во дворе комбината висел большой плакат с объявлением о «Дне Качества», и холодный ветер трепал его раскисшие, надорванные края…
В распахнутые ворота одна за другой въезжали продуктовые автомашины, поднимались на пандус перед цехом реализации. Грузчики в замусоленной спецодежде привычно загружали коробки и ящики с бутылками масла, с разными сортами маргарина, майонеза. Едва одна машина съезжала с пандуса вниз, на её место тотчас же разворачивалась другая…
А посреди двора кисло под дождём импортное оборудование, обшитое давно подгнивающими досками. Установка горбилась и тянулась по двору на добрый десяток метров и оттого была похожа на тело какого- то доисторического динозавра. Перед этим фантастическим чудовищем неподвижно стоял Алексей Петрович. Стоял очень давно. Вода с его промокшей кепки стекала ручьями не только на старческую шею и за воротник провисшего плаща, но и скатывалась по его лицу. Но в бесцветные стариковские глаза она не попадала. Глаза Соколова были сухи.
Из окна своего огромного директорского кабинета смотрел на него Иван Кириллович. Он также очень долго стоял у окна, так долго, что затекли спина и ноги. Он немного пошевелил занемевшими плечами, потёр ноющее от ревматизма колено и вернулся к своему столу. Медленно опустился в кресло и только после этого крепко прижал пальцем дёргающееся в тике веко.
Потом, совсем чужие, они сидели на стульях по разные стороны кабинета и не смотрели друг на друга.
- Два миллиона инвалютных рублей… Два миллиона… - Алексей Петрович провёл ладонью по своему лицу. - Я сам настоял, чтобы эта установка была передана вашему комбинату!
Иван Кириллович ничего не ответил. Соколов встал, прошёлся по кабинету.
- Ну, вот что… - Тон его внезапно изменился, стал властным и безапелляционным. - В конце первого квартала будущего года установка должна работать. Я не знаю, как ты это сделаешь, но она должна работать, чего бы это ни стоило!
- Невозможно… - Покачал головой Иван Кириллович.
Соколов словно танк развернулся к нему.
- Почему?!
Иван Кириллович не ответил, и Соколов повторил:
- Почему?
- Нет пяти комплектных насосов… Отечественные не подходят.
- Как нет?! Я сам руководил закупкой этой установки… Сам следил за пересылкой…
- Украли… - Обречённо вздохнул Иван Кириллович. - Огородники растащили…
Соколов подошёл к нему вплотную, постоял над ним тяжёлый, мрачный и заметно постаревший за эти дни. Слегка покачавшись на пятках, произнёс.
- Скажу тебе прямо… Я буду настаивать на твоём снятии с должности.
Он только с третьей попытки сумел сдёрнуть с вешалки свой плащ, с которого ещё капала вода.
- Алексей! - Тихо окликнул его Иван Кириллович.
- Да…
- Когда-то ты спас меня от ГУЛАГа… Может быть, ты спас мне жизнь…
- Это было очень давно.
- Я никогда этого не забывал. Я знаю, тебя страшно били… Я знаю, у тебя после этого очень слабые лёгкие… Но ты так и не подписал тогда донос на меня…
- Ты не был врагом народа…
- А сейчас? Сейчас ты меня кем считаешь?
Алексей Петрович ничего не ответил. Прижимая к себе мокрый плащ, резко открыл дверь и вышел из кабинета.
- Так ты решил? - Спросил Славку отец. - Что ты будешь делать?
Славка виновато пожал плечами. Они сидели в его комнате. Были совсем одни в квартире, но разговаривали вполголоса.
- Я не могу… - Умоляюще посмотрел на отца Славка.- Они же все против. Я не могу, папа…
- Ну, хорошо… Тогда слушай меня внимательно. Если ты сам ещё такой ребёнок, что не можешь самостоятельно принимать решения, решать буду я. Юбилей у деда в воскресенье?
Славка кивнул лысой головой.
- Хорошо. А в понедельник ты придёшь ко мне и останешься… Я позвоню сюда и скажу, что ты заболел… И в военкомат я позвоню… Или даже заеду, так вернее. Справку о болезни тебе сделают, я уже договорился. Ты понял?
Славка не успел ответить. Раздались резкие звонки междугородней, он бросился в прихожую к телефону.
- Наверно, дед… Из Хабаровска…
Это, и в самом деле, был Алексей Петрович.
- Привет, солдат! - Кричал он в трубку из своего гостиничного номера. - Как дела?
- Нормально, дедушка… Вот причёска новая… - Славка прихлопнул ладонью голую макушку.
Дед понял, засмеялся.
- Бабушка дома? А мать? Ты один? С отцом… Передавай ему привет, скоро увидимся… Все вместе тебя провожать пойдём! Бабушке скажи, что у меня всё в порядке… Завтра я вылетаю в Москву на пару дней, а потом - домой…
Славка положил трубку, медленно вернулся в комнату и, взглянув на отца, виновато развёл руками.
В номер к Алексею Петровичу постучал Кондаков.
- Можно?..
- Заходи…
Кондаков положил на стол перед Соколовым несколько лабораторных журналов.
- Я всё проверил, Алексей Петрович… Отклонения, кажется, и непринципиальные, но в результате получается большой избыток водорода…
- Хорошо, оставь… Я успею просмотреть…
В дверь опять постучали, вошёл Сакен.
- Ну, вот… - Вздохнул Алексей Петрович, собирая разложенные на столе бумаги.- Остался ещё серьёзный доклад на коллегии министерства - и до дому…
Сакен сочувственно посмотрел на него.
- Грустно отсюда уезжать, Алексей Петрович?
- Тяжело…- Отозвался Соколов. - Ведь какой Иван крепкий парень был… Скала! И война его не взяла, такую работу в первые мирные годы завернул, казалось, износу ему не будет… А вот испытания временем не выдержал… Как его жаль, если бы вы только знали!
Вдруг вся гостиница содрогнулась, как от землетрясения. Где-то рядом зазвенели стёкла.
- Что такое? - Встревожился Соколов.- Пограничники?
Кондаков, ближе всех стоящий к окну, выглянул на улицу.
- Слушайте… Это ведь на комбинате… Такой пожар…
Как был - в одной рубашке Алексей Петрович выскочил на улицу. Он бежал рядом со своими учениками так, словно ему тоже было тридцать.
С воем ворвались во двор комбината пожарные машины. Пожарные быстро и слажено разбирали шланги и лестницы, а Соколов метался между ними и всё просил:
- Люди… Там должны быть люди!
Милиция отодвигала к воротам набежавшую толпу. Соколов увидел, как один из пожарных вынес из горящего здания работницу. Лицо её было запрокинуто, она была мертва. Её подхватил на руки Иван Кириллович, понёс куда-то в сторону. Он опустил тело на землю и беззвучно заплакал. Пламя бушевало, не желая смиряться, слизывая всё вокруг. С тресканьем и щёлканьем горела обшивка импортной установки. Соколов подошёл к погибшей, взглянул в её лицо - это была та работница, которая говорила, что измеряет температуру агрегата рукой. Иван Кириллович поднял голову и встретил его тёмный тяжёлый взгляд.
- Я не виноват, Алёша… - Дрожащим голосом сказал он. - Я не виноват. Она сама… Она забыла открыть…
- Мёртвых мы не судим, - с трудом выговаривая слова, сказал Соколов. - Мы будем судить живых.
В высотном здании министерства кипела жизнь. То вместе, то порознь хлопали двери лифтов и кабинетов, по всем коридорам торопливо сновали озабоченные люди. Только в холле перед конференц-залом стояла тишина: здесь проходило заседание коллегии. Зал был полон, не видно было ни одного свободного места. За столом президиума восседал аппарат министерства. Алексей Петрович стоял на трибуне. Он понимал, что стоит на ней в последний раз.
Соколов очень тщательно подготовился к генеральному сражению. Он принадлежал к тому странному поколению коммунистов, которые упрямо и неистово верили в идеалы, не смотря на лагеря и пытки, на расстрелы и уничтожение миллионов, на собственные страдания и унижения. Это они при расстрелах кричали « Слава товарищу Сталину!», писали на клочках газетной бумаги, уходя в последний бой: «Прошу считать меня коммунистом»… Это были «последние могикане», которые шли в партию за идею. За ними шли совсем другие… Мы знаем, зачем шли в партию следующие поколения…
Свой доклад Соколов выверил до последнего слова. Человек дела и практик, он презирал пустую болтовню, всегда оперировал только фактами - за последнее время их накопилось немало. Алексей Петрович знал на что идёт - слишком много бездельников и карьеристов скопилось за последние годы в кабинетах правительства. За свою большую, трудную жизнь он так и не научился менять маски, общаясь с людьми, стоящими на разных ступенях общественной лестницы. Всегда и со всеми Алексей Петрович разговаривал одинаково: сурово и бесцеремонно с виноватыми, добродушно и тепло с теми, кто умел работать… И всё-таки он надеялся, что сегодня его услышат и поймут.
Слушали его по-разному, но всё больше с непроницаемыми лицами, по которым невозможно было угадать отношения к словам оратора. Иногда кто-нибудь в зале, не меняя всё того же каменного выражения лица, наклонялся к уху соседа, бросал одну - две коротких фразы и снова застывал в позе сфинкса. Внимательно слушал Соколова только министр. Все остальные следили за его реакцией.
Соколов читал свой доклад давно, немного осип, но говорил чётко, медленно и вязко, изредка поднимая на зал тяжёлый взгляд из-под сдвинутых седых бровей.
- В нашей промышленности в суточном цикле производства две сотни тонн бензина, десятки тысяч кубометров водорода… Мы работаем при высоких температурах, высоких давлениях, с использованием опасных в пожарном отношении катализаторов… Именно потому в нашей промышленности, как ни в какой другой, должны работать инженерно-технические кадры высокой квалификации, вооружённые приборами автоматического действия… В производственных цехах должны стоять самопишущие приборы: термометры, указатели уровня в закрытой аппаратуре…
Министр отвёл глаза от Соколова, начал рассеянно что-то чертить на белом листе бумаги. Участники коллегии, казалось, начали просыпаться. По залу прокатился неопределённый шумок.
- Да, - вскинул голову Соколов. - Я, действительно, слишком размечтался. В век космических кораблей наша промышленность имеет мизерное количество счётчиков расхода воды, пара, электроэнергии, водорода… Что там говорить - простых термометров для аппаратуры, изобретённых ещё Галилеем, на наших заводах не хватает!
Шум в зале стал сильнее. Председатель поднялся со своего места. Постучал карандашом по графину.
Соколов вздохнул, откашлялся и, уже не заглядывая в тезисы, глядя прямо в лица сидящих перед ним, продолжил.
- Я думал, после всех этих взрывов и пожаров, после гибели людей, после того, как мы потеряли несколько заводов, на всех этажах министерства будет обстановка «чп», в каждом кабинете будет обдумываться вопрос - случайность это или закономерность… Но глубокого анализа так и не было сделано… А ведь коммунисты Карпов и Сидоренко на своих постах замов министра несут прямую ответственность за всё произошедшее…
- Вот и до замов добрался… - Сказал пожилой мужчина своему соседу.
- Между прочим, - отозвался тот, - его документы оформляют на Героя соцтруда…
Его сосед беззвучно присвистнул.
Голос Соколова окончательно осел. Он отпил глоток воды из стакана и закончил.
- Дорогие товарищи! Извините меня. Я был резок в своём выступлении, но по-другому я сказать не мог. Давайте по партийному вдумаемся в то, каким тревожным было выступление Генерального секретаря на Ноябрьском пленуме: «Революция в науке и технике требует кардинальных изменений в стиле и методе хозяйственной деятельности, подлинного уважения к науке, умения и желания советоваться и считаться с ней»…
Двери конференц-зала, выходящие в просторный холл распахнулись одна за другой. Сразу стало очень шумно и многолюдно. Мужчины дружно похлопывали себя по карманам в поисках сигарет, лица людей оживились, приобретали своё обычное естественное выражение. Толпа постепенно расплывалась по лестницам, коридорам и лифтам.
- Да… - Неопределённо покачал головой один из группы собравшихся у окна. - Ничего не скажешь…
- А мне его просто жаль… - отозвался другой. - Мужик он, конечно, честный, но наивный и в обстановке совершенно не ориентируется. Не понимает, что сейчас вот так…- он описал в воздухе дугу, - гораздо большего добьёшься, чем ежели будешь лезть напролом.
- А немного ли он на себя берёт?! - Вмешался в разговор ещё совсем молодой работник министерства. - Изображает из себя какого-то прокурора… Кто он вообще такой, этот Соколов?!
- Кто такой Соколов? - Повернула к нему голову случайно проходившая мимо пожилая сотрудница. - Коммунист. - И повторила ещё раз. - Коммунист, как вы и я. Только он честнее и порядочнее нас, он-то никогда не скурвится. И потому, пока живы Соколовы, есть надежда, что жизнь не остановится…
Она прошла дальше, а мужчины замолчали, спрятав глаза друг от друга.
А Соколов на трибуне собирал свои разбросанные тезисы. Он очень устал. Тонкие листы доклада упрямо выскальзывали из его дрожащих пальцев. Не глядя на него, быстро покинули свои места члены президиума. Только министр задержался, он медлил, поглядывая на Алексея Петровича. Казалось, хотел подойти, что-то сказать… Но постоял минуту, подумал, да так и не окликнул, тоже ушёл - в дверях его ждали. Наконец, Соколов собрал все свои бумаги в папку, устало спустился с трибуны и пошёл было вдоль длинного стола президиума с беспорядочно сдвинутыми стульями. Но вдруг ноги его дрогнули, подкосились, и он едва успел присесть на один из них. Алексей Петрович опустил тяжёлые руки на стол вместе со своей папкой и замер надолго, низко наклонив голову.
Когда рассеялся туман перед глазами и стало легче дышать, он поднял глаза и посмотрел в зал. В огромном конференцзале министерства он был совершенно один.
Героя Социалистического труда Соколову не дали. Из Главка не прислали даже поздравительной телеграммы с юбилеем. Он был к этому готов и легко смирился, хотя с годами стал обладать достаточным тщеславием. Но буквально накануне своего дня рождения он получил другое известие, которое совершенно выбило его из колеи. Он не сказал об этом ни жене, ни дочери, ни своим ученикам - ему конфиденциально сообщили, что готовится приказ о снятии его с должности. Соколов понимал, что уходить надо, но он хотел уйти сам, по собственному желанию, найдя себе достойную замену. Но его доклад сработал как катализатор. В Москве пришли к выводу, что Соколов очень постарел и плохо ориентируется в обстановке, что со своей наивной принципиальностью и прямолинейностью он не вписывается в современную жизнь, что у него с годами развилась мания величия, которая мешает ему контролировать собственные высказывания и поведение. И хотя с молодости Алексей Петрович любил шумные застолья, за праздничным столом он думал только о том, на кого оставит институт, своё детище, своего ребёнка…
Молодые аспиранты, приглашённые в гости, водили вокруг него хоровод и дружно пели: « Как на шефа именины…». Алексей Петрович стоял в центре круга, довольно посмеивался, растроганный, но голова его была занята только одним - кого в Москве назначат на его место. Среди аспирантов были неизменные Кондаков и Сакен, оба с жёнами. Несколько молодых учеников Соколова тоже были здесь, вместе со Славкиным отцом гостей насчитывалось человек десять. А в глубине комнаты стоял задвинутый туда большой обеденный стол с недавно порушенной красотой.
На кухне кружились Зоя Васильевна и Вера. На сковородках пузырилось жаркое.
Одна из аспиранток села за пианино.
- Алексей Петрович, заказывайте, что играть… Маэстро всё может!
Старик с улыбкой пожал плечами.
- Играйте, что хочется…
Наташа подошла к инструменту.
- У нас папа все песни поёт на мотив «Катюши»… Но самая любимая - вот эта… - она склонилась к пианино и наиграла одной рукой, подпевая себе неожиданно сочным, грудным голосом « Ничего, что ты пришёл усталый…»
Аспирантка кивнула и подхватила сразу двумя руками.
- «И виски покрыла седина»…
- Смотри-ка, помнишь… - Алексей Петрович растроганно посмотрел на дочь. И громко позвал. - Зоя! Где ты там? Иди сюда!
Зоя Васильевна вошла, вытирая руки о полотенце.
- Там мясо…
- Подождёт мясо, Вера присмотрит. - Он приобнял её за плечи. - Посиди, старушка, со мной рядом, послушай…
Они сидели рядышком на диване, а молодёжь, столпившись у пианино, смотрела на них, улыбаясь, и пела.
-« Пусть дни идут, идёт за годом год…»
Славка зашёл на кухню, потолкался вокруг Веры.
- Странно, правда? - Вдруг задумчиво сказал он.- Вот Дмитрия Павловича в госпиталь вызвали, он ушёл, и дед один среди молодых остался… Я в первый раз понял, что у него никого нет кроме нас и твоего дедушки… Почему это, а?
Вера пожала плечами.
- На дружбу, между прочим, время нужно… А дед твой все двадцать четыре часа в сутки на работе…
Пока снова сели за стол и произнесли несколько тостов, Алексей Петрович с улыбкой смотрел на своих учеников, но вдруг отвлёкся, погрустнел и тихо сказал жене.
- Понимаешь, я даже главному редактору звонил… Говорю, сократите половину статьи… Не нужны мне эти комплименты… Уберите то место, где говорится, что я Государственную премию в фонд Мира передал… Лишнее это всё… Оставьте только…
- Бабуля! - Послышался из кухни Славкин голос. - Вера без тебя зашивается!
Зоя Васильевна, успокаивая, мягко похлопала мужа по руке, и, не дослушав, поспешила на кухню, прихватив с дивана полотенце. Гости перестали петь, включили магнитофон, и квартира сразу наполнилась совсем непонятной Алексею Петровичу музыкой. И танцевать все начали сразу, вместе, столпившись посреди комнаты. Старик грустно смотрел на них и, наверно никого не видел, думая о своём. И вдруг совершенно невпопад и ни к кому конкретно не обращаясь, сказал:
- Мне сегодня из нашего отраслевого журнала звонили… Извинялись… Говорят, вся юбилейная статья обо мне не помещается… Они её сократили… « Мы, - говорят, - выбросили период Вашей деятельности во время войны…» - Он горько покачал головой. - Обидно…
Когда Алексей Петрович заговорил, гости не сразу, но шуметь перестали, хотя музыку сделать потише не догадались. Старика выслушали вежливо, но ничего не поняли, и едва он замолчал, запрыгали и закружились снова, изрядно охмелевшие от вина.
Соколов сидел один на диване, тихо покачивал лысой головой. Славка вошёл в комнату, его тут же затащили в центр круга, и он запрыгал тоже, по- мальчишески смешно выкидывая длинные ноги. Но случайно увидел глаза деда, и веселиться почему-то расхотелось. Он перестал скакать, вышел из круга и присел рядом с Алексеем Петровичем.
- Ты что такой, дедушка? Чего это вдруг?
- Ты понимаешь… - Старик почти не смотрел на внука, ему надо было просто выговориться. - В первые месяцы войны на Дальнем Востоке очень тревожно было… Немцы - немцами, а тогда ещё войны с японцами ждали… Вот мне и было приказано… Нужно было срочно завод построить по производству водорода… Для заполнения дирижаблей… Дали мне всего-то взвод солдат, вот мы и строили… Совсем не спали… - Алексей Петрович вдруг улыбнулся своим воспоминаниям. - Завод наш должен был принимать командующий фронтом, а я его не дождался, так в цехе на скамейке и заснул. Когда Командующий приехал, меня побежали будить, а он не разрешил, так и принимал завод без начальника производства… Меня и к награде тогда приставили, только ведь сорок первый год… Где-то потерялись документы… Вот такие дела…
Может быть, впервые в жизни Славка так внимательно слушал деда.
- Дедушка, почему ты мне никогда ничего не рассказываешь?
Алексей Петрович не знал, что ответить. Он растеряно пожал плечами.
Когда гости разошлись, а Вера и Зоя Васильевна домывали посуду на кухне, Славка вышел на лестницу проводить отца.
- Завтра утром встанешь, и сразу приезжай. - Отец вытащил из кармана ключи.- Не потеряй только… Ты меня слышишь?
- Да. - Обречённо вздохнул Славка.- Завтра утром приеду. Если иначе нельзя.
- Нельзя! - Отрезал отец и, не вызывая лифта, быстро побежал вниз.
Стояла глухая осенняя ночь, когда Славка с Верой вышли на улицу. Он провожал девушку домой. На улице было пусто, мелкий дождик едва угадывался в свете фонарей.
- Вера… - Не сразу решился Славка. - Мне надо тебе сказать что-то очень-очень важное…
Вера с интересом взглянула на приятеля.
- Ну, так говори своё «очень важное»…
- Ты понимаешь… На восемнадцатое у меня повестка…
- Знаю.
- Если я приду в военкомат… - он продолжал медленно, подыскивая слова. - Ты бы хотела, чтобы я служил… где-нибудь очень далеко? Ты как к этому относишься?
Вера растерянно остановилась, вглядываясь в Славкино лицо.
- Не знаю… - Наконец, протянула она. - Конечно, было бы лучше, если бы ты служил где-нибудь рядом…
- Я не об этом…
- Тогда о чём? Чего ты жмёшься? Говори прямо!
- Если я приду в военкомат восемнадцатого… В этот день всех направят… выполнять интернациональный долг…
Вера всё ещё пыталась заглянуть в Славкино лицо.
- Слава, я очень хочу, чтобы ты был жив и здоров. Если бы от меня это зависело… Но если надо…
- - Господи… - Простонал Славка. - Опять это «надо»! Кому «надо»? Что «надо»?
- Как же иначе, Слава?
- Можно иначе! - вдруг разозлился он. - Можно! И десятки людей делают иначе. Ты разве не знаешь, что у Бори Бекасова, который с первого класса соплями – то никогда не болел, вдруг оказалась злокачественная гипертония, и его вообще освободили от армии?
- Не кричи… - обиделась Вера. - Ты что, не хочешь служить?
- Хочу - не хочу… Кто об этом говорит? Я буду солдатом, буду, только на пару недель позднее, поняла?
- Нет. Объясни, пожалуйста. И, если можешь, поспокойнее…
- Хорошо. - Славка перестал кричать.- Я не пойду в военкомат восемнадцатого. Я заболел. Грипп у меня, понимаешь? - Он громко и демонстративно высморкался. - У меня температура… Во, какая у меня температура! Я пойду в военкомат по следующей повестке, которую мне принесут. А мне её обязательно принесут... Я пойду в военкомат и останусь служить в Союзе. Теперь ты поняла?
- Теперь поняла…- нараспев протянула Вера. - Интересно, ты это сам придумал или дедушка подсказал?
- Ничего дед не знает. И бабуля тоже. Мать плачет и предлагает мне самому принимать решение.
- Тогда, значит, отец… И ты решил?
- Да… - Славка устал сопротивляться. - Ну, чего ты уставилась?!
- Здорово! Я просто подумала… Ведь у Никиты, и у Кольки… Да и у Сережки тоже повестки на тот же день и тот же час… Что ты им скажешь? Будешь врать про грипп?
Славка молчал. Сказать было нечего.
- Хорошо, - кивнула Вера. - Твоя мама права: ты, и в самом деле, должен сам всё решить… Только знай… Если ты… заболеешь, я не смогу после этого относиться к тебе так, как сейчас…
Славка промолчал. Они стояли перед домом Веры, она посмотрела вверх на свои окна, они светились, единственные во всём доме. - Дед вернулся. Я пойду, он ведь не ляжет, пока меня нет…
Вера ушла. И вдруг до Славки дошло. Он вбежал в парадную и громко крикнул в чёрный колодец лестничного пролёта.
- А как ты ко мне относишься? Как?
Он слышал как там, наверху захлопнулась за Верой дверь квартиры, и на лестнице снова стало тихо, только в ответ ему где-то громко залаяла собака.
Славка вернулся домой, открыл дверь своим ключом и бесшумно проскользнул в прихожую. Но к его удивлению в кухне горел свет и в коридоре тоже, хотя двери в комнаты были плотно закрыты. Славка прислушался и успокоился. Он скинул сырые туфли и с удовольствием всунул ноги в домашние тапки. И тут вдруг он услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из ванной. Славка потянул дверь ванной, но она была закрыта изнутри. Странные резкие звуки повторились снова. Испуганный не на шутку, Славка осторожно постучал пальцами в дверь, стараясь не разбудить остальных домочадцев.
- Кто здесь? Это ты, дедушка? Ты что там?..
С натугой щёлкнула задвижка, дверь приоткрылась и впустила Славку.
У Алексея Петровича открылось кровотечение. Сгустки крови забили раковину, он прижимал ко рту окровавленное полотенце. Славка обмер.
- Сейчас, сейчас, дедушка… Я «скорую»…
Он бросился к телефону, крикнув, заикаясь от страха.
- Мама!.. Бабушка! Вставайте, вставайте! Скорее!
Дверь скрипнула и появился, держась за косяк, Алексей Петрович.
- Не надо «Скорую», - прохрипел он. - Диму…
Что-то клокотнуло у него в горле. Крепко зажав рот полотенцем, он опять скрылся в ванной.
В коридор выскочили испуганные Наташа и Зоя Васильевна. Славка дрожащими пальцами набирал телефонный номер…
Побледневший осунувшийся за ночь Слава торопливо шёл по территории завода. Пересёк литейный цех, проскочил небольшой термический, кузнечный… Что-то спросил у старого рабочего, тот неопределённо махнул рукой в глубину проёма. Славка пошёл туда, и, наконец, увидел отца. Тот что-то сердито выговаривал мастеру. Тяжело ухали молоты, слов слышно не было. Славка подошёл поближе, но встал в стороне, дожидаясь конца разговора. Отец случайно посмотрел в его сторону и замер на полуслове.
- Ты чего здесь?! - Крикнул он, стараясь перекричать шум цеха.- У тебя ведь есть ключ!
Славка так посмотрел на него, что отец пожал плечами и взял его за локоть.
- Ладно, пошли…
Открыв дверь своего кабинета, он пропустил Славку вперёд.
- Ну? - Посмотрел он вопросительно на сына.- Ключи потерял?
Славка мотнул головой.
- Так что опять стряслось?
Но Славка не успел ответить. Раздался телефонный звонок. Отец махнул Славке рукой на стул, снял трубку. Заговорил, весело похохатывая.
- Рад тебя слышать, Виктор Петрович… Не передумал ехать? Получил, получил я лицензию… Одного лося разрешили отстрелить… С егерем я договорился, выгонит прямо на нас, только стреляй… Да, и сына возьму, - он подмигнул Славке.- Он у меня сейчас свободный художник… В армию уходит… Да, дней через десять… Слушаю тебя, Виктор Петрович… Что ж, - через паузу продолжил он, - для тебя, пожалуй, такие трубы найдутся… Сколько?! - Отец присвистнул. - Ну, это ты, брат, загнул!.. А, вот это другое дело! Если ты мне этот котёл сделаешь, я тебе ещё столько же труб отпущу… Всё. Забито!
Трубка, наконец, была положена на место, и отец выжидающе посмотрел на Славку. А с ним начало происходить что-то странное: мелко-мелко застучали зубы, перехватило дыхание, и он разразился вдруг бурной неожиданной истерикой. Отец испуганно бросился к нему.
А потом они сидели вдвоём в холостяцкой квартире отца, вполне уютной и современной. Сидели рядом на диване, Владимир крепко прижимал к себе Славку за плечи, говорил тихо и мягко.
- Попробуй, Славёныш, понять то, что я тебе скажу… Тебе сейчас очень тяжело, я знаю. На тебя сразу столько всего навалилось. Но жизнь заставляет принимать решение сегодня, сейчас… - Он помолчал. - Я глубоко уважаю твоего деда. Если хочешь знать, я просто преклоняюсь перед ним… Но деда твоего формировало другое время… Тогда жизнь представлялась совсем иначе… А годы прошли. Сорок, пятьдесят лет… Многие ровесники твоего деда менялись со временем, становились дипломатичнее, гибче… А он не сумел. Остался таким же… Как монумент. Как символ тридцатых годов, понимаешь? Он совершенно не вписывается в сегодняшнюю жизнь. Теперь нельзя так жить, как жил твой дед.
- Он жив, папа… - Мрачно сверкнул на него глазами Слава.
- Да, прости… Я неудачно сказал… Но, сынок, я очень тебя люблю… У тебя впереди огромная жизнь… Нельзя её приносить в жертву отжившим идеалам! Ты понимаешь меня?
Слава отвернулся от отца и твёрдо сказал.
- Я пойду в военкомат…
Отец оттолкнул его, забегал по комнате.
- Все вы идеалисты! - Крикнул он, срываясь. - Самое страшное, что Алексей Петрович всех вас слепил по своему подобию. И бабушку, и мать, и тебя…
Славка молчал и смотрел куда-то вбок.
- Ну, вот что…- Отец вдруг успокоился и стал говорить тише. - Я должен вернуться на завод, сегодня ночью будут монтировать новый котёл, - это моё дело… У меня тоже есть дело, которому я служу, и, надеюсь, не хуже твоего деда... А ты будешь ночевать здесь. Я тебя просто закрою.
Славка вскинул на него глаза.
- Папа, ты забыл, что дедушка…
Но Владимир, не глядя на него, уже одевался в прихожей. Он вышел на площадку, плотно закрыл за собой дверь и повернул ключ.
Только тут Славка сорвался с места, забарабанил в дверь кулаками.
- Папа! - Пронзительно кричал он. - Ты не можешь… Ты не смеешь!
Но вдруг у него опять сильно закружилась голова, он затих, и медленно сполз по косяку двери прямо на пол.
Перепрыгивая через две ступени, стараясь поскорее убежать от Славкиных воплей, его отец сбегал вниз по лестнице. Но внезапно наступившая тишина остановила его. Он замер, подождал немного - крики не возобновлялись. И тогда Владимир повернул назад, медленно, шаг за шагом стал подниматься обратно. Он почти бесшумно открыл квартиру, прошёл мимо Славки, сидящего на полу, и положил ключи на письменный стол…
Дмитрий Павлович сидел в служебном кабинете за своим рабочим столом в полном медицинском облачении. Сидел, тяжело задумавшись, уронив свои ухоженные руки хирурга на незаполненную «Историю болезни», лежащую перед ним. Он достал из большого жёлтого конверта рентгеновские снимки и стал - в который раз! скрупулёзно их изучать. Этих рентгенограмм было очень много - самых больших, как говорят врачи: «обзорных» и «прицельных» до совсем мелких томограмм… Закончив рассматривать, он тщательно собрал их снова в конверт и отодвинул в сторону. Также внимательно просмотрел стопку анализов и только после этого написал твёрдо на чистом титульном листе «Истории»: « Соколов Алексей Петрович». И дату рождения. Задержав на мгновение руку в воздухе, размашисто вывел в графе «Диагноз»: « Рак лёгких 4 стадии».
Вошла пожилая секретарша.
- Дмитрий Павлович, к Вам посетитель…
- В приёмные часы, - не поднимая головы, ответил он. - Есть приёмные часы для больных и их родственников…Сейчас не могу. Иду в отделение…
- Он не больной и не родственник, Дмитрий Павлович… Он говорит, что Ваш знакомый с фронта… Он из Киргизии…
Дмитрий Павлович удивлённо вскинул голову.
-С фронта? Из Киргизии? - Он задумался на минуту, пожал плечами. - Не помню... Зовите, конечно.
Секретарша вышла. Вскоре дверь распахнулась. На пороге стоял пожилой и смущённый посетитель с огромной корзиной фруктов.
- Заходите, заходите! - Пригласил Дмитрий Павлович, пытаясь вспомнить его лицо.
Киргиз вошёл, поставил корзину на пол и взглянул прямо в глаза врачу.
- Вы меня никогда не вспомните, Дмитрий Павлович, и не пробуйте даже…
- Я Вас лечил? Оперировал? Вы были ранены?
Гость с улыбкой покачал головой.
- Нет… В госпитале мы с Вами не встречались, хотя я там тоже побывал… Я сейчас всё напомню… Я ведь Вас после войны, знаете, как искал! Вот недавно только и нашёл… Слушайте… В самом начале войны… Помните, машину с хлебом?
Дмитрий Павлович охнул.
-Так это Вы? Сейчас я попробую вспомнить, как тебя зовут… Исмаил… Верно?
Гость довольно рассмеялся.
- Так точно, товарищ генерал… Исмаил Саяков… Неужели помните?
- Конечно, помню!
Разве забудешь такое?
На своём стареньком газике, конфискованном в ближайшем колхозе, на стёклах которого услужливый санитар намалевал масляной краской медицинские кресты, Дмитрий Павлович трясся по разбитой сельской дороге. Он был только что назначен начальником медсанбата но, прибыв к месту назначения, обнаружил, что надо начинать с нуля. Этот «нуль» начинался в штабе, Дмитрий Павлович всю дорогу обдумывал свои требования и аргументы, и даже записал что-то в блокноте, боясь в спешке упустить что-нибудь важное.
Вскоре прокололось колесо, и вместе с водителем они засуетились вокруг машины, ставя запаску. Сзади, подъёзжая, запылила полуторка. Дмитрий Павлович поднял голову. Рядом с пожилым водителем сидел совсем юный лейтенантик, по внешнему виду - уроженец степей. Грузовик притормозил, и лейтенантик, приоткрыв дверцу кабины, весело крикнул:
- Помощь нужна?
- Справимся! - Дал отмашку Дмитрий Павлович.
И полуторка рванула дальше. Но, проехав вперёд, оставила после себя сладкий, пряный запах горячего хлеба. Он был сложен в кузове горой и едва был прикрыт куском серой парусины.
Водитель Дмитрия Павловича посмотрел вслед грузовику.
- Как пахнет хлеб-то! Горячий, видать…
А полуторка тряслась по ухабам дальше. Лейтенантик, сопровождавший хлеб, стал тихо напевать что-то своё степное, печальное, но старик-водитель заёрзал на месте, глянув вперёд.
- Плохо дело… - Сказал он.
- Что такое?
- Поглядите вперёд…
А впереди шли призывники-новобранцы. Они шли молчаливой, мрачной толпой, мало похожей на военный строй. Шли в домашней запылённой и заношенной одежде, с котомками на плечах, небритые, голодные и усталые. Шли на передовую совершенно безоружные, только у лейтенанта, ведущего этот строй, за поясом была кобура с пистолетом. Лейтенант был также молод, как и уроженец степей в машине с хлебом, но та неделя, которую он шёл по дороге с людьми, за которых отвечал, успела сделать его намного старше и ответственнее.
Пожилой новобранец подошёл к нему совсем близко и тихо спросил.
- Далеко ещё, лейтенант?
Лейтенант на ходу достал полевую сумку, раскрыл мелкую карту.
- Мы здесь. Идём вот сюда… Километров сто двадцать будет… Надо идти. Война. Дойдём - там переоденут и накормят…
А машина с хлебом всё приближалась к колонне.
- Кто это? - Удивлённо спросил лейтенант у своего водителя. - Арестанты?
- Нет. Новобранцы…
Лейтенант присвистнул
- Ничего себе… И куда они идут?
- В свою часть. На фронт. Голодные… - и повторил, - голодные…
Что-то угрожающее услышал лейтенант в голосе своего водителя и удивлённо посмотрел на него.
Полуторка поравнялась с хвостом колоны. Новобранцы шли медленно и широко, занимая всю проезжую часть. Водитель просигналил, толпа слегка подвинулась к обочине, и машина стала осторожно проезжать мимо колонны. Запах горячего хлеба поплыл над головами, и колонна вдруг дрогнула, зашевелилась, ожила.
- Хлеб… Хлеб! - Понеслось со всех сторон.
И тут началось невообразимое. Толпа новобранцев преградила дорогу машине. Водитель сигналил, но люди мгновенно повисли на бортах, попрыгали в кузов. Огромной серой птицей спланировал на землю брезент, и буханки ещё неостывшего хлеба полетели в толпу.
- Стреляй! - Крикнул водитель своему лейтенанту. - Стреляй, пока не поздно…Не то тебя самого расстреляют!
Посеревший от страха лейтенант, выскочил из машины.
- Назад! - Крикнул он сорвавшимся петушиным голосом.- Назад! Буду стрелять!
Но его никто не слышал.
- Сюда! Сюда! Ребята, кидайте нам!
- Отставить! - Кричал лейтенант, который вёл солдат. - Отставить!
Он первым стал стрелять в воздух. Стоя на ступеньке полуторки, начал палить в воздух и лейтенант, сопровождавший машину.
Вскоре от хлеба не осталось и следа. Утолив голод, люди понемногу приобретали способность соображать. Пряча глаза друг от друга и от своего лейтенанта, мрачно глядевшего на них, они столпились у обочины.
Вот тут и подъехал Дмитрий Павлович.
Увидев майора, выходившего из машины, командир приказал своим людям построиться и доложил по всей форме, куда и зачем идёт отряд.
- Что за стрельба? - Спросил Дмитрий Павлович, начиная догадываться, что произошло.
- Моими людьми была разграблена машина с хлебом, товарищ майор. - Ответил обречённо командир, готовый принять любую расплату за свой грех.
Дмитрий Павлович всё понял. Он взял за плечо сопровождавшего машину лейтенанта, поставил перед строем. Расстегнул свою кобуру, вытащил пистолет.
- Вот пистолет, - сказал он людям. - Вы съели хлеб, который он вёз на передовую... Теперь убейте его, потому что его всё равно расстреляют. Каждый из вас знает приказ Сталина… Если вы его убьёте сейчас, то избавите от трибунала и позора. Ну, кто выполнит приказ военного времени?
Новобранцы, отводя глаза, молчали.
- Люди вы или кто? - Тихо, но внятно сказал их юный командир. - Ведь он стрелял в воздух, а мог бы…
- Следуйте к месту назначения, лейтенант… - Дмитрий Павлович убрал пистолет в кобуру.
Лейтенант повернул строй, дал команду «Шагом марш!», и люди затопали, торопясь покинуть место своего позора.
- Лейтенант! - Окликнул Дмитрий Павлович. - Задержись-ка…
Лейтенант подбежал к нему.
- Сколько дней вы не ели?
- Четвёртый сегодня… Всё, что взяли из дома, съели в первые дни…
- На вот, возьми… - Дмитрий Павлович почти насильно всунул ему свёрток, который успел вытащить из бардачка своего газика. - Ты-то хлеб не воровал… Бери, бери…
- Спасибо, товарищ майор…
Строй быстро удалялся, лейтенант догнал его и пошёл сзади, незаметно отщипывая в кармане от горбушки хлеба с салом.
Дмитрий Павлович вернулся к полуторке. Водители стояли в стороне и разговаривали вполголоса, а несчастный лейтенантик, сопровождавший украденный хлеб, сидел на земле на обочине на том самом месте, где его оставил майор.
Дмитрий Павлович присел рядом.
- Как зовут тебя, лейтенант?
- Исмаил… Исмаил Саяков… - Как в бреду, ответил тот.
- И что же с тобой делать, Исмаил Саяков? - Дмитрий Павлович покачал головой.
- Расстрелять… Расстреляйте меня, а товарищ майор…
- Расстрелять-то тебя проще простого, Исмаил Саяков… А вот как тебе жизнь спасти - это большой вопрос… Ладно… Попробуем сделать вот что…
Он достал из планшета лист чистой бумаги и стал что-то быстро писать на нём. Потом протянул листок лейтенанту.
- Держи. Здесь написано, что хлеб, который ты вёз, конфискован начальником медсанбата, майором таким-то для раненных…
Лейтенантик заворожёно смотрел на майора.
- А как же Вы, товарищ майор? Вас не расстреляют?
- Э, друг Саяков, - усмехнулся своим мыслям Дмитрий Павлович, - коли меня раньше не расстреляли… Впрочем, двум смертям не бывать, так у нас говорят…
-В рубашке ты родился, парень! - Водитель полуторки обнял совсем обалдевшего лейтенанта.
Тот заплакал, хотел что-то сказать, но Дмитрий Павлович только усмехнулся, махнул рукой и поспешил к своему газику.
Отряд шагал прямо, а машина военврача повернула налево. Полуторка постояла ещё недолго, затем развернулась и запылила в обратную сторону.
- Значит, обошлось тогда? – Дмитрий Павлович сел рядом с Исмаилом на диван.
- В штрафбат всё равно угодил… Если бы не Ваша бумажка, то расстреляли бы, точно… Ранили в первом же бою, ведь знаете, что такое штрафбат… Провалялся в госпитале, а потом в артиллерию попал, до Берлина дошёл… А у Вас как тогда?
- Я уже не помню,- отмахнулся было Ершов, но встретив тревожный взгляд гостя, успокоил его.- Как-то выкрутился… Обещали разжаловать, да и так звание было не по должности… Обошлось…
Они помолчали.
- Знаешь что, Исмаил… У меня сейчас - дела… - Дмитрий Павлович написал что-то на листке бумаги. - Вот тебе мой домашний телефон и адрес… Приходи вечером.
- Спасибо… Только…
- Обязательно приходи… Я буду ждать! Слышишь?
- Хорошо, приду… Спасибо…
Когда за неожиданным гостем закрылась дверь, Дмитрий Павлович достал из корзины с фруктами большую гроздь винограда, тщательно вымыл её под краном, завернул в полотенце, и направился в отделение.
Алексей Петрович лежал на койке в одноместной палате - большой, грузный и тихий. У его изголовья стояли две опустошённые капельницы.
Дмитрий Павлович, в полном медицинском облачении, сидел перед ним на стуле. Оба молчали, избегая глядеть друг на друга.
- Дима, - Сказал, наконец, Алексей Петрович. - Мне нужна правда.
Дмитрий Павлович стиснул зубы, кивнул, но продолжал молчать. Алексей Петрович не торопил его. Он прикрыл глаза, и только его вздрагивающие веки говорили о том, что он не спит. Он ждал.
- Алёша… - Хрипло начал Дмитрий Павлович. - Ты знаешь… Есть болезни, пред которыми мы бессильны…
Не открывая глаз, Соколов кивнул.
Дмитрий Павлович хотел было ещё что-то сказать, но подбородок его задрожал, он быстро встал, подошёл к окну и стал смотреть в него слепым, невидящим взглядом.
- Операция?..
- Поздно…
- Это… быстро кончится? - Услышал он вопрос.
Алексей Петрович открыл глаза. Взгляд его был таким требовательным и твёрдым, он словно просвечивал насквозь. Солгать под таким взглядом было невозможно.
- У всех по-разному…
- Я смогу встать? Двигаться по палате?
- Вполне. По самочувствию, конечно…
Алексей Петрович облегчённо вздохнул.
- Вот что, Дима…- Самое тяжёлое было позади, слова теперь шли легко. - Уходить из жизни всё равно надо. Возраст такой, когда уходят. Это ничего…- Он промолчал. - Ты знаешь, Дима: за всю свою жизнь я никогда и ничего для себя не просил…
- Знаю.
- А вот сейчас у тебя попрошу. Ты можешь мне предоставить… - он горько усмехнулся, - этот кабинет… до конца?
Дмитрий Павлович кивнул.
- Я вот что сегодня решил… Мне надо дописать книгу. Итог всей моей жизни. Всё суетился, откладывал, думал - успею… Надо успеть. Ты меня должен понять. Я напишу своим, попрощаюсь - и всё. Ты заберёшь все мои бумаги - Зоя покажет. И в этой комнате до конца - только ты и я, понимаешь? Всё остальное будет мешать. Надо работать, - с неожиданным подъёмом сказал он. - Работать. Обещай мне, Дима - только ты и я…
- Ты не сможешь долго, Алёша… Ты не сможешь долго так работать… Наступит момент…
- Я понял… Значит, мне нужен секретарь… Я не могу взять свою секретаршу, мы слишком долго вместе работали… И твоя тоже не подойдёт… Нужен совершенно посторонний человек, способный работать столько, сколько понадобиться… Сколько я смогу, - тут же поправился он. - Ты скажи Зое, она найдёт…
- Это очень жестоко для всех твоих, Алёша…
- Да, я знаю… Но они поймут. Зоя поймёт. Я не смогу написать ни строчки, если они будут носить мне цветы и фрукты и плакать, наблюдая моё умирание…
- А все медицинские процедуры?
- Ничего лишнего. А когда ты поймёшь, что… Искусственно продлевать мне жизнь не надо. Ты понимаешь, о чём я?
Дмитрий Павлович кивнул, подавив тяжёлый вздох.
Письмо домочадцам от Алексея Петровича он передал на следующий день. Зоя Васильевна, осунувшаяся и побледневшая, молча взяла из его рук конверт. Он поцеловал её руку и ушёл, не сказав ни одного слова. Она прочитала письмо мужа первой, вечером Наташа, сдерживая слёзы, передала его Славке. В доме повисла тяжёлая давящая тишина. Все слова были лишними.
Утром на своём обычном месте у кухонного окна стояла Зоя Васильевна, стояла и сухими внимательными глазами смотрела, как по многолетнему маршруту Алексея Петровича мимо трамвайной остановки шли к институту сотрудники…
Наташа не выходила из своей комнаты, ей было страшно встречаться с матерью. Она забилась в угол дивана, завернувшись в тяжёлый шерстяной платок. Славка, тоже наревевшись вдоволь, сидел за своим письменным столом, заваленным всяким полудетским хламом, не шевелился, уронив голову на руки.
Последнее письмо Алексея Петровича лежало в столовой на столе. Дрожащими от слабости пальцами он написал:
« Дорогие мои… Прошу вас - выполните мою единственную, последнюю просьбу. Она покажется вам жестокой, я знаю… И всё-таки, я прошу вас, давайте договоримся: для вас меня уже нет… Не приходите в клинику, не стойте под окнами, не мучайте расспросами Дмитрия… Я должен успеть доделать своё дело. Я хочу уйти из жизни достойно, не мешайте мне…»
Письмо было коротким, он не умел писать писем, но последняя фраза этого странного удивительного письма была такой теплой и мягкой, так он с ними не разговаривал никогда.
« Простите меня… Мы так быстро уставали друг от друга: вы не могли разговаривать со мной о моей работе, а меня редко интересовало, чем заняты ваши головы… Но я любил вас, как умел…»
В Отделе кадров Славе вручили обходной лист - вещь противозаконную, но обязательную для исполнения. Сколько бюрократических уловок ожидает нас на каждом шагу! И сколько из них противозаконных, но обязательных. Славка покорно приступил к обходу больницы. У кого только не предстояло подписать ему этот «бегунок» - он начал с дворника, потом пошёл на пищеблок. Больше часа ждал, когда откроется больничная библиотека, очень долго искал главного бухгалтера и, наконец, пришёл в операционную. Галина Сергеевна едва взглянула на протянутый листок, вдоль и поперёк исчирканный автографами, и подняла на Славку свои большие сочувствующие глаза.
- С дедом-то совсем плохо?
- Он нам запретил приходить в клинику… Я больше его никогда не увижу…- Славка громко сглотнул ком в горле. Но глаза его были сухими. Кажется, он начинал взрослеть.
Она усадила его рядом. День был неоперационный, в соседней комнате медсёстры скатывали «шарики», а в кабинете старшей медсестры было спокойно и тихо. Галина Сергеевна принесла Славе чашку крепкого сладкого чая, втиснула своё тело в огромное начальственное кресло и сказала только:
- Рассказывай.
И Слава рассказал о деде всё, что знал сам. Галина Сергеевна слушала внимательно, только кивала молча или вопросительно поднимала брови, когда чего-то недопонимала. Теперь она совсем не была похожа на барменшу.
- Дед простил свою мать, - сказал после паузы Славка. И выпил залпом давно остывший чай. - А я, наверно, никогда не пойму, почему она их бросила…
Галина Сергеевна вздохнула и только покачала головой. Как объяснить этим молодым, сытым и вполне благополучным ребятам ( и слава Богу, что сытым!), что такое голод? Бог не дал ей своих детей, но в блокаду она видела, как мучились, как страдали матери, которым нечем было накормить умирающих от голода детей. Как не выдерживали некоторые из них, убегая из дому от этих голодных глаз, как кончали жизнь самоубийством. Для этого не надо было ни травиться, ни выбрасываться из окна, ни топиться в Неве... Надо было просто сесть в сугроб где-нибудь в дальнем углу двора, чтобы никакой сердобольный не увидел, не поднял, не начал спасать…
Галина Сергеевна вдруг вспомнила санитарку своего блокадного отделения, на руках которой было трое голодных ребятишек. Это была измождённая женщина, совершенно неопределённого возраста, (тогда, наверно, все ленинградские женщины были неопределённого возраста), которая добросовестно и честно выполняла свои грустные санитарские обязанности. Чего только не приходилось ей делать помимо ежедневной уборки… В палатах лежали безнадёжные, умирающие от истощения больные. У многих из них были кровавые дистрофические поносы. И санитарке надо было их перестилать, менять им бельё. Галина Сергеевна помнила, что в одной из палат лежал совсем обезумевший от голода мужчина. Больные лежали в постелях в пальто - в больнице стоял жуткий холод. А этот мужчина кутался в старую шинель. Каждый день больным выдавалась положенная пайка хлеба. Он уже не мог есть, он медленно умирал от голода и поносов. А выданную пайку хлеба прятал за обшлаг шинели. Иногда у него возникали приступы беспокойства, он начинал махать руками, пайки из рукавов падали на пол. Все смотрели на этот хлеб, но никто поднять его не решался - ни больные, ни их редкие родственники, иногда посещавшие палаты. Утром приходила та самая санитарка. Она перестилала больных и забрасывала эти сморщенные корочки горой окровавленных поносных простыней. Потом захватывала их в тугой узел и уносила … своим голодным детям… Все это видели, но молчали, даже между собой никогда об этом не говорили.
- Галина Сергеевна, - позвал Слава. - Вы о чём думаете?
- Я думаю, как объяснить тебе, почему твой дед простил свою мать… Наверно, потому, что он был в лагере и пережил войну, потому, что он знает, что такое голод…
- Дмитрий Павлович говорит, что деду секретарша нужна… Он устаёт быстро, а хочет успеть с книгой. У Вас никого нет на примете? Надо чтобы и записывать могла, и… Ну, Вы понимаете… ведь это тяжело больной человек, и будет всё хуже и хуже…
Галина Сергеевна думала недолго.
- Есть. - Кивнула она. - Я помогу. Мне в отпуск с понедельника. Отпуск для меня - просто беда, не знаю, куда себя деть. Я в молодости на всяких курсах обучалась, всё искала себе применение: и стенографию знаю, и на машинке хорошо печатаю, а об остальном - как говорится, сам Бог велел…
Слава облегчённо вздохнул.
- Это для нас просто спасение… - Он вскочил. - Я к бабуле сейчас… На неё смотреть страшно… Так я ей дам Ваш телефон? А мне в армию уходить… Как я их с матерью брошу?..
Слава ушёл. В горе, как и в радости, люди становятся эгоистами. Галина Сергеевна говорила правду: отпуск был для неё мучением. У неё не было ни семьи, ни родственников. Когда её спрашивали, почему она так и не вышла замуж, она отвечала, что её суженый остался в Брестской крепости. Или под Сталинградом. Или где-нибудь под Орлом. С годами её перестали об этом спрашивать. После блокадного истощения и долгого лечения она узнала, что никогда не станет матерью. Иногда появлялась мысль усыновить или удочерить кого-нибудь, да так и не решилась, струсила, побоялась не хлопот - ответственности. И, в конце- концов, жизнь замкнулась на работе. Она поменяла кучу медицинских специальностей не столько по необходимости, сколько из интереса - каждый раз начиная сначала и быстро становясь специалистом в своей области. Последней была операционная, которую она полюбила навсегда.
Алексей Петрович похудел и осунулся, но по палате ходил, и диктовал свою книгу Галине Сергеевне, почти не задумываясь. Не желая беспокоить больных и персонал стуком пишущей машинки, они остановились на стенографии. Галина Сергеевна давно не практиковалась, но на память не жаловалась - полистав свои старые тетрадки , быстро всё вспомнила. Они как-то очень легко поняли друг друга. Соколов спешил, Галина Сергеевна его понимала, но поработав с раннего утра пару часов, непререкаемым тоном объявляла перерыв, и Алексей Петрович безропотно ей подчинялся. Он расслабленно опускался на подушку и тут же засыпал, а она принималась за расшифровку собственных записей. Потом были какие-то капельницы и процедуры, после которых работать было невозможно, и они разговаривали. Алексей Петрович рассказывал ей о своей лагерной жизни, испытаниях военного времени. О чём ещё мог вспоминать такой человек, подводя итог прожитому? Узнав, что Галина Сергеевна девчонкой в блокаду работала в больнице, Соколов потребовал подробностей.
Вот и сегодня после двух больших капельниц его одолевала слабость, но чтобы не поддаться ей, он заставлял Галину Сергеевну рассказывать. Поправив постель и уложив его поудобнее, она продолжала свою бесконечную повесть.
- В больнице был страшный холод, как на улице… Больных мы грелками обкладывали, а воду для грелок с Невы носили. Напарницу мою Танюшкой звали. Она высокая была, а я - маленькая, вот такой шкет… Тащим ведро, а вода из него выплёскивается. Принесём еле-еле полведра и реветь начинаем, даже подумать страшно, что надо опять за водой идти…
Галина Сергеевна замолчала надолго, задумавшись и совсем позабыв про Соколова. Он лежал с закрытыми глазами, но не спал. Терпеливо ждал продолжения. Она спохватилась.
- Самое страшное было ночью: освещение - одна лучинка на столе, и коридор такой длинный тёмный, а по полу шныряют огромные голодные крысы. Людей они не боялись, нападали на живых и мёртвых. Я на стол с ногами залезу, завернусь в своё пальтишко, так и сижу всю ночь, задремать боюсь. Другой раз из тесноты позовёт кто:
- Сестра!
- Из какой палаты? - кричу в темноту
-.Из пятой…
- Возьму в руки лучину и осторожно так иду, ноги по полу волочу, боюсь на крысу наступить. Помню, один раз позвал меня один мужик, злой такой, одна жёлтая кожа на костях… Вонища от него - сил нет, видимо тоже понос начался.
- Чего звали? - Спрашиваю.
- Почисти мне уши…
- Господи! - стону я. - К вам сегодня родственники приходили, неужто не могли почистить Ваши уши?
Но что делать! Приладила лучину поближе, присела к нему на кровать и приступила к своим обязанностям…
Тут Соколов то ли всхлипнул, то ли всхрапнул, Галина Сергеевна поняла, что он спит. Не сразу сумев отогнать нахлынувшие воспоминания, она посидела в тишине ещё немного и принялась за расшифровку его рукописи.
Память, память! На какие только задворки нашей прожитой жизни ты нас ни заносишь… Господи, так когда же это было?
Мальчик лет десяти в старенькой приютской одежде не по росту медленно шёл вдоль рыночного ряда и катил впереди себя небольшую тележку. Был он настолько худой, что рыночные торговки охали и качали головой, складывая на его тележку то, чего было не слишком жалко: кто маленький мешочек с крупой, кто пару луковиц или морковин, кто даже кусочек сахару. То тут, то там мелькали фигурки однокашников мальчика - приют питался подаяниями, в стране бушевал голод. Какая-то сердобольная женщина подошла к мальчику, вложила в его руку пирожок, настоящий пирожок! И прошептала ему в ухо:
- Возьми. И сам его съешь… На всех всё равно не хватит… У меня сыночек помер от тифа этой зимой, а ты так на него похож…
И поцеловала его в лоб.
Но вдруг откуда-то налетела орда беспризорников. С воплями, свистом и улюлюканьем обрушились они на приютских детей, тележка мальчика сразу опустела. Вырвали из его рук и пирожок, который был таким пахучим и аппетитным.
Это был, видимо, предел. Мальчик судорожно всхлипнул и прошептал высохшими бескровными губами.
- Всё… Всё…
Он выскочил на проезжую часть улицы и куда-то побежал. За ним бросилась воспитательница приюта, ожидавшая детей у ворот рынка.
- Алёша! Куда ты? Алёша!
Мальчик не знал, куда он бежит. Он кинулся было в одну сторону, потом метнулся в другую. И вдруг остановился, как вкопаный, перед трубой давно почившего в бозе заводика. Труба казалась маленькому мальчику такой огромной и холодной. И уходила куда-то высоко в небо, по которому неслись серые равнодушные облака. Помедлив мгновение, он стал быстро забираться вверх по скользким металлическим ступеням. Подбежавшая пожилая воспитательница задохнулась от бега, плакала, глядя на него, просила.
- Алёшенька, миленький… Не надо! Спускайся, деточка… Мы обязательно что-нибудь придумаем…
Алёша лез всё выше и выше. Внизу собралась толпа, какой-то парень рванулся было за ним, но его остановили - а вдруг мальчик спрыгнет… А через плотную толпу к трубе пробивалась девушка.
- Пустите… Пустите меня… Я его сестра… Пустите…
Её пропустили. Она вплотную подошла к трубе и негромко позвала.
- Алёша! Алёша, это я… Оля…
Он был уже довольно высоко, она говорила негромко, боясь спугнуть его.
- Алёша, я за тобой пришла… Я тебя заберу из приюта, мы теперь будем вместе жить…
Мальчик услышал её голос и остановился. Толпа замерла. Наверно, он не понял, что сказала ему сестра, но там внизу была единственная родная ему душа, и он осторожно посмотрел вниз через плечо. Земля была далеко, а голова кружилась от голода постоянно. Он покачнулся, и ноги едва не сорвались со скользких ступеней. В мёртвой тишине громко вскрикнула какая-то женщина - на неё зашикали. Ольга продолжала тихо и ласково, изо всех сил стараясь не выдать своего страха.
- Не смотри вниз, Алёша… Не смотри… И слезай потихонечку, не торопись, проверь, чтоб нога хорошо стояла, потом другую поставь…
Мальчик помедлил немного и осторожно начал спускаться. Девушка с волнением следила за ним.
- Вот так… Осторожно, пожалуйста…
Наконец, Алёша коснулся ногой земли. Сестра сжала его плечи и повела прочь от страшной трубы. Люди расступились перед ними.
- Ты знаешь, Алёшенька, я хорошую работу нашла: меня один профессор в горничные взял. Он один живёт, целый день работает, а я ему обед буду готовить и в квартире прибирать… Он обещал хорошо платить и питаться я буду вместе с ним. Мы голодать больше не будем, вот увидишь…
Она говорила очень быстро, задыхаясь от облегчения, только, чтобы не молчать.
- А кто такой профессор? - К её несказанной радости вяло откликнулся мальчик.
- Я тебе всё-всё расскажу…
Вскоре они уже шли по улице в толпе спешащих куда-то людей. Ольга крепко держала Алёшу за плечи и говорила, говорила, не переставая.
Было поздно. Чистое высокое небо освещала огромная до неестественности луна. Тёмные стволы деревьев в парке перед клиникой отливали серебром. Опавшие мокрые листья слабо шуршали под ногами. По аллее парка к тёмному зданию клиники быстро шёл Славка. Он остановился, поднял голову. Только одно-единственное окно на втором этаже светилось ровным спокойным светом. Славка подошёл ещё ближе и встал прямо под ним. Он пристально вглядывался, стараясь разглядеть какое-нибудь движение в комнате. Форточка была приоткрыта, и белые больничные шторы слегка раздувались мягким ветром. Сзади на аллее послышались чьи-то лёгкие шаги. Славка не обратил на них внимания. Кто-то подошёл ближе и остановился, заметив парня. Потом приблизился и положил руку на его плечо. Это был Дмитрий Павлович.
Славка вздрогнул, оглянулся.
- Это не здесь… - Мягко сказал Дмитрий Павлович. - Пойдём…
Он крепко сжал Славкино плечо и, не отпуская его, повёл за собой вокруг здания клиники. Наконец, они остановились, и Дмитрий Павлович сказал:
- Это там…
И, отпустив Славку, ни разу не оглянувшись на него, он ушёл широкими лёгкими шагами вверх по пандусу и скрылся в дверях Приёмного отделения.
Славка не сразу поднял голову. Это окно было на пятом этаже. Здесь тоже за белыми больничными шторами не видно было никакого движения. На подоконнике стояла настольная лампа и свет от неё падал прямо к ногам Славки. Он прислонился спиной к мокрому стволу дерева и замер, не сводя глаз с окна. Он стоял так целую вечность. Небо посветлело. Огромная луна стала сползать к горизонту, отчётливо стали проступать из темноты голые деревья в парке…
Губы Славки дрогнули. Он то ли шептал что-то, то ли плакал без слёз. А окно всё светилось, и электрический свет постепенно тускнел и линял в утреннем холодном тумане…
- До свидания, дедушка, - вдруг отчётливо произнёс он. - Я иду, дедушка… Я иду…
И, наклонив голову, ссутулившись, словно пряча вздрагивающие плечи, он пошёл от здания клиники по аллее, а тускнеющий свет от окна падал впереди него и растворялся в тёмных давно опавших листьях.
ЭПИЛОГ
Зоя Васильевна не надолго пережила мужа, умерла во сне через три месяца.
Вскоре ушёл из жизни и Дмитрий Павлович. Он закончил тяжёлую полостную операцию, аккуратно положил использованные инструменты на простынь рядом с больным и медленно опустился на колени перед операционным столом. Не смотря на возраст уверенные твёрдые руки не подводили его – подвело сердце.
Вера окончила институт и уехала к родителям в Англию. Там успешно сдала все необходимые испытания и получила медицинскую лицензию. В настоящее время работает в процветающей частной клинике. Семья решила на родину не возвращаться.
Наташа по-прежнему служит в театре. С возрастом вдруг нашла своё амплуа – у неё стали великолепно получаться роли комических старух. Она стала много играть, о ней заговорила пресса.
Отец Славы Владимир - вполне преуспевающий бизнесмен. Он не сдал свой партбилет, как это сделали другие: он не смог предать Соколова. По-прежнему живёт один. Много работает, входит в Совет директоров своего завода.
Слава вернулся из Афганистана с целыми конечностями, но после тяжёлой контузии. Теперь и он хорошо знал, что такое война. В институт не поступил - заниматься было трудно, при малейшем напряжении дико болела голова. К тому же в боях он растерял остатки школьных знаний. Так и не сумев найти себе применение, вскоре спился.
Иногда, объединив усилия, отцу с матерью удаётся устроить сына на лечение в диспансер или в больницу. Оттуда Слава выходит преображённым человеком, устраивается на работу, но вскоре срывается, и всё начинается сначала.
Институт, которым руководил Соколов, через несколько лет после его смерти пришёл в упадок. Прекратилось финансирование, фундаментальная наука оказалась на задворках новой жизни. Зарплата не выплачивалась месяцами. Большая часть прежде преуспевавших отделов прекратила существование. С распадом СССР Средняя Азия и Закавказье стали заграницей, закрылись филиалы и опорные пункты по всей России.
Сакен после похорон своего шефа исчез и больше никогда не появлялся в доме у Соколовых.
Кондаков успел защитить докторскую диссертацию и успешно руководит кафедрой в Технологическом институте.
За окном Новый 1994 год.
| Серов Владимир # 6 мая 2014 в 22:35 0 | ||
|
| Татьяна Сергеева # 7 мая 2014 в 20:21 0 |