О, человек
19 сентября 2016 -
Джон Маверик
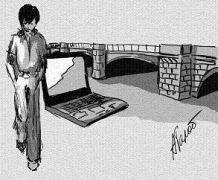
- Вымирающая профессия, четыре буквы, - Мариус пихает меня локтем в бок и ухмыляется, показывая блестящие, смоченные слюной зубы. Они ровные, словно выстроенные по линеечке, и я в который раз лениво гадаю — свои? Фарфоровые?
Да какое мне, собственно, дело?
Нет, мой коллега не решает кроссворд. Просто у него такая манера шутить.
- Врач, - зеваю, прикрывая ладонью рот.
Это давно уже не смешно.
Доктор Ленц помнит, что еще двадцать лет назад к медикам ходили толпами. Мы с Мариусом этих времен уже не застали. В приемных тогда выстраивались очереди. Особенно к детским врачам — дети ведь, как известно, болеют чаще взрослых. Вернее, болели. Сейчас все изменилось. Ребята стали крепче, что ли. «Здоровенькие, как резиновые пупсы», - посмеивается доктор Ленц. Если кто и появляется у нас, то истеричные матери с крепко спящими младенцами на руках. Этих розовощеких чад не разбудишь пушками — да и не надо, потому что кожа их эластична и чиста, сердечки работают, как швейцарские часы, рост и вес нормальные, животики мягкие, температура ровно тридцать шесть и шесть. А у матерей — фобии, неврозы, депрессии, тики, повышенное давление, запоры и бессонница. У них плоские темные лица, как у мучеников на иконах. Не разберешь, молодые или старые, поеденные скукой и временем, словно металл — ржой.
Женщины ходят к нам, как к психологам, потому что гонорары у тех — высоки, а прием у детского врача оплачивает страховка. Только в отличие от психологов, мы ничем не можем помочь. Нас этому не учили. Разве что выслушать.
Они рассказывают долго и нудно, о том, каково жить на острове одиночества. О тысяче житейских мелочей, о кредитах, налогах, изменах мужей, сыром погребе, но на самом деле только об одном — о нелюбви. Нелюбви тотальной, всеобщей, непобедимой.
Нелюбовь, как диагноз, от которого страдают и душа, и тело. У нас нет от нее лекарства, хотя всяческих пилюлей, таблеток, присыпок и кремов — полный шкаф.
«Я так мечтала о ребенке, - жалуются эти матери, почти одинаковыми словами, как будто сговорились между собой. Их дрожащие губы вытягиваются в узкую, бесцветную полоску, - а когда родила, поняла, что на самом деле хотела чего-то совсем другого. Сама не знаю, чего — но точно не этого...»
Доктор Ленц, сочувственно кивает, незаметно раскладывая на компьютере очередной пасьянс.
«Разочарование, - говорят женщины и непроизвольно прижимают к себе тихо сопящие свертки, - это такое разочарование, когда чего-то ждешь... какого-то обновления, радости... какой-то внутренней вспышки, чтобы тебя всю озарила... а получаешь пустую обертку. Милую и красивую, но пустую».
- Пирожок ни с чем, пять букв, - шепчет Мариус, и я готов заехать ему по роже.
Но злость быстро проходит, и мне становится грустно.
Она вошла неловко, задев локтем за притолоку, и положила младенца на покрытый пеленкой смотровой стол. Юная, почти девочка, веснушчатая, лохматая и тощая, похожая на болотную цаплю. Нескладная фигура. Челка на лоб. Длинные пушистые рукава.
Доктор Ленц оживился. Еще бы! Первый за последние два месяца маленький пациент!
- Слушаю вас, фрау Майер, - не сказал — пропел, сладким, профессиональным голосом. - Ну, кто там у нас? Мальчик!
- Да, - она застеснялась и, отвернувшись от нас, принялась аккуратно стягивать с ребенка шерстяную кофточку.
В комнате было жарко.
Малыш следил за ее рукой круглыми по-совиному глазами, серыми и прозрачными, как у матери.
- Понимаете, доктор, - говорила фрау Майер, не глядя на Ленца, - это очень странно, но иногда мне кажется, что он не живой. Наверное, потому, что Яничек — мой первенец. Я никогда раньше не видела таких крошечных детей. Не знаю, какими они бывают, и посоветоваться не с кем. Я сирота, бабушки у нас нет. Свекровь живет в другом городе. Наверное, поэтому...
- Ну, мертвого от живого отличить не проблема, - бодро произнес мой шеф, но я видел, что он приуныл. - У вас чудесный мальчик, фрау Майер.
Она словно застыла, долго и задумчиво вглядываясь в маленькое лицо.
- Итак? - напомнил о себе Ленц. - Я вас слушаю. Что случилось?
Мариус за его спиной скорчил унылую гримасу.
- Да, чудесный. Но это очень странно, - повторила она, словно заклинание. Как будто искала в этой странности какое-то для себя оправдание — вот на что это было похоже. - Он хорошо спит и совсем не плачет, охотно ест... то есть, странно не это, - юная мать покачала головой. - Но из-за того, что он такой спокойный, я о нем забываю. Всякие дела по дому, друзья звонят, и выйти куда-нибудь хочется... Равеяться. В библиотеку, в кино, в парк... ну, на дискотеку...
Она слегка покраснела.
Мариус усмехнулся и покрутил пальцем у виска. Шут гороховый. Девчонке девятнадцать лет от силы. Конечно, гулянки на уме. А если есть, с кем оставить ребенка — то почему бы и нет? Молодые должны развлекаться.
- То есть, он прекрасно оставался один, - смущенно добавила фрау Майер, словно прочитав мои мысли. - С ребенком ведь ничего не случится, пока он в кроватке? Но странно... вроде бы сын для женщины — это целый мир, это главное, а я все время думаю о чем-то неважном и делаю что-то неважное, а про него вспоминаю урывками.
Она смутилась и покраснела еще больше, а я, глядя на нее, тоже задумался о неважном. О том, что веснушки вперемешку с румянцем — это ярко и красиво, и что вся она, должно быть, золотая с головы до ног. Почему-то одновременно с мимолетной симпатией к матери я ощутил острую неприязнь к сероглазому малышу.
Какой он все-таки однообразный. Движения — одни и те же. Сучит ножками, дергает руками, крутит головой.
А ведь я всегда любил детей и с удовольствием нянчил маленьких племянников. Как сказала бы фрау Майер: «Это странно».
- Один раз я забыла его на пару дней, - продолжала она. - К нам приехал хороший друг из Берлина. И как-то совсем вылетело из головы, что Яничека надо кормить... А он такой тихий и никогда не просил есть, хотя ел с аппетитом. Наверное, я плохая мать, но ведь голодный ребенок плачет? А он не плакал. Разве я виновата?
Гудела трубчатая лампа на потолке, полная молочного света, и только я один услышал, как хмыкнул Мариус.
- Мы много гуляли, показывали другу город... Съездили на экскурсию в Идар-Оберштайн... А потом, - фрау Майер поежилась, - меня словно током ударило. Яничек! Подбежала к его кроватке, схватила на руки. А он... как бы вам это описать, доктор? Холодный и твердый, очень твердый, будто застывший. Я сразу вспомнила, что трупы твердеют... вроде бы. Я где-то читала. Умер, подумала. Умер от голода, мой сыночек, пока я гуляла, - она сглотнула, перевела дух. - Я стала кричать, трясти его... плохо помню, доктор, что делала. Я очень испугалась. И вот, смотрю — шевельнул ручкой. Губки надул. Ухватил меня за палец, словно хотел сказать: «Мама, ты чего?» Мягкий сделался, теплый, как всегда. Я ему скорее бутылочку. Принялся сосать. Но, доктор? Я не понимаю, что это было? Что за наваждение? Может, мне почудилось? Или это какой-то приступ? Эпилепсия? Нет, эпилепсия — это судороги, а он был совсем неживой. Не мертвый даже, а какой-то искусственный. Я как будто куклу держала на руках.
Она замолчала, сгорбилась, опираясь локтями на смотровой стол. Доктор Ленц сделал нам знак рукой — подойдите. И сам приблизился к столу.
- Это мои практиканты, - представил он меня и Мариуса, а нам шепнул: «Принюхайтесь. Чем он пахнет?».
Я острожно втянул ноздрями воздух. Молочная смесь? Детский крем? Шампунь? Мыло? Чистая кожа? Сероглазый мальчик пах всем этим — сразу, но ничем таким, что в просторечии называют «миазмами болезни».
Доктор Ленц улыбнулся — и младенец улыбнулся ему в ответ. Надув щеки, сложил губы трубочкой, как будто собирался свистеть — и ребенок повторил его движение. Подмигнул правым веком, поцокал языком, сморщил нос, приподнял одну бровь... Яничек прилежно копировал его мимику. Слишком прилежно. Как взрослый.
- Все ясно. У вас прекрасный здоровый малыш, фрау Майер, нет причин для беспокойства. Абсолютно никаких причин. А этот случай, видите ли, этот незначительный эпизод, ставший следствием вашего невнимания к потребностям ребенка...
И тут он понес невероятную ахинею про сенсорную депривацию и мышечный ступор, какой-то совершенно антинаучный бред, подкрепленный, однако, уверенной профессиональной улыбкой. Мы с Мариусом удивленно переглянулись.
Когда фрау Майер ушла, успокоенная, Ленц повернулся к нам:
- Ну что, ребята? Догадались, кто это был?
- Ну... - неуверенно протянул мой коллега.
- Смелее.
- Пирожок ни с чем! - выпалил Мариус. - Голем сорок два.
- Сорок четыре, - наставительно произнес Ленц. - Вы отстали от жизни, молодой человек.
Я ничего не понимал.
- Какой пирожок?
- Брось, Петер, - усмехнулся Мариус. - Ты что, никогда не слышал о големах?
Таким же тоном он мог бы спросить: «Известно ли тебе, что такое антибиотики?» или сообщить: «У человека четыре группы крови, чтоб ты знал». Я самый молодой из нас троих, но я не дебил.
Конечно, я слышал о големах.
Язык не поворачивается назвать эти биологические устройства роботами — пусть будут просто «искусственные существа». Их изобрели лет шестьдесят назад. Официально — для лечения пациенток с истерической беременностью, склонных к тяжелым депрессиям. Этот новый, «гуманистический» подход был предложен в *** году профессором Керком. Не разочаровывать больную, а провести фиктивные роды.
Терапевтический обман дал неплохие результаты. Из больницы женщина вышла с големом на руках. Это была первая, экспериментальная модель, не способная к развитию. Тем не менее, она помогла пациентке выиграть время и внутренне укрепиться.
Окрыленные успехом, ученые продолжали работу над совершенствованием големов. Не то чтобы в них так уж особенно нуждались, но проект финансировался кем-то влиятельным, а деньги, как известно, с успехом компенсируют практическую пользу. Големы последних поколений росли, как обычные дети, взрослели, учились, а позже — прекрасно интегрировались в общество. Искусственные существа становились прекрасными работниками, хоть и не хватали с неба звезд — творческое начало им было чуждо — и, говорят, даже создавали семьи. Но... не зря Мариус назвал одного из них «пирожком ни с чем». Пустые скорлупки, они не имели собственного «я». По крайней мере, так считалось.
Зато не болели и не нарушали законов, были не плаксивы в младенчестве и прилежны в школе. Их начали усыновлять бездетные семьи. Потом разразился скандал. Якобы в некой клинике големами подменяли новорожденных, а тех в свою очередь продавали на органы.
В газетах писали еще о каких-то злоупотреблениях, точно не помню, но проект прикрыли.
- А разве их сейчас выпускают? - промямлил я, посрамленный снисходительной улыбкой доктора Ленца.
- Еще как! И между прочим, сейчас их оплачивает больничная страховка — при наличии медицинских показаний, разумеется. Например, при бесплодии, плохой генетике или резус-конфликте. Только теперь это не афишируется. Видите ли, Петер, людям вовсе не следует знать, что они воспитывают не собственного ребенка, а подделку. Да и самим подделкам так проще. Хотя им, конечно, безразлично. Они ведь не живые. Им все равно, а матерям — такое утешение. И теперь, хвала новым технологиям, до самой старости. Мать — она ведь всегда мать.
- Что с ним случилось? - поинтересовался Мариус. - Что за странный ступор? У него какой-то технический дефект?
- Да нет. Спотанное отключение — такое случается. Взрослые големы подзаряжаются за счет собственных движений, а младенцев нужно время от времени брать на руки, поворачивать, тормошить. А наша милая фрау о нем забыла, видите ли. Хотя юною даму понять можно. Дело не в том, что они спокойные. Их не хочется ласкать. Запах не тот, - доктор Ленц пожал плечами. - Запах любви подделать невозможно.
Он вздохнул и, машинально скомкав пеленку, сунул ее в ведро. На экране монитора уже мерцал новый пасьянс.
А у меня горели от стыда и уши, и щеки, и спина влажно чесалась — сам не заметил, как вспотел. Надо же так опростоволоситься.
- А взрослых как выявлять, тоже по запаху? - спросил, чтобы сгладить неловкость.
- А никак, - ответил доктор Ленц. - Никак их не узнаешь. Зеркальный тест со взрослыми не работает, и запах обычный, и паспорта у них, как у нормальных людей. Да и незачем. К нам такие пациенты не ходят.
- Да-да, Петер, - осклабился Мариус, - откуда нам знать, что ты не голем? Пять букв, - добавил поспешно, заметив строгий взгляд Ленца.
Шутка, то есть.
Чертов остряк. Из-за его дурацкой фразы я не спал полночи. Все размышлял. Действительно, откуда? Нет, я-то, конечно, человек, но вот Мариус — с его идеальными зубами? Кто он? Ведь не бывает в природе ничего идеального. Бог метит нас пусть маленьким, но несовершенством. Каждый листок на дереве — слегка ассиметричен. Каждое яблоко — с червоточиной, или с пятнышком, или с неровным румянцем, или с кривым бочком.
Значит, либо у Мариуса во рту фарфор — а зачем, скажите на милость, молодому парню вставные зубы? Он же не кинозвезда. Либо... да, именно так.
А здоровые, тихие младенцы? А их матери — не способные любить? Они — кто? Похоже, человечество обхитрило само себя.
Мне представились толпы послушных, крепких, без малейшего изъяна — «пирожков ни с чем». Нет, я-то, конечно... я... а почему, собственно, я так уверен? Разве может голем осознать, что он голем? Откуда ему знать, как ощущает себя существо, созданное по Божьему образу и подобию, творец, постигающий тайны? Может быть, человек — это совсем не то, что думаем о нем я, Мариус или доктор Ленц, а что-то гораздо более великое. Колодец бездонной глубины, которую мы и вообразить-то не в состоянии.
Я искал в себе хотя бы одное живое чувство, хоть одну мысль, достойную вечности, но попадался все какой-то сор.
- Пирожок ни с чем, пять букв, - шепчет Мариус.
- Идиот, - огрызаюсь я.
Слишком громко, но это не имеет значения. Приемная пуста, а доктор Ленц передвигает карты на экране.
Мариус обижается, а ведь я всего лишь ответил на вопрос.
Рейтинг: +1
437 просмотров
Комментарии (1)
| Лидия Копасова # 2 февраля 2017 в 16:15 0 | ||
|


