Свалка и Маргарита
26 июня 2012 -
Владимир Степанищев

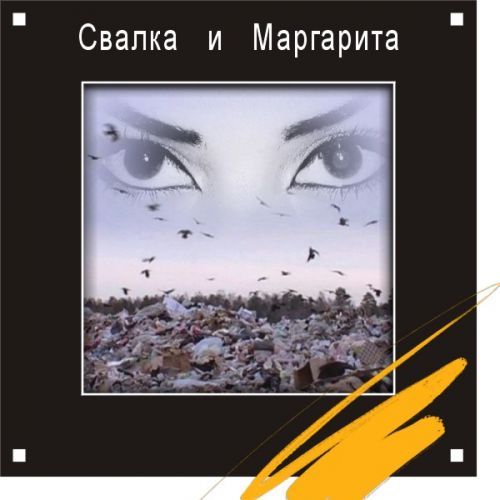
Когда долго пялишься в тупой телевизор или в бездарную книжку, в голову могут явиться мысли далеко неглупые. Это вроде как протест. Странно, но когда читаешь что-либо умное и талантливое, в голову ничего не является, потому, хотя бы, что умному лишь внимаешь. Не остается ничего кроме одухотворения или восторга. Одухотворение и восторг важнее, лучше ума. С ними жизнь прекрасна, а с умом…. С умом просто беда. Он может вас привести в места столь неожиданные, о которых вы даже и подумать боялись. Ум, априори, предполагает и память. С ума сводит именно это качество ума.
Я служил в редакции уже четвертый год, вел аналитическую колонку о социальных проблемах мегаполиса и уже изрядно устал от этого. Эта тема стара, как мир, неизбывна и скучна, как занудливый осенний дождь. Власти, от сотворения мира, плевать на людей, людям плевать на власть…. Эдакая взаимность. Но силы, как всегда, неравны и власть остается наверху, ну а люди…, люди на свалке…. Но я не знал, что окажусь на свалке и сам.
- Вы знаете, Борис Ефимович, мне надоели ваши заумные бредни, - распекал меня Ринат Ибрагимович, мой главный редактор. - Люди должны читать и плакать, а вовсе не задавать вопросы и писать жалобы. Мэр недоволен. У меня на вашу колонку стоит очередь молодняка с высунутыми языками.
- Лизать зады? – огрызнулся я.
- Да, представьте, лизать зады, - взорвался редактор. – У нас тут бизнес, а не институт благородных девиц. Хотите спасать мир – вступайте в Гринпис. А у меня тиражи, рейтинги, чертовы конкуренты…
- И задница мэра, - не подумав, ляпнул я и получил, что заслуживал.
- Вон! Вон из моего кабинета! – орал Ринат. – О городских свалках писать! Тоже социальная тема! Провоняешь – одумаешься!
Редактор не шутил. Ссылка. Он действительно послал меня писать о городской свалке и это действительно здорово воняло. Я припарковал свою лакированную Тойоту у грязного бетонного забора с ржавыми воротами и любопытной вороной на них и поморщился от дикого, удушливого запаха дыма и гнили. Свалка была огромна, она была, как Гоголевский Днепр, просто бескрайней, что редкая птица долетит…. Это напоминало Армагеддон после сражения, с той может разницей, что по дымящимся кучам всевозможной городской нечисти бродили странные, серого цвета люди, вперемежку с воронами, и тыкали какими-то палками-клювами в эти кучи. Они были столь неразличимы, что пола определить было никак нельзя. Я подготовился. Я достал из багажника резиновые сапоги и переобулся. Пора к интервью.
На двери конторы, грязного сарая с выцветшей надписью, прочитать которую не представлялось возможным, висел замок такой величины, словно за дверью был банк.
- Любезный, - окликнул я какого-то бомжа, проходящего мимо. В руке у него была целая сумка какой-то нечисти, но которую нес он так бережно, будто там было нечто ценное и хрупое - Вы не знаете, где тут начальство?
- Здесь ворон начальство, - ухмыльнулся мужчина неопределенного возраста в серой щетине и бесцветных глазах. – Как тебя занесло-то сюда, карамельного?
- Я журналист, зовут меня Борис, мне нужно с кем-то поговорить о…, об этом месте, о его проблемах, так сказать…
- Проблемах, так сказать, - передразнил он меня с ироничной ухмылкой. - Макарыч сюда раз в месяц, от силы, дань с нас собрать. А то и вовсе козлов каких-то присылает.
- Дань? - изумился я.
- Хочешь, назови это арендой, да только сути не поменяется.
- Бог мой! За что ж аренду-то?
- За богатства несметные, сынок. Вишь, тут сколько всего? Золотая гора дерьма. Мы его тут моем, а за это право платить надо. Иначе попрут, да еще кости переломают. Колондайк гребаный. Доусон.
- А вы начитаны, дядечка, - заинтересовался я персонажем.
- Я, сынок, не дядечка, а Валентин Анатольевич Крейцер, и я не на помойке родился. Кандидат наук. А вот помереть на помойке может всякий. И ты не зарекайся от сумы. Машинка вон твоя, уже тю-тю, поди.
- Что? - забеспокоился я, бросился к выходу и… увидел, что Тойоты моей больше нет. Только черноглазая ворона с любопытством и даже с какой-то иронией смотрела на меня с перекладины ржавых ворот. Она явно все видела и если бы умела смеяться, то, конечно, теперь хохотала бы надо мной. Она бодро каркнула и полетела к своим собратьям, похоже, растрепать о моем несчастьи.
- Одно слово – свалка, - услышал я голос кандидата наук за своей спиной. - Но Макарыч с них свою долю тоже возьмет.
- Да что же это! – схватил я свой мобильник. Он был мертв.
- Не ловит? - ухмыльнулся Крейцер. – Ты в черной дыре, парень.
- В черной дыре…, - глухо повторил я. – А, Валентин Анатольевич, - проснулся-таки во мне журналист. – Кто-то ведь главный есть здесь? Ну, помимо Макарыча?
- А как же? Маргарита. Она тут, так сказать, королева бала. Как у Воланда.
- А можно мне с ней?..
- Бумажник-то, надеюсь, не в машине был? Давай сотню, проведу.
Я достал сто рублей и подал их кандидату. Не о репортаже я думал. Я надеялся выяснить, куда теперь отправилась моя серебристая малютка. Валентин Анатольевич повел меня на самый дальний край свалки, мы вошли в лес и оказались перед добро скроенным срубом с соломенной крышей, кирпичной трубой и козой, привязанной к плетеной оградке. Около нее высились три голенастые подсолнуха и стелился куст малины в ярких кляксах ягод. В сенях нас встретила огромных размеров дымчатая кошка. Она, будто осуществляя фейс-контроль, вспыхнула на меня желтыми своими глазами, приотворила лапой дверь в комнату и как бы пошла доложить. Крейцер несмело постучал.
- Можно, Маргарита Львовна?
- Что нужно, Крейцер, - раздался приятный, несмотря на довольно грубую интонацию, женский голос.
- Гость к вам. Журналист. Вроде о свалке нашей пишет, - не решался войти кандидат.
- Пусть заходит, а ты проваливай, - приказал голос.
Крейцер послушно удалился, а я вошел в горницу. В красном углу была икона Божьей матери с тлеющей под ней лампадкой и я, хоть и без веры, но, понимая правила, перекрестился и поклонился в пояс. Под иконой стоял дубовый стол, на нем медный самовар. Хозяйка пила чай. В деревянной плошке светился душистый мед, а в воздухе пахло свежеиспеченным хлебом. Со свалкой такое мало коррелировало (простите за журналистское словечко). Женщина была одета в совсем недеревенское. На ней было платье бирюзового цвета и затемненные очки в золотой оправе.
- Присаживайтесь, чаю? – мягко пригласила она, - вас?..
- Ах, простите, - смутился я, - я Борис Оберман, корреспондент еженедельника «Ночное солнце».
- Это в смысле, как фонарь Диогена? Человека ищете? – иронично и даже обидно усмехнулась Маргарита Львовна.
Похоже, ирония здесь была превалирующей интонацией в общении, во всяком случае, с чужаками.
- Так тот и днем-то, в городе не мог сыскать, а вы, значит, решили по ночам, да в подворотнях? Что ж. Вы пришли по адресу. Здесь человеков, как грязи. Так чаю, все-таки?
Я присел на лавку у края стола, выложил диктофон и достал блокнот, хотя, все эти движения были скорее автоматическими, ибо, думал я сейчас лишь о своей пропаже. Нужно было поскорее заявить в милицию, чтобы по горячим следам, так сказать, хотя…, что-то подсказывало мне, что дергаться уже поздно. Однако, я спросил:
- Маргарита Львовна…
- Можно Маргарита. Так чаю? – в третий раз предложила она.
- Ах, да, простите. Конечно, с удовольствием. Я так растерян, потому, что только что, от ваших ворот, простите, - вновь смутился я, - от ворот этой свалки у меня угнали машину…
Маргарита встала, подошла к грубого деревенского покроя серванту и достала из него чайный прибор.
- Неужели? - саркастически изумилась она, налила заварки и открыла медный носик самовара. – Какое сильное начало статьи. Вам сам бог послал. Начало – половина дела.
Ее цинизм и этот пренебрежительный тон начинали меня злить. Тем не менее, я спросил вежливо (грубость, порой и хамство интервьюируемого – часть нашей работы):
- Так нельзя ли, что-либо сделать? – принял я от нее блюдце с чашкой.
- В смысле? – присела она на свое место и подняла брови, будто не поняла вопроса. – Ах, вы о машине? - как-то театрально спохватилась Маргарита. - Нет, Борис. Ни одной машины, угнанной от нашего кладбища человеческих судеб, никто никогда не находил. Видите ли, здесь не много законов, нет римского права и даже уголовные «понятия» не в ходу, но, среди прочих, есть главный: что взял – то твое навеки. Тем более, если речь идет о почти новенькой Тойоте.
- Откуда вы зна…, - опешил я.
- О, не удивляйтесь. Здесь не работает сотовая связь, зато кладбищенская – без перебоев. Знаете, почему викторианская Великобритания стала самой великой империей за всю историю существования человечества? Четыреста миллионов человек на пяти континентах. Как ими управлять? Шапп, Земминг и Шеллинг – вот спасители Объединенного Королевства. Изобретение ими телеграфа изменило картину мира, как меняется она теперь от сотовой связи и интернета. У нас же здесь все, как в древнем Китае, от гонца к гонцу, зато без единого сбоя.
Мое изумление погасло обреченностью, ибо, я отчетливо осознал, что автомобиля мне больше не видать и машинально включил диктофон. Девушка явно была образована и начитана, что, впрочем, меня не удивило, коль скоро по свалке бродят кандидаты наук. Я глотнул ароматного чаю, на каких-то душистых травах, вздохнул и спросил:
- Значит судьба. Можно несколько вопросов?
Она, молча, кивнула.
- Валентин Анатольевич, что любезно согласился проводить меня к вам, представился кандидатом наук, вы, Маргарита, со всей очевидностью, имеете высшее образование, это что, правило или исключение?
Маргарита в очередной раз ухмыльнулась. Из-за затемненных очков, да еще в полумраке горницы, глаз было не разглядеть, и ухмылка была единственным ее, так сказать, признаком идентификации. Она была стройна фигурой, а кожей и формами лица выглядела лет на тридцать. Тут на колени ее запрыгнула известная нам уже кошка. Маргарита погладила ее за ухом и сказала:
- Вы знаете, Борис. Я очень люблю животных, но из всех млекопитающих на земле, менее всего любопытны мне приматы, особенно люди. Мне неважно, кто и с каких высот рухнул сюда. В конце концов, свалка, с философской точки зрения, есть картина, модель человеческого общества.
Здесь существует своя высокая, пусть и недалекая умом, но сильная администрация, у той есть свои хозяева и свои опричники, но это единственное, что извне. Внутри же есть элита, есть средний класс, есть изгои и бомжи. Распределение обязанностей так же рождается само, исходя из интересов «государства» и уровня интеллекта. Будь я на месте Томаса Мора, я не слизывала бы с Платоновских «Государства», «Крития» или «Тимея», я не искала бы мифической Утопии у берегов Южной Америки, а просто бы сходила на Лондонскую свалку. В чем сходство с Мором? Да во всем, по пунктам. Здесь не притесняется никакая религия, но каждая сводится к почитанию божественной природы, вся территория так же делится на семьи, по признаку участков свалки – промышленные, бытовые, продуктовые отходы, ну и так далее. Глава семьи избирается всеобщим собранием семьи. Дома их, пусть из ящиков да коробок, принадлежат всем и никому. Главное занятие едино для всех – это пропитание, сиречь, сбор мусора и лишь помимо этого, каждый занимается еще и ремеслом, на свои способности и вкус, но только после общего труда. Даже сифогранты, ну, то есть, главы семей, имея право не работать, работают со всеми на равных. Как и в Утопии, есть здесь и рынок, где производится обмен товарами между семьями, есть врачи, есть совет глав семей, определяющий судопроизводство. Еду готовят вместе, вместе и веселятся. Да что я вам буду рассказывать. Перечитайте «Утопию», подключите свое воображение, интерполируйте с учетом современности и у вас получится великолепная статья. Но главное сходство с островом Утопа заключается в том, что, как Утоп, первым делом, отделил полуостров от материка морем, так и мы здесь отделены от города и мира самой судьбою, а грузовики, ежедневно пребывающие сюда, можно рассматривать как приливную волну, несущую нам дары моря.
Я был поражен. Не такого я ждал от своего интервью и почти возблагодарил бога и Рината Ибрагимовича за то, что послали они меня в такую удивительную командировку. Тойота, в конце концов, застрахована, но материал-то может получиться золотой!
- Но, - возразил я, - Валентин Анатольевич взял с меня сто рублей, а, с ваших слов, у вас здесь хозяйство натуральное.
- Верно. Даже самогон мы варим здесь сами, хотя, пьянство не приветствуется. Но, Макарыч, директор этой помойки, есть некая неизбежность, к которой мы относимся, как, ну, скажем, к превратностям погоды, берет деньгами, справедливости ради сказать, чисто символически. Можно сдать банкнотами, если вдруг прилипли к руке, а так, все вносят собранным цветным и черным металлом, который тут без надобности, раз в неделю подъезжает грузовик, и мы обмениваем металлолом на деньги.
- А демография? – продолжал изумляться я. – Перенаселение, к примеру?
- Тут у нас свое кладбище. Там мы и хороним с несложным ритуалом, рожать здесь никто не рожает, конечно, но новое поступление превышает потребности и всякий новичок проходит строгий отбор.
- Ну а как здесь все-таки появляются люди, равные вам?
Маргарита вдруг нервно поправила очки и резко поднялась со скамейки.
- Вы знаете, Борис, - взяла она себя в руки, - вам лучше дождаться субботы и поговорить с Макарычем. Он подъезжает к двенадцати. А сейчас, я думаю, для вас важнее сообщить в милицию об угоне. Машину, уверяю вас, не найдут, но для страховки это важно ведь? Ну, вовремя сообщить? У меня тут есть свой скромный транспорт. До города не довезу, но от меня вы сможете вызвать такси. Идемте.
Я выключил диктофон, положил его в сумку и проследовал за ней. За домом стоял неказистый, почерневший временем сарай. Маргарита открыла его и скрылась внутри. Спустя время раздался рокот заведенного мотора и из грязного сарая выкатил блестящий, ровно только из автосалона, темно-зеленый джип Гранд Чероки, миллиона эдак за четыре. Как это она сказала? «Свой скромный транспорт?». Она открыла пассажирскую дверь изнутри и кивнула мне садиться.
- До дома минут десять, - выруливала она на лесную дорогу, которая уже через пару минут из грунтовой превратилась в асфальтовую.
Этот джип, этот асфальт, проложенный явно частным образом, все это более и более поражало меня, но это был еще не конец сказки. Из елового, в дремучем подлеске, бора мы вдруг въехали в прекрасную дубовую рощу и остановились перед ажурной ковки воротами, замыкающими столь же изысканный забор с пилонами из бордового лицевого кирпича и кованными же решетками пролетов. Маргарита щелкнула пультом и ворота эти медленно стали открываться во внутрь. На территории усадьбы (иного слова в голову просто не приходило) дубовая роща продолжалась, но теперь она вся была устлана ровным ковром стриженой травы без единого листочка на нем, что означало, что следит за ним не один и даже не два садовника. Я обучен контролировать мимику лица, жесты, в работе журналиста это очень важно, но когда мы выехали на круглую площадку (если не площадь), вымощенную базальтовой брусчаткой, к великолепному трехэтажному особняку с широкой мраморной, просто-таки Баженовской архитектуры лестницей, челюсть моя таки отвисла.
Место это достойно отдельного внимания. Сам особняк имел архитектуру…. В общем, Баженовской была только лестница. Далее, архитектоника его представлялась достаточно сбалансированной, но определить ей признак какого бы то ни было стиля я не решился бы (впрочем, сам Баженов тоже не держался никаких определенных стилей и, пусть и считался основоположником русского классицизма, но возьмите хотя бы дом Пашкова и вы поймете, что есть Баженов, а что есть русский классицизм). Лестница поднималась над цокольным, сразу ко второму этажу, где растекалась точеными балясинами вкруг основного здания белоснежной балюстрадой, опоясывающей довольно широкую террасу. Арочные окна второго этажа были довольно смело велики для нашего климата, но делали здание практически невесомым. Третий этаж был мансардовым и опирался на мраморный, ажурной резьбы карниз ухоженной терракотовой черепицей. Венчал всю эту красоту сплошь остекленный по кругу бельведер, внутри которого виден был великолепный зимний сад. Сама площадка перед домом была обсажена кустами благоухающих роз, но самым примечательным здесь было то, что ровно в центре высился огромный монолитный камень, на котором сидела… копия Царскосельской Соколовской «Молочницы» с разбитым своим кувшином, из которого в круглый бассейн с белыми лилиями, тонкой струйкой стекала вода. Но и это было не самым удивительным. Лицом девушка была очень похожа на… Маргариту (она все не снимала очков) и в душу мою пробралась какая-то…, нет, не тревога, но… Мне показалось, что я когда-то знал это лицо. Я подошел к ней и завороженно прочитал на память:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Маргарита неслышно подошла ко мне сзади и тихо произнесла:
- Узнал, наконец, Боря?
Я резко обернулся. Она стояла близко-близко ко мне и глаза ее, теперь уже без очков, смотрели на меня с какой-то пронзительной болью.
Я отшатнулся на шаг, чуть не упав в бассейн.
- Марго!?..
Да…. Это была она. Мы когда-то оба учились на журналистике и мы…, мы когда-то были влюблены друг в друга. Даже чуть не поженились. Я потом влюбился в другую, а Марго вдруг пропала. Она, никому ничего не говоря, забрала документы с четвертого курса и просто исчезла. Я помню, что у меня тогда словно гора с плеч свалилась. Ни слезных сцен, ни осуждений. И вот…, на свалке… Фантасмагория…
- Вижу, что узнал. Идем в дом, а то ты что-то чересчур бледен. Я прикажу подать нам кофе.
Я, сомнамбулой, поднялся вслед за ней по лестнице, и мы вошли в пространный зал с мраморным полом, малахитовыми колоннами в серебряных дорических капителях и круговым камином посредине. Сели в белой кожи кресла.
- Алексей, - обратилась она в пустоту. – Принесите мне и моему гостю кофе.
Ответа не воспоследовало, но через пять минут на круглом, дымчатого стекла столике дымились две перламутрового фарфора чашки кофе. Руки мои так дрожали, что я не решался протянуть их к прибору.
- Ну, вот теперь, здравствуй, Борис Оберман, - глотнула она кофе и вернула чашку на блюдце.
Я по-прежнему был нем.
- Как долго удивленье ваше длится, - впервые за сегодня улыбнулась она, процитировав Шурочку Азарову.
В улыбке ее не было уже той надменной саркастической синкопы, что звучала там, на свалке. Если она и испытывала наслаждение от моего паралича, то очень умело это скрывала. Она ведь тоже журналист.
- Мама! – вдруг раздался звонкий детский возглас откуда-то сверху и по лестнице, спускающейся в зал, застучали мелкой дробью каблучки.
- Боря! Боря! – раздался следом крик, видимо, няньки, - не бегай по лестнице так. Убьешься.
Нянька явно не поспевала за сорванцом. Малыш, лет пяти, в коротких штанишках и полосатой майке подлетел к Маргарите и обнял ее за шею.
- Привет, малыш, знакомься, это Борис Ефимович, наш гость. Он журналист и пишет о папиной работе.
Она с усилием оторвала малыша от своей груди и развернула ко мне.
- Здравствуйте, Борис Ефимович, - бодро протянул он мне руку. – Я Боря.
- Сколько раз говорила, строго сказала Марго, - дети словами здороваются первыми, а руку первым может подать только взрослый.
Боря смущенно отдернул руку, но она так и осталась бы без рукопожатия, потому, что я был на грани обморока. Передо мной стоял… я сам. Да. Сходство было так очевидно, что только слепой не заметил бы этого.
- Ну, все, - пожалела она мое состояние, - иди, погуляй в саду, малыш. Нам с Борисом Ефимовичем нужно поговорить.
Боря вприпрыжку побежал к выходу, а я тупо уставился в пол.
- Тогда, - тихо произнесла Марго, - я не стала ничего тебе говорить. Ты влюбился в Изольду, ну а я… Я в один день узнала и о своей беременности, и увидела вас, целующимися в парке перед Универом. Это был поцелуй любви. Я не стану рассказывать, что со мной было. Время лечит даже и такое. У него теперь есть отец, тот самый Макарыч, кстати. Я думала так и прожить…, я уже почти забыла тебя и тут…. Ну какой черт принес тебя на эту свалку! – вдруг вскрикнула она с каким-то надрывом.
Марго закрыла лицо руками, но она не плакала. Ей просто нужно было время, взять себя в руки.
- Поверь, я вовсе не хотела бить тебе по глазам своим богатством, выросшим из помойки. Все это тлен и дым и пахнет свалкой. Но я почему-то до боли захотела, чтобы ты увидел сына. Это, именно это богатство ты потерял, Боря. И я хочу, чтобы ты знал это не для искусанных локтей. Я хочу, чтобы ты понял, что ты так и остался со мной.
- Поэтому его зовут Боря? – наконец обрел я дар речи.
- Конечно, - улыбнулась Марго, но не мне, а будто вспоминая сына. – Пускай он и вырастет на помойке, но, поверь, я не дам ему сюда вернуться. Костьми лягу. И еще… Ты забудь сюда дорогу. Правда. Это не из мести или злобы. Просто знай, что где-то на земле у тебя есть сын. И когда ты окажешься на свалке жизни, а с твоей работой этого не избежать, может быть, он протянет тебе руку, а до тех пор…. Прощай, Боря. Здесь мобильная связь уже действует. Вызови такси себе сам. Скажешь, особняк Рябушинского, - вдруг, на первый взгляд, весело, на самом же деле, почти в истерике рассмеялась она. – Нет, серьезно, - смахнула она с ресниц слезы, - фамилия Макарыча, фамилия твоего сына и вправду Рябушинский.
Марго встала и медленно вышла в крайнюю справа дверь. Она ушла навсегда.
Из редакции я уволился. Свалкой казалась мне теперь не та, городская, а эта, людская. Мой брат, журналист, вдруг стал напоминать мне те серые бесполые создания, тычущие вороньими палками-клювами в человеческие отходы. Рябушинский, в отличие от нас, пожирателей человеческих экскрементов, сделал из свалки хотя бы какую-то организацию, в известном смысле, даже государство Утопию…, но, как странно, всякий раз, когда я проезжаю мимо какой-нибудь свалки я вспоминаю своего сына и ее, Маргариту, но не живую, а ту, бронзовую, на камне…
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Рейтинг: 0
516 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

