[Скрыть]
Регистрационный номер 0182362 выдан для произведения:
– Алексеев!
– Я!
– Бароян!
– Я!
– Буркин!
… Буркин!
Завертелись стриженные «под ноль»
головы, всколыхнулись ряды новобранцев, и шёпот их, сдержанный и тревожный, прошелестел
по неровным, наспех выстроенным шеренгам: «Буркин… Кто здесь Буркин?».
Расставшиеся на
два года с гражданской жизнью, только что сменившие обычную одежду на военную, нескладно
они выглядели со стороны. Угловато сидела, топорщась слежавшимися складками, на
них армейская форма – не приладилась пока она к их по сути ещё штатской стати, но пройдёт не так уж и много
времени, пооботрётся она на этих молодых, полных здоровья и задора телах, пообвыкнется
на их фигурах, и даже снятая будет повторять осанку своего хозяина.
Прапорщик Булыга, не дождавшись отклика,
повернулся к светильнику, что висел над входом в баню, и пристально всматриваясь
в список, беззвучно зашевелил губами.
– Всё
верно, товарищ прапорщик, так и есть –
Бур-кин! – заглянув через плечо Булыги, шепнул ему на ухо сержант Савчук,
разбив для пущей убедительности фамилию на слоги.
– Не
слепой… – буркнул прапорщик, посмотрев на сержанта осклизлым взглядом. – Сам
вижу, что Буркин. Вот только где он, этот твой Буркин? Ну-ка, живо отыщи!
Савчук тут же скрылся за дверьми бани.
– Кто может сказать, где Буркин? – зная наперёд,
что не получит вразумительного ответа, тем не менее обратился Булыга к молодому пополнению.
И снова ни звука… Одни просто молчали,
пожимая плечами, другие, как казалось Булыге, с издевательской ухмылочкой на
лицах или же с явным безразличием к происходящему, глядя прямо перед собой. А
молчали они потому, что не только не могли знать, куда запропастился их
товарищ, но не имели ни малейшего представления о том, как он выглядит, кто
такой и, вообще, что из себя представляет
этот исчезнувший Буркин. За сутки пути им едва удалось перезнакомиться и в
лучшем случае они знали друг друга лишь по именам, а когда после помывки
облачились в армейскую форму, то перестали узнавать даже тех, с кем уже успели
подружиться…
Побагровело лицо
Булыги, надулась и заиграла, пульсируя, жилка над левым виском, казалось, ещё
немного, он сорвётся, и, разъяряясь ещё больше, выпустит на волю поток
отборного мата. К тем, кто сейчас стоял перед ним, прапорщик Булыга не
испытывал ничего, кроме нарастающего внутри раздражения – нервы были на
пределе. Мало того, что вопреки его воле он в очередной раз был назначен
старшиной учебной роты (будто у него в своём подразделении забот мало!), так к
тому же приходится торчать на службе, когда в этот майский вечер дома в самом
разгаре веселье – жена его, Людмила, в тот день отмечала своё сорокалетие.
С утра он принял, помыл и переодел уже девяносто
два человека, и всё шло как по маслу. А тут на тебе! Последняя партия
новобранцев прибыла издалека и с большим опозданием, почти перед самым отбоем,
и вот теперь валандайся с ними до полуночи!
Булыга
судорожно перевёл дыхание и продолжил перекличку:
– Гриднев!
– Я!
– Демич!
– Я!
Над военным городком повисла ярко-жёлтая,
чуть выщербленная луна. Лениво раскачивались за забором тополя, лопоча на ветру
маслянистой от лунного света листвой. Во всех подразделениях уже полчаса как был
объявлен отбой, а вновь прибывшая партия всё ещё стояла возле бани. Дежурный по
части дважды присылал гонца из кухонного наряда, грозился, требовал, чтобы
Булыга поторопился, а тот всё никак не мог покончить с помывкой личного состава
и его переодеванием.
Но вот бухнула дверь, и из бани, как
ошпаренный, выскочил испуганный курносый паренёк с сапогом в руке. За ним не
спеша, вразвалочку, вышел сержант Савчук, левой рукой потирая правую, которой он,
очевидно, и придал закопошившемуся бедолаге необходимое ускорение. Савчук слыл одним
из лучших сержантов в части, но имел прочно укоренившуюся привычку раздавать
подзатыльники и обкладывать подчинённых бранью, делая это не по причине
отсутствия у него ума и такта, а по прочно прижившемуся в нём убеждению, что
иначе в армии поступать нельзя.
Буркин, едва
успев заправиться, с наброшенным в спешке на шею, словно хомут, солдатским
ремнём, на потеху более удачливым своим товарищам резво, кенгуриным скоком,
запрыгал на одной ноге к ожидавшему его строю, пытаясь на ходу надвинуть непослушный
сапог на вторую.
– Не с того службу начинаешь, боец! Хреново
тебе придётся, если попадёшь ко мне в роту! – рыкнул вслед ему Булыга и с
притворным добродушием добавил. – Ишь ты, поскакал… Сивка-Бурка!
Вот с той-то поры Женьку Буркина и прозвали Сивкой. И он не обижался, рассуждая, примерно,
так: «Ну что ж, Сивка так Сивка… Могли ведь окрестить и похуже!» На прозвище отзывался
охотно, и вскоре в учебной роте мало уже
кто помнил его настоящее имя.
Сивка был нрава миролюбивого и кроткого, ни с кем не ссорился, в пустые споры не пускался,
дружил со всеми ровно, ни с кем, однако, коротко не сближаясь, словно опасался
завязывать более тесные отношения. Когда выпадало свободное время, он брал в
руки гитару и, неумело вырывая из инструмента аккорды, напевал вполголоса одну
и ту же, скорее всего, самим же им сочинённую довольно примитивную песенку:
Ты ушла от меня
Тихо скрипнула
дверь…
Как мне жить
без тебя?
Что мне делать
теперь?
В болтовне Сивка был неутомим, и уже через
несколько дней все в казарме знали, что из-за неразделённой любви, разорвавшей,
как он уверял, его сердце в клочья, он бросил институт и, не дожидаясь
повестки, добровольно явился в военкомат с просьбой забрать его в армию и
отправить куда угодно, хоть к белым медведям. Пассии своей, ничего об этом не
сказал, но, каким-то образом прознав об этом, Нинка (так звали объект обожания
Сивки) прибежала провожать его на вокзал. А, может быть, и не провожать, а лишь
для того, чтобы воочию убедиться, что это не досужие вымыслы, и наконец-то она
будет свободна от его назойливых ухаживаний. Когда тронулся поезд, вместо слёз,
клятв верности и обещаний ждать, Нинка весело крикнула своему несостоявшемуся
ухажёру, чья белобрысая голова в тот момент высунулась в окно: «Женька, я не
буду ждать тебя! Не мечтай об этом и не надейся!»
Пожалуй,
наиболее тесно из своих сослуживцев он общался с соседом по койке Мишкой
Гридневым. Тот был москвичом, и Сивка время от времени приставал к нему с
просьбой рассказать о метро, а выслушав, вздыхал и мечтательно закатывал глаза:
– Эх, мне бы хоть разок прокатиться на метро!
Я ведь его только в кино видел! Вот везли нас сюда через Москву, ну, думаю,
сбылась моя мечта! А нас с вокзала и на вокзал – с Ярославского да на
Казанский…
И читалась в
глазах Сивки неописуемая грусть.
Сивка был
нерешителен, неряшлив и нерасторопен. Сколько раз спасал его Гриднев в первые
дни их службы! То постель ему поможет заправить, то в тумбочке приведёт в
порядок, спасая от гнева старшины, то подворотничок к гимнастёрке подошьёт.
Сам Сивка был
откуда-то из Зауралья. Как-то раз собрался он показать Гридневу свой городишко на
карте, водил-водил пальцем, да так и не сумел его отыскать.
– Эх, слаб я, Миша, в географии! – горько вздохнул тогда он.
После окончания
курса молодого бойца и присяги, молодое пополнение раскидали по разным
батальонам и ротам. В роту, где старшиной был прапорщик Булыга, Сивка, к
счастью, не попал, но и в другой роте старшина тоже был не ангел, и первые
месяцы ох уж и попадало Сивке от него! Гриднева же отрядили в другой батальон,
и так сложилось, что за всё время службы они не виделись друг с другом.
* * *
Но вот те долгие,
как казалось вначале, неохватные умом, два
года пролетели. И не верилось Мишке Гридневу, что через считанные дни он сменит
казарму на вагон скорого поезда и, лёжа на полке, под ласкающий слух стук колёс с каждой минутой
будет неумолимо приближаться к родному дому.
Чем ближе
становился день увольнения, тем всё чаще и чаще забирал Гриднев свой чемодан,
хранившийся, как и чемоданы всех увольняемых, в ротной каптёрке. Бережно
открывал его, не без трепета отщёлкивая два никелированных замка (и это звучало
как музыка!), неторопливо перебирал
содержимое. Всё было в порядке: аккуратно уложены личные вещи, недорогие
подарки родителям, брату и сестре, особое место занимал его дембельский альбом,
которым Гриднев гордился – немало труда и терпения он потратил, чтобы это стало настоящим
произведением искусства. Посидев на
кровати некоторое время над распахнувшим свой зев чемоданом, он закрывал его и
нёс своё сокровище обратно в каптёрку. Каптёрщик ловко забрасывал его на
специально сооружённую под самым потолком полку к другим чемоданам, которые так
же скоро разъедутся вместе со своими хозяевами по всей стране.
Но странное дело
– пришёл последний день службы, тот самый день, который они все два года «приближали,
как могли», а особой радости Мишка не испытывал. Уже на следующий день вечером
выстроятся увольняемые на плацу с чемоданами, и под звуки духового оркестра
увезёт их автобус на вокзал. Как ни было в армии трудно, но здесь он оставлял
привычную и понятную ему жизнь, а впереди, на гражданке, ждала туманная неизвестность, пугающая его
своей неопределённостью…
В зачитанном на
плацу приказе об увольнении в запас, среди прочих фамилий назвали и Буркина. И ожили
в Гридневе воспоминания их первых дней службы. «Вот, значит, как получается, – подумалось
тогда ему. – Вместе начинали службу и заканчиваем вместе…».
В последний день перед отъездом домой,
вернув, как обычно, чемодан в каптёрку, Гриднев от нечего делать решил
заглянуть в Ленинскую комнату, и лоб в лоб столкнулся с выходившим оттуда
замполитом роты капитаном Бондарем.
– Гриднев! А ты когда думаешь доделывать стенд?
– спросил тот. – Смотри у меня, не закончишь
к завтрашнему утру, тормозну с увольнением!
В части уже давно сложилась традиция,
когда увольняемые брались за так называемую аккордную работу. Обленившиеся и считавшие
себя уже наполовину гражданскими людьми «старики» за обещание отправить их
домой в первую очередь брались за любую работу, и начальство этой слабостью
старослужащих пользовалось. Гриднев ухватился за предложенное замполитом
оформление Ленинской комнаты, что сделать, как тогда ему казалось, было проще
пареной репы, но, углубившись в работу, он вскоре понял, что просчитался и кусал
локти, жалея о том, что не согласился вместе с остальными на покраску забора.
Конечно, угроза задержать его с увольнением, как он справедливо рассуждал, была
неприкрытым и наглым шантажом. Приказ был подписан и зачитан, поэтому вряд ли
замполит мог что-либо предпринять.
В целом стенд уже был готов, осталось только
приклеить выпиленные из плексигласа буквы, которые составляли его заголовок: «Жизнь
В.И. Ленина». Для этого нужен был дихлорэтан, и, зная, где его наверняка можно
раздобыть, вечером, сразу после ужина, Гриднев отправился в радиомастерскую к
своему земляку Ивану Гущину.
Гущину с армией повезло немного больше: всю
службу, за исключением карантина и первых месяцев он провёл в радиомастерской,
занимаясь посильным ремонтом армейской радиотехники, а большей частью возвращая
к жизни телевизоры и радиоприёмники офицерам. Иван Гущин мог позволить себе
ходить без строя, в наряды его не ставили, в расположении роты появлялся редко, питался отдельно, на кухне,
где повара усаживали его за отдельный стол в варочном цеху и старались ничем не обидеть. Иван был из
разряда тех людей, которые всегда всем нужны, всегда всё знают, и к которым
окружающие испытывают непонятную симпатию. Поэтому и по службе ему часто прощалось
то, за что других строго карали. Если в семье офицера выходил из строя
телевизор или радиоприёмник, то вместо того, чтобы тащить его в часть, офицер оформлял
Гущину увольнение, и тот быстренько управившись с ремонтом, мог целый день
болтаться по городу.
Вот к нему-то
и направился рядовой Гриднев.
Мастерская
находилась в одноэтажном здании, где размещались учебные классы. Когда-то в
торце строения прорубили дверь и сделали отдельный вход, превратив один из
таких классов в радиомастерскую.
На условный стук
в дверь, Иван некоторое время не открывал. Сначала внутри приглушили музыку,
затем послышались шаги и, наконец, лязгнул дверной замок.
– А, это ты,
Мишка! – приветствовал его Гущин. – Проходи! Ну что, завтра домой? Прощаться
пришёл?
– В общем да, – смущённо
улыбаясь, ответил Гриднев. – Но не только
за этим.
Иван закрыл
дверь за гостем, и Мишка услышал, как звякнула посуда где-то в глубине
помещения.
– Кто у тебя? – насторожился он.
– Да так, один
парень. Кстати, тоже завтра увольняется.
И тут из-за
шкафа высунулась радостная физиономия Сивки.
– Привет, Мишка!
– радостно воскликнул он. – Где же ты пропадал? Я уж думал, в другую часть тебя,
что ли, перевели?
– Вот так
встреча!– обрадовался другу и Гриднев. – Не думал, что увижу тебя здесь!
Тем временем
Гущин разлил водку по стаканам, разложил на столе нехитрую закуску.
– Ну что, выпьем
за наш с тобой дембель, за эти два не зря прожитых года?– Сивка весь светился
от радости, и Гриднев невольно залюбовался им: это был уже не тот Сивка, что
скакал на одной ноге у бани.
Гриднев сел на
подставленный ему услужливым Сивкой табурет.
Выпили, и Сивка
разговорился. Мишка узнал, что особа, отказавшая ему когда-то во взаимности, не выдержала и через полгода стала
забрасывать его письмами, что он пообещал ей после службы восстановиться в
институте, и что теперь он необыкновенно счастлив.
А чтобы Сивку
сделать ещё более счастливым, Мишка предложил ему ехать домой через Москву.
– Столицу тебе покажу, Сивка…
– И метро? – у Сивки загорелись глаза.
– А как же? Накатаешься вдоволь!
Гущин разлил по
стаканам то, что оставалось в бутылке.
– Ну, за наше
увольнение пили, – поднял стакан Сивка. – А теперь, Иван, за то, чтобы
оставшиеся твои полгода пролетели как один день!
Сказал и залпом
выпил. И вдруг, загадочно подняв палец вверх, выскочил из-за стола и на бегу
уже прокричал:
– Братцы, у меня
ещё бутылочка припасена для этого случая. Я за ней сейчас, я мигом!
Когда за Сивкой
закрылась дверь, Гриднев с Гущиным опустошили свои стаканы.
– Да, вот что, чуть не забыл, – сказал,
закусывая, Гриднев. – Я же к тебе вот по какому делу шёл: нет ли у тебя
дихлорэтана? Замполит-собака со своим стендом пристал, не отвяжешься!
Доделывай, говорит, раз взялся!
– У меня, Миша, сам знаешь, – хлопнув друга
по плечу, сказал Иван. – Как в Греции… Сей момент!
Гущин ушёл в
кладовую. Не прошло и двух минут, как он вернулся, неся бутыль из тёмного
стекла.
– Ну, давай, подставляй!
– Что подставляй?
– Ну, куда тебе отливать-то? – удивился
Гущин непонятливости своего товарища.
– Вот, чёрт! – хлопнул себя по лбу Гриднев. – Я же с собой
ничего не взял… Ладно, подожди, сейчас сбегаю
в санчасть к знакомому фельдшеру, у него этих склянок море!
Гриднев выскочил
из мастерской, а Гущин… Хотел было Гущин поставить бутыль на стол и подождать,
да потом решил времени не терять – отлил
из бутыли её содержимого в стоящий на
столе стакан и, закупорив ёмкость, понёс её обратно. И не слышал Иван на беду,
как хлопнула входная дверь, как вбежал в мастерскую счастливый Сивка, как вынул
он из-за пазухи поллитровку и, поставив её на середину стола, вдруг заметил налитый
стакан.
– Ничего себе, – удивился Сивка. – Вроде бы
все выпили, а осталось… Наверное, Мишка не осилил… Слабак!
И маханул залпом, осушив стакан до дна.
На следующий
день из окружного военного госпиталя пришло в часть известие, что рядовой Евгений
Буркин умер.
Так и не
покатался Сивка на московском метро…




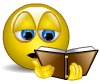 я ? Спасибо за интересную информацию и отличный рассказ.
я ? Спасибо за интересную информацию и отличный рассказ. 
