Глава 8 «Кобылка»
21 декабря 2016 -
Татьяна Стрекалова

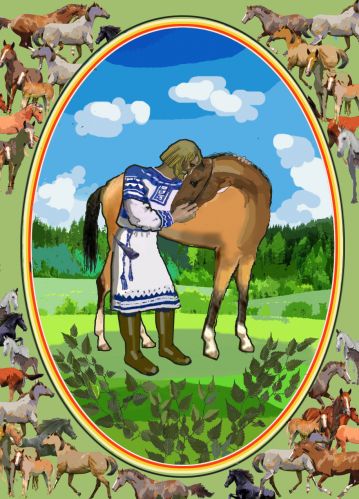
Откуда у Стаха девица-кобылка?
От печки далёкой, горячей и пылкой.
Из прошлого дебрей. Забытое, вроде.
Казалось, ушло. Но совсем – не уходит…
Право, занятно! Чем больше розы-розги душу секут, тем складней промыслы ладятся. Это всё кобылке буланой слава-честь! Не обманулся в ней Стах. Резвая, понятливая – и двужильная. Себя молодец не жалел, спал в полглаза, ел в полглотка. А кобылку, как девиц принято, кормил-баловал. Нежил. На руках носил. А она его – в седле. Ни шагу от него. Собачка, да и только.
Однажды зимой в воскресенье выходящие со службы Гназды лицезрели на площади пред храмом тройку лошадей… а верней, двойку с половиной: третья лошадка совсем молодая, и тягала вполсилы. Над санями время от времени перекошенной крестовиной угловатых плеч приподнимался незнакомый мужик и надсаживал мощную глотку: «Где тут Стах Трофимов?!»
В крепости Стахов Трофимовых наблюдалось около десятка. То один, то другой подбоченивались пред чужаком:
– Ну, я Стах Трофимов…
Тот задумчиво оглядывал то немолодого бобыля, то кряжистого отца семейства, то парнишку-выученика и сокрушённо вздыхал:
– Не-не! Не тот.
Стах вынырнул из притвора, процеживаясь меж степенных старцев: ужас как торопился к обеду, но его толкнули в плечо. Да он и сам услышал, как на все лады выкрикивают его имя, и оглянулся. В грубоватом лице и радостном оскале крупных лошадиных зубов сомневаться не приходилось. С того чёрного дня минуло три года. В тот день не мог Стах его не запомнить. В тот день Стах во всё, что попадалось, глазами вцеплялся: а вдруг неправда! Но никогда после не думал встретиться. Приведёт же Господь! Племянник Токлы!
Племянник углядел его, когда тот ещё проталкивался к саням. Лошадиный оскал распахнулся шире бороды.
– Тот! Он самый! Тёткин полюбовник! – гаркнул издалека на всю площадь. – Уж его зарёванную рожу среди любых узнаю!
Стах споткнулся и стиснул челюсти. Ну, что? С размаху в глаз человеку заехать? Не для того, поди, прибыл он, чтоб в глаз получить. Потолковать сперва надо.
Перемогся Гназд и, цепенея от сдержанности, мягко приблизился к гостю. Тот спрыгнул с саней и восторженно хлопнул его по спине:
– Здорово, парень! Сколько ж я до тебя добирался! Это рассказывать… – он обречённо махнул квадратной пятернёй. И довольно заметил:
– Но у вас тут, гляжу, славные ребята. Засеку миновал – тут же двое с двух сторон лошадей под уздцы… Ну, расспросили, конечно… так слава Богу, мне чего скрывать? И проводили до самых ворот, любо-дорого. Хоть по лесам не мыкался…
Стах уже пришёл в себя. Ну, а в самом деле, не будешь объяснять похожему на крестовину мужику, что невозможно сказать «тёткин полюбовник» о том, что и по сей день больно откликается в глубине Стаховой души, и ни одна душа на свете о том не знает. Да и не со зла он. Назвал вещи своими именами. Потому Гназд радушно гостя приветствовал, и дружелюбные слова давай сыпать: какими путями, да какими судьбами, да что привело… А юная лошадка повернула к нему голову и смотрит. Потом ножками переступила – и опять смотрит. И Стах на неё загляделся: хороша! Нет, право, хороша. Тугая, литая, точёная, ни прибавить нигде, ни убавить, вершок за аршин, шея – лист аира, голова – бутон, а ноги – стебель, и глаза громадные, добрые, чёрные, и чёрная полоска по хребту переходит в хвост. Просто царевна-королевна по своим лошадиным понятиям.
– Чего лупишься? – рассмеялся гость. – Забирай! Твоя! Ради неё и приехал.
–Да ты что?! – вытаращился Стах.
– Вот – что! Уйми гляделки-то: успеешь, налюбуешься, – и объяснил уже обыденно, – Тётка, отходя, завещала… С покойными, сам знаешь, не шутят. Как следующий раз её кобыла ожеребится, жеребёнка подрастить – и Гназду. Пусть будет память. Вон, всё бросил, тебя отыскал. Получай трёхлетку. Далеко вы, Гназды, гнездитесь, ну, да не впустую съездил: из нашей глухомани поди, выберись – а тут, значит, заодно…
– Ишь как… – потёр лоб Стах и растерянно спросил, – а разве была у Токлы кобыла?
– Была, – пожал плечами племяш. – Всё когда-то у людей бывает… а, как дядька помер, она кобылу к нам поставила: не прокормить. Да и зачем ей? А мы ей сена, там, подвалим, дров. В село свозим.
– Так ведь лет-то сколько прошло, если ещё при дядьке кобыла была?
– Да тогда что! Только от матки отняли. Так что нынче – ещё ничего возраст. Вишь, ожеребилась – тебе приплод. Бери, не стесняйся. Она лошадка славная, сам увидишь!
Ну, конечно, Гназд кланялся и благодарил. И пригласил в гости, и за стол усадил, и лошадок обиходил. Отдаривать пытался – вот тут сложно получилось. Упёрся племяш – ни в какую:
– Это что ж за подарок будет? Это вроде я тебе продал? Да меня ж тётка замучит!
– Ну, как ты мне продал? Ты ж за лошадь мзды не просил. Я по своей воле тебе вручаю. Может, я тоже на память хочу… – и понизил голос:
– Да я тебя уже за то озолотил бы, – поведал сокрушённым шёпотом, – что за столом в родительском доме ни разу не припечатал ты меня «тёткиным полюбовником».
– Да к слову не пришлось… – озадаченно почесал затылок племяш.
А кобылка пришлась. Как родная. Через два года под седлом пошла. Лезло, конечно, в голову Токлой её назвать, да неловко: лошадь же… Заглядывая в её блестящие глаза, Стах испытывал стойкое и необъяснимое чувство, что оттуда, из этих глаз, льётся на него свет, что витал когда-то в горнице Токлы. Добрый свет. Вечный свет. Не от того ли света ему, погодя, Лала явилась…
Кобылка моргала чёрными густыми ресницами и тёрлась носом о плечо, а хозяин смотрел с улыбкой, и думал: «Глупая ты девчонка!» – и сердце мягчело. Так имя и получилось.
В дружественном союзе они преодолевали многие вёрсты, не зная послаблений, не допуская заминок. Пару раз за зиму прорвались они чрез лихую засаду, раз от погони уходили, отстреливаясь. Птицей летала легконогая Дева, за версту чуя злые глаза, и оттого ей везло. Правда, пуля срезала ей кончик уха. Оно исходило кровью, и Стах заботливо лечил его, хмурясь и бормоча укоризненно: «Ну, и звери! Как же можно так с невинными девицами…» Кобылка обиженно вздыхала и хрупала морковкой.
Потом пришла весна, дороги развезло в слякоть. Потеплело, но ветер стал влажным и пронизывал насквозь. К копытам липла вязкая глина, бока захлёстывало жидкой грязью, но кобылка упорно шла, потому что хозяин убеждал её в этой необходимости знаками шпор и трепал по шее, приговаривая: «Ну, давай-давай, непорочная!»
Зато вскоре, когда просохли большаки, и весна вошла в силу – звонко и весело цокалось лошадке в лёгком ветерке, под славным солнышком – в ожидании, когда хозяин спрыгнет с неё и подтолкнёт пастись на зелёный лужок. Соскучилась за зиму по наливающейся земными соками травке. Травка – ну, мечта! Ну, благодать! Девица бродила в лугах, грациозно перебирая жилистыми тонкими ногами. Крепкие зубы деликатно-неторопливо покусывали зелёные соцветья с величайшим наслаждением. Громадные глаза вопросительно косились на Стаха.
«Ииа, хозяин! Что ж ты такой печальный?! Ты глянь – как зацвела земля вокруг! Глянь, как призывно вьётся белый шлях за далёкие холмы! Как солнечный луч дробится в ряби речной! Отчего не нырнёшь, не поплаваешь – когда купаешь меня в ласковой воде да песком трёшь?!»
«Что тебе сказать, кобылка глупая - дитя несмышленое? Потому не тянет меня нырять-плавать в ласковой воде, что из той из воды в прежнее лето - выплёскивались руки нежные – да на плечи мне ложились. Оттого в воду несладко мне – что из той, из воды – ровно год назад - выловил себе на горе – чудную рыбу серебряную».
«Ииа! Не вешай нос, хозяин! Жизнь - во всём разберётся. Куда длинней лошадиного - век человечий! Вам ли, людям, печалиться?! Успеете радости пригубить! Нет горя – когда солнце пригревает, да волна омывает, да свежий лист шелестит от ветра! Каждый цветок на лугу – великая радость и Божий дар! Ляг на землю, обними её руками – прильни всем существом – и ты ощутишь всю огромность её и незыблемость. Чувствуешь? Сколь она вечна и сколь много всего ещё таит в себе – того, чего тебе не мнилось, не снилось…
Да что там, друг сердечный, любимый преданный хозяин мой! Увидим с тобой мы ещё разные края и пути неведомые, увезу тебя в такие дали, где закружит пестрота ярких красок-впечатлений, и увлекут бурные струи всего любопытного да интересного! Ты меня, лошадку, не знаешь! Я, лошадка – судьба твоя! Ты меня послушай. А если взгрустнётся – травку свежую на лугу пощипи…»
«Ах ты, глупышка! Ну-ка, держи цукерку! Где мы едем-то с тобой? Узнаёшь? Места знакомы. Дорога на Скены. Вдоль и поперёк изъезжено. Да и тебе не вновь. Бывали! У меня здесь давние стоянки, и не одна. На такую стоянку – вот – выходим с тобой, и тебе, девице – знать не надо, за какие такие подвиги привечают меня сладкие вдовы. С ними, понимаешь… взаимовыгодный договор. А только – ложится грех на душу. Как заночуешь – так и грех. Ты, целомудренная, того греха и не ведаешь. Да вам-то, лошадям – оно в грех не вменяется. Чего со скотины взять? Царствие Божье не лошади – люди наследуют. Только не такие, что по хозяйкам шастают. Вот с этим я, девочка моя – не справляюсь. Ну-ка – поторопимся. Смеркается».
«Ииа! Рассвело! Пробудись! В путь! Что-то не выспался ты, хозяин! А хозяйка твоя ничего! Славная такая. Тебя встретила-приветила, мне не поскупилась на овёс. Глянь-кось! Рубашечку тебе исхитрилась постирать! С такой хозяйкой расстаться жаль… ан, придётся. Вон, вон! прощаешься с ней, рукой машешь, кричишь с седла, что скоро заедешь. Жаль обманывать бедняжку. Никогда тебе больше не бывать у ней. Эту дорогу впредь обходить тебе стороной. Суеверен ты…»
«Суеверен… Что ж? Пожалуй. Суеверен по глупому! Хуже старой бабки! Хуже дурачка с паперти! От этого от суеверия – впору вешаться! Прости, Господи! Отчего я не доверился тебе, Господи, всеми помыслами да составами?! Отчего с молитвою да пылкой верой – не ринулся в чёртову пасть? Али я не ведал, что хранит Господь предавшихся ему беззаветно? Вздумал своим умом оберечься! Решил охраниться опасливо! Накажи меня, Господи! Поделом молодцу оробевшему!»
Поделом…
Со своей животиной – воплощением невинности – миновал Стах Скены, а за Скенами дорога взяла на северо-восток, шла ровно, гладко, и он знал, что так же ровно и гладко будет она ложиться пред ним многие вёрсты – весь день. Он опустил поводья – Девка шла мерно, плавно, и он не сомневался, что ему обеспечено два-три часа такого хода. Уж здесь-то кобылка была грамотная!
Расслабился – и сморило. И задремал, покачиваясь в седле.
Сон казался лёгким. Сквозь смежённые веки ощущал он яркое солнце, мерным колыханием тела чувствовал движение лошади - и то проваливался в сон, то выныривал. Ему снился дом. Снилось – что ссылка в Полочь – это недоразумение и ошибка. Вдруг осенило – как же он раньше не понял, должно быть, забыл просто?! – что никто же не гонит его из Гназдовой земли! Напротив – ждёт, и вот он едет домой, и скоро-скоро случится оно: и возвращение, и встреча! Потому что – нет препятствий! У него нет никакой жены! А есть прекрасная невеста! И вот уж близко… близко всё! Яркое счастье, бьющее подобно солнечным лучам, что так и льются в глаза с небес, слепя и нежа – оно – уж при дверях!
И так вот ехали они с милой кобылкой – душа в душу, долго-долго, тихо да плавно, всё на свете позабыв, и было это замечательно!
А потом – чувство блаженства – медленно перетекло в чувство тревоги. Как будто собиралась гроза. Исчезло ласковое солнце. Пошли хлестать ветки. Гназд с трудом разлепил веки, одурело осмотрелся.
– Ты это куда забралась, скотина?! – свирепо рявкнул на лошадь. Лес смыкался над головой, стеной стоял по обе стороны узкой, кочками, тропы. Куда занесло? Ничего понять не мог. Едва разглядел солнце сквозь древесный заслон. Лошадь взяла восточнее, Гназд сообразил, где она разошлась с дорогой. Была там, в двух верстах от деревеньки Балки, заросшая тропа. Совсем забыл о ней. Чего туда кобылу привлекло?
Лошадка у него нежная. Сердечная, прямо сказать, лошадка! Голову на плечо кладёт и влюблёнными глазами глядит. И он-то в ней души не чает! Знай, гриву чешет да за ухом трепет! А как ещё обращаться с ранимой девственницей?!
Только тут презрел он всю её ранимость, оставил нежности. Зауздав покрепче, хорошенько кнутом отходил. Дева взбрыкивала и жаловалась тоненьким ржанием. На хозяина с упрёком воззрился тёмно-коричневый, со скрытым глубинным сиянием, глаз, отчего кнут сам собой опустился – но Гназд рассерчал ещё больше:
– Опять ты! Опять напомнила!
Впрочем – лошадка, вроде, поняла, за что получила. Подрожала слегка – и, подобравшись, мягко ткнулась носом в дружеское плечо. Стах посмотрел на неё испытующе – и примирительно по шее похлопал. Ну-ну! Ладно! Разобрались!
А дальше – что же? – назад ворочаться? И время жалко, и лошадь… Дорогу-то молодец порядком заспал. Кнут достался кобылке. Хотя – следовало бы – ему. Ну, да хозяин – барин…
«Эх, – думает, – пойду – как шёл! Через лес! Сверну потом на приметную безымянную тропку и выйду на Горчанский тракт. А уж там – доберусь до Мчены. Не особо дальше – но лучше, чем возвращаться. Суеверен, что поделаешь…»
– Ну, падаль! – прикрикнул он на барышню в застарелых остатках гнева, – ступай, куда сама залезла!
Кобылка виновато затрусила. Гназд уж не спит, конечно: не впрок оказался сон. Разнежился, понимаешь… Невеста, де, прекрасная! Нет у тебя, дурак, невесты! Лошадь есть!
Ну, что ж? Едет себе. На тропу глядит. Больно ухабиста. А дальше – и вовсе завалы, буераки, бурелом. Зимой, видать, наломало. Ну, думает, Стаху – забрался ты! И поделом тебе, соне и греховоднику! Ночью отсыпаться следует, без хозяек – тогда не будешь днём носом клевать!
Смотрит – под лошадиными копытами болото зачавкало. Давно здесь не хаживал – однако, помнится, в болоте не вяз! Потому – не смутило. И кобылка не смутилась – везла без жалоб. А всё ж молодец злился: дёрнуло же дурёху променять прямоезжую укатанную стёжку – на эту хлябь кочкастую! Завезла в трясину на мороку, кикиморам на забаву!
И только так подумал – где-то далеко-далеко, еле слышно! – шелестящую тишину пронзил тонкий звук. Такой странный звук – какой в лесу не встретишь! Ёкнуло внутри – Гназд перекрестился. Все мы во грехах – а всё ж до сего дня не было ему таких искушений. Не стонали странные голоса посередь леса!
Смутно стало мужичку, однако робкие мысли отбросил, встряхнулся. Бывает оно, думает. Но – милостив Господь. С молитвой – и от пули увернёшься, и от ненашей болотных. Не отвлекайся помыслами на суетное – на Бога уповай!
Проехал так сколько-то – и замечает – кобылка суетливо подёргивает да норовит всё правее тропы взять. Чего-то заносит её в кустарник, словно куда напрямки нацелилась. Гназд, понятно, не пускает – ещё чего? Мало, что сюда затащила – ещё в хлябь с ней провалиться! Выправляет её, и она вроде не перечит – а как послабит узду – опять за своё! Отродясь такого не вытворяла! Возился с ней Стах – и от светлых помыслов отвлёкся несколько – как тут опять – оно… Звук дальний. В той стороне, между прочим, куда лошадка закручивает. Эко, тянет её на мерзость всякую! Да… берёт… берёт порой верх тёмная сила над неразумной тварью бессловесной. Что с дитяти взять? Но человеку – на то и голова! Чтобы козням бесовским не поддаваться. Чтобы мымры не прельстили. Они! Чего вытворяют-то! Прямо – как голос женский! Вон-вон! – снова! Ну, точно женщина кричит! И теперь уж – ясней как-то. Вроде – зовёт. Испуганно так – это улавливается. Ну, да кто не знает – поросль дьявольская на хитрости горазда.
Гназд сунул руку за пазуху, крест на груди нащупал, про себя взмолился: «Прости меня, Господи, окаянного!» – и тут же опять – далеко! – женщина вскрикнула. А потом – почти не переставая, с короткими промежутками – короткие крики. И вроде – погромче. То ли ты едешь на крик, то ли крик приближается. Но всё – неясно да слабо. Расстояние велико.
Тут молодец подумал – а чего, как баба, перепугался-то? Ну, почему обязательно нечисть какая? Да мало ль, почему женщины кричат? Надо поглядеть – что за беда.
Помедлив, он поехал на крик. Не больно торопился. Осторожно двигался. Осматривался. Впопыхах-то – пожалуй, наедешь! Не отобьёшься! А так – лёг за камушек – да перестрелял, кто там лишний. В общем – не особо его это задело. Ну, потрусил, на всякий случай.
Так продвигался, и даже с некоторым любопытством – как вдруг прозвучало – что-то вроде его имени. Прислушался – и вновь за крест схватился! Ну – слышит явственно: «Та-ху! Та-ху!» На расстоянии-то – долетает нечётко. Но – похоже! Что там ещё про его душу?! Снова прельщает бес лукавый?! Пока пробирался – всех угодников вспомнил. Однако ж – вольно, невольно – поторапливаться стал. И чем дальше – тем резвей.
Опять – ещё ближе – закричали – да истошно так: «Таху!» – даже начальное «С» проклюнулось… или сам уж он поверил в него. Потому что – показался… голос…
Аж, дух захватило!
Но тут же – благоразумие взяло верх. Да, с чего, думает? Откуда?! Не может быть! Блажь какая-то! В конце концов – чего сам не выдумаешь среди безмолвия лесного? Голос… Тебе, дорогой, этот голос и без чащ-бучил – днём и ночью слышится!
Хм… пусть даже – если кричат: «Стаху»? Что же? Так не одного тебя крестили! Ничего странного. Женщина. Стаха зовёт. Может, ребёнка потеряла, ищет – конечно, звучит отчаянье.
И опять он себя осадил… и опять замешкался…
Тем не менее – во всех волнениях и колебаниях – неотвратимо двигался на голос. А ход у кобылы мягкий да лёгкий. Она идёт – сучок не сломит!
Скоро поднялись на сухое место, откуда ни возьмись, завертелась тропка. Гназд – по ней.
Глядь – на тропе – привязанный конь. Гнедой. Ладный. Щипет траву, склонивши мирную голову. Торока у седла, скарб кой-какой. А главное, ружьё при седле, и хорошее. А седло – без хозяина.
Зато через седло через то – переброшено что-то очень знакомое. Гназд оторопел вконец! Тёмно-красное и белое что-то. И кусок вышитый проглядывает. О Господи! Ну, не бывает столько совпадений!
Вот тут-то - рьяно дёрнул он кобылу на голос. Уж не таясь, поскакал, во весь опор. Но в гуще кустарника пришлось бросить её. Спрыгнув, кинулся на крик. Слышит внятно в этом крике: его зовут. И зовёт… небось, не кикимора!
Голос прозвучал пронзительно, истошно – совсем близко… и в последний раз. Пробежал ещё, прислушался – всё! Тишина гробовая! Заметался – туда-сюда… Не найти! Опоздал, Стаху!
Что ж? Давай, крадучись, хоронясь – шарить вокруг. Спеша – но – чтоб ветка не хрустнула! Рука на курке.
И вдруг, рядом, сквозь сплетение ветвей – дыханье. Хриплое, частое.
Небось, знаешь, когда так дышат…
Ох, и погано стало!
Подобрался… сквозь рябь кустарника разглядел его. Со спины. Вернее, с задницы. Видит – мужик. Грехи человеческие умножает. И – похоже – над мёртвым телом глумится. Не разберёшь, кого там задавил насмерть. Ножка только видна. И башмачок. Красный узорный башмачок, что Стах на эту ножку когда-то своей рукой надевал…
Вот за этот башмачок – разнёс он ему башку напрочь. Всего с десятка шагов-то! В тот миг, как приподнялся тот в жадном содрогании.
Брызнуло во все стороны. Полетело кровавое крошево. А тот ещё дёргается, как живой. А из него хлюпает. Тьфу, гадость! Глаза б не глядели!
Да Гназд и не глядел – не до него. Сволок чуть в сторону. Разобрать пытался, что ж там под ним-то жуткое! Кровище! Месиво грязное! Ничего не поймёшь – но ведь знаешь, что! Не хочешь верить – но знаешь! Лучше б на свет не родиться!
Покорёженное нагое тело, голова запрокинутая, закатившиеся глаза. В пятнах крови она казалась совершенно голубой.
Ощупал, осмотрел: что ж ты сделал-то, гад?! Придушил? Прибил? Порвал?
А потом – всё ж услышал. Сердце!
Стах вскочил. Что-то ещё можно! Сбегал до ближнего болотца, шапкой черпнул. Сколь донести удалось – бережно на лицо ей вылил, смывая кровь. Ещё принёс – ещё вылил. Лить и лить на неё холодную воду… Холодные плечи от мерзости отмывать. Тереть да теребить, крепко похлопывать: может, очнётся. Щёки, плА туда, ниже – смотреть невмоготу.
Прекрасное лицо – было ужасно! Мёртво! Вглядывался – и едва узнавал. Сто раз сомнение возникало – она ли? И душа сто раз ёкала в надежде – и сто раз обрушивалась во мрак.
Наконец, вылив предостаточно воды – ощутил он в ней слабое движенье. Дрогнуло под рукой, судорога прошла по мышцам. В горле клёкнуло – и она сильно вздохнула. И опять, опять. Задышала, дёрнулась. Ресницы затрепетали, из-под век пробился мутный взгляд. Он понял: смотрит! И – не видит. Не узнаёт.
Сперва обрадовался – по-страшному! Жива! Потом испугался. Потому как – тусклый безучастный взор близкого – это жутко! Её тут не было! Её вообще – не было!
Стах тряхнул её с отчаяньем:
– Лалу!
Зовёт, сам подвывает:
– Лалу! Слышишь?!
Бледные уста её шевельнулись – и замерли. Он – снова – давай трясти её, шлёпать, разминать. Поднял обе руки её за кисти – руки безжизненно упали. Как попало упали. Травой под косой. Будто отделены от тела.
– Лалу! – взвыл несчастный.
Бессмысленный глаз не двинулся. Она часто сглатывала подёргивающимся горлом. А потом глаз тихо закрылся. И всё! Стой над ней, кусай губы – а что делать, не знаешь.
Но делать надо. Гназд пошёл за лошадьми. Коня привёл, Девка-кобылка сама прибрела. Пока ходил – сообразил: у чужого седла – кобеняк свёрнутый. Расстелил его рядом с девушкой, осторожно её туда переложил. Страх сосал: а ну, хребет повредило? И потому подобрал молодец ровную стволину, отесал поглаже – под спину ей. Завернул и плотно рукавами обкрутил. Да ремнём крепко связал. В платье, видит, её не одеть – а из чащи выбираться надо. Надо искать чего-то… Приюта… лекаря… знахаря!
Быстро собрал он поклажу, Гнедого пристроил к Девкиному хвосту. А напоследок – подошёл к мёртвому. Глянул в лицо.
Лицо – попорченное, но что-то определяется. Конечно, трудно узнать в мёртвом – живого. Всё ж – подумав, решил: не было в жизни этой зверской неотёсанной рожи. А может, была – да не вспомнишь. Смотреть – с души воротит! Кто ж ты, подумал, и женщина ли тебя родила? Аль из гнили болотной выцарапался вот таким уже – нелюдем? И ничего тебе – радость земли, красоту мира – поломать, уничтожить, сапогом раздавить.
Времени не было – не то бы отвёл душу! А так – только обобрал его: ощупал, посрезал кисеты с весьма тяжёлым содержимым, снял, что можно было. Например, сапоги хорошие: пригодятся в хозяйстве! Много чести – в сапогах его на тот свет провожать! Да и – волкам вкуснее!
Девушку бережно положил поперёк седла кобылы и, придерживая, поехал прочь. Куда? У кого помощи просить? Что с едва живой девушкой делать?!
На привычные стоянки? Стоянки с хозяйками, а те не золотые. Языками-то чесать! Да и знающих нет. Да и самому туда не хочется – девушку-то!
Стал голову ломать – и доломался! До тётки Хартиковой! Вспомнилось вдруг: ну, да! Здесь, где-то неподалёку, кажется… точно! Вот так, если взять тропою наискось… а там…
Скорей, Стаху! Помнит, не помнит старуха, жива, не жива – а другого выхода у тебя нет! Знахарит бабка. Добрая бабка. И привёл Господь её в этих местах проживать!
Выбрался Гназд на большак – и повернул совсем в другую сторону от Мчены.
Он не зря безжалостно лошадей гнал. Не так близко тёткина деревня была. И день шёл к закату. А, прижимая к себе девушку, нашёл он, что та заметно потеплела. Вскоре она полыхала в его руках подобно хорошему костру. Сперва меленько тряслась, потом пошла дёргаться, а там – всё хуже и хуже. С напряжением Гназд еле удерживал бьющееся, задыхаюшееся тело. Из голубовато-белой она сделалась ярко-розовой. Щёки загорелись, разомкнулись воспалённые уста – и такое понесли!
Ну, что тут описывать бред несчастной больной? Крики, нечленораздельное месиво звуков. Она не произносила разборчиво ни слова – только без конца звала его по имени. Звала и не узнавала. Вот так: «Ста-ху! Ста-ху!» – стонет, стонет! Стах шлёпает её, прямо на ухо что есть мочи орёт: «Я! Я тут!» А она – не понимает! Она кричит! И выворачивается вся.
Ремень всё же сдерживал её, и молодец справлялся. Лошадей умучил. Бедняжка кобылка когда вконец выдохлась – перевязал её позади. Гнедой принял труды.
Солнце меж тем село. Стах свернул на лесную тропу. В сумерках ещё как-то различалась стёжка, но движение замедлилось. Он ехал, стиснув зубы – и Богу молился.
Ночные тени уж путали дорогу. В кромешной тьме, наконец, луна осветила путь. Он выбрался на шлях, а до деревни доскакал за полночь.
Мелькнул Нунёхин плетень – весь как серебряный. Лениво залаял пёс. Человек заколотил в дощатые ворота: «Эй! Нунёха Никоноровна! Открывай!»
Год назад он решил навещать бабку – и за год, к стыду своему, ни разу не заявился. Уж больно крутила нелёгкая! Все пути далеко ложились, а первый, какой пробежал в Скены – сразил смертельным ударом. Стах держал в седле искалеченный полутруп.
И всё же – он благодарил Бога. Благодарил свою несправедливо обиженную кобылу. Благодарил все тропки, что привели во спасение! О Господи! Не знает человек своих путей!
Напряжённо ждал он у ворот. Огня в оконце не видать. Открывать никто не спешил.
Сердце заколотилось. А ну – как померла?! Год, как-никак...
Потом сообразил – псину кто-то кормит, стало быть – есть, кому.
Изо всех сил забарабанил по ветхим доскам:
– Бабк Нунёх! Аль не признала?! Харитона дружок! Давний твой гость!
Глядь – огонёк засветился. Наконец, по двору шаги зашуршали. Слабый бабкин голос донёсся из-за плетня:
– Ты чего, милааай?! Чего расшумелся? Кто ты есть?
– Гназд я! Стах! – отвечает молодец, сам рад без памяти. – Помнишь, аль забыла? С Харитоном наведался. Тогда гость, нынче проситель. Открой ворота – дай, я те в ножки поклонюсь! Беда у меня!
Ворота открылись, и он с двумя лошадьми въехал во двор. Бабка держала фонарик со свечой внутри. Она, она! Нунёха! Те же морщины, то же доброе лицо.
– Что, – спрашивает, – случилось? Вон – там поставь лошадок – да в дом иди. Расскажешь.
– Погоди, бабк, – пробормотал он, – не во мне дело.
Осторожно снял он с лошади затихшую девушку. Бабка поняла уж, дверь ему пошире распахнула. Он внёс больную в избу, шаря глазами, куда положить. Нунёха метнулась в угол – выволокла сенной тюфяк. Поколотив, приладила на две быстро сдвинутые лавки. Туда Гназд и опустил девицу. Развязал ремень. Та была совершенно без сознания, глаза блестели, полыхало лицо.
– Вот, – сказал, – горе у меня.
И, обернувшись к старухе – как сулился – бухнулся в ноги, со всей искренностью, со слезами:
– А?! Бабк! Добрая ты моя! Будет жить?
И торопливо забормотал, жалобно в глаза заглядывая:
– Мне, чтоб жила, надо… Чтоб – как прежде – была! За мной не пропадёт, бабку! Я за неё – чего хошь, сделаю!
И в пол с размаху пред старухою лбом ударил.
Та, помолчав, с жалостью произнесла:
– Не отчаивайся ты, милый! Дай, поглядим сперва….
И склонилась над бедной девицей:
– Ой, голу́бку…
Осмотрев больную, смутно на Гназда глянула. Тот сам сказал. Жёстко и с удовольствием:
– Пристрелил я его, бабк! Надо бы кол осиновый вбить, да поторопился…
Старуха покачала головой:
– Страшно, светику…
– Ничего, – при всём несчастье не удержал он злого смеха, – найдутся гробовщики. Костей не оставят.
Слушая молодца, Нунёха раздула огонь в печи, подложила сучьев, поставила два горшка, которые закипали в то время, пока рассказывал он, как беспамятная юница сперва походила на каменное изваяние, потом напоминала огненную змею.
В один горшок по бурлении – подбросила бабка душистых трав, выбрав их из разных связок, а от другого вдруг пошёл такой дух, что тут же мужик почувствовал – он голоден, как тот волк.
Вмиг бабка грохнула на скоблёный стол плошку-ложку, ливанула похлёбки, но ковригу хлеба подала степенно, на полотенце. Нож у Гназда был. Напластал он ломтей, скорей к столу подсел.
– Так-то. Поешь, – улыбнулась старушка, – чтоб ноги таскать. Пока затихла-то… Предстоит ещё...
Тот поморгал глазами, но ложка сама загребала гущу, а зубы, не разбирая, крушили всё, что на них ни попадало.
– Ешь-ешь! Полегчает, – напророчила Нунёха. Так и вышло. Наелся – веселее стало. Хорошие мысли появились. Де, горько, гадко – но ведь жива! Может, не так всё страшно: вон, тихо лежит. Может, полежит, полежит – да и отлежится. В себя придёт, его вспомнит, себя… И разом жуткое прострелило: вспомнит если – вспомнит всё! Господи! Ведь калека на всю жизнь! Не переживёт девчонка, дочка Гназдова! Лучше бы убили! Лучше ничего не помнить ей. Лишь бы жить…
Пусть живёт! Не напрасно направила его судьба! Если в роковой час оказался на роковой стезе – значит, был в этом промысел – не человечий, а иной, светлый… Значит – в руки ему даётся и ему поручается! Тот, свыше – благословляет его заботу…
Что же случилось немыслимое – что девица Гназдова при защите уделов, разъездах дозорных, страже прилежной – оказалась за сто вёрст от родной крепости? Как попала сюда? Что же бдительный Зар сестрицу-то проспал? Знать, не от того, кого нужно, берёг! Выбросил искусителя из дому… Да разве при Стахе – такое случилось бы!
Случилось! Ничего теперь не сделаешь! Сто раз поруби злого ворога – ничего не изменишь! Бесы – они проворством отличаются. А время назад не перевернёшь! Не сделаешь прошлое будущим. Соломки не подстелешь! Топор не наточишь! Порушили тебе твою лилейную ласковую Лалу.
Вот и бейся, молодой,
В сыру землю головой…
Голова треснет – а земля не вздрогнет. Кряж не обрушится, берёза не тряхнётся, лист не шевельнётся…
Всех жизнь бьёт, и тебя била. Но так – не отделывала.
Гназд вышел из дому брошенных лошадей устроить. Глядь – бродят обе по двору, рассыпанное сено подбирают. Подошёл он к своей кобылке добродетельной. Ласково похлопывает, ласково хлеб суёт посоленный, говорит ласково:
– Лошадка ты моя золотая! Какая ж ты умница! А я-то, дурак беспробудный – отколотил тебя ни за что…
Она хлеб жуёт, да глазом косит, да головою кивает.
Обнял он тогда лошадушку за шею за гибкую – да и хлынули слёзы с таким изобилием, какого и не подозревал в себе. Аж захлебнулся в них, уткнувшись в мягкую шерсть – прямо дитя малое!
– А! Девочка моя бесценная! Ты одна у меня осталась! Нет у меня, – всхлипывает, – никакой девочки, кроме тебя!
Почесал ещё за ухом. Повёл под навес, щедро овса в торбу насыпал, а сам всё плачет и перестать не может. Оттого что – побил он лошадь. Оттого – что послушайся умницу, поторопись, куда влечёт – всё иначе сложилось бы. Он бы дьявола на скаку уложил! Он же славно стреляет!
«Иииааа! Да, ладно уж, хозяин! Не убивайся так. Жизнь – сам сказал – не повернёшь. Принимай, какая есть. Ну – зря, конечно, ты так со мной… но – не сержусь! Такая наша планида лошадиная! Где видал ты лошадей без кнута? Кабы вы, всадники, коней своих слушались – многие беды на земле в воздухе бы растаяли, словно не бывало. Неохота коням на верную смерть. Неохота на злое дело. А влечёт их полей тишина и нежность земная. И всякая-всякая на свете любовь. Не плачь, бедный мой, друг незадачливый. Никто не знает, что кому в мире этом уготовано. И какой стороной что к кому обернётся… Ты встряхнись! Есть другие заботы – их ладь! Ты вон – того… Гнедого-то – не забудь. Он – что? За хозяина не в ответе. Скотина подневольная».
Гназд разнуздал вторую лошадь и пошёл в дом. Входит – видит: бабка кобеняк с девушки сбросила, обложила её тряпками-примочками, дух стоит в избе лесной-луговой, а перекрывает всё – смолисто-медовый: старуха растирает неподвижную девицу с ног до головы неведомым снадобьем.
Мужик в дверях остановился, стоит-глядит, раз случай вышел. До сих пор не до красот было. Только сейчас узрел. До чего ж стройное пленительное тело! И на такую-то красоту… Гад!
Опять захлестнула ярость. Опять на стенку полез. А всего сильней – на себя злоба кипела. Бабка вдруг обернулась:
- А ну, касатику… иди… дело тебе тут.
Он быстро подсел рядом.
– Вот, – сказала Нунёха, – чем об стенки биться да зубами скрипеть – займись-ка: в кадушке полотенцы мочи да клади… и беспрестанно меняй, как нагреются… да вот – питьё ей, то и дело, давай… в уста капай понемногу. Кости целы, кровь не сочит… горячка… так ведь болезни Господь во благо посылает… малые горести – в защиту от больших…
– Малые… Ох, бабку! – простонал Гназд.
Внимательный старухин взгляд окинул его.
– Да ты, – одёрнула строго, – на девку-то не пялься! Делай, что говорю! А то нас обоих на завтра не хватит.
Он послушно принялся за труды – как оказалось, немалые, потому что полотенца эти тут же нагревались, едва обкладывал ими странно розовую девушку. Засучи, брат, рукава: дело предстояло долгое и тяжкое.
Старуха, зевая, скрылась в углу за пологом. Напоследок слабо пробормотала:
– Буди, коли что…
– Спи, – махнул он рукой.
И пошла работа, как у косаря в страду. Полотенце намочил, отжал, положил, а нагретое снял. Пока его мочил да прилаживал – первое горячее! «Этакое пекло! – пронимал страх. –Что ж там внутри-то делается, если снаружи жар такой?! Живого не останется!»
Ан – живая! Губы горячие, сухие, жадно хватают воздух, а настой из ложки глотнуть не могут…
Недолго оставалась девица недвижной – скоро опять зазмеилась. Опять пошла метаться, бормотать неразборчиво, не прекращая – одно и тоже:
– Стаху… Стаху… спаси…
Цедит Стах ей в губы зелье бабкино горькое по капле – у самого капли горькие из глаз в зелье булькают. «Не спас я тебя, – травится, – чертей болотных испугался…»
До сего дня понять он не мог – как стреляются люди.
Забрезжило за окном. Вот и солнце встало. С солнцем старуха зашевелилась. Выбралась из-за полога. По воду сходила, печь затопила, чего-то сготовила. А как подошла молодцу на смену – отдохни, де, голубчик, я потружусь – он тут же хлопнулся на соседнюю лавку – и ничего более не помнил. Очнулся – давно полдень минул, уж длинные тени пошли. Присвистнул изумлённо: «Здоров спать».
А девушка – как маялась – так и мается. Старуха возле неё хлопочет – а та всё горит, всё кричит.
– Бабк, а, бабк?! – с испугом спрашивает Стах, – чего ж это она? Может, не то что делаем?
Нунёха сердито-предостерегающе рукой машет. На горшок при печке кивнула:
– Иди, поешь. А то свалишься. Да впрягайся. Дел много.
В растерянности выскреб он горшок, лошадок проведал, воды с родника притащил – и к больной подсел – полотенца менять.
Нисколько не стало ей лучше. Как вчера – она походила на раскалённую печь. И нагревалась печка эта – с каждым часом всё более да более. И это было страшно.
В сумерках он отправил старуху отдыхать и остался с девушкой. Полночи она полыхала жаром и приводила в отчаянье жалобным бредом. А потом вдруг примолкла.
Он сперва даже успокоился. Спустя же минуту невольно насторожился. Что-то явно изменилось. Девушка была страшно горячая, но – ни движенья, ни звука. Точно спит. Спит – и во сне, незаметно другим – догорает. Он прижался ухом под её левую грудь. Стояла незыблемая тишина. На всём свете. Ни пташка не защебечет ночная. Ни цикада не тренькнет. Земные звуки исчезли. Потому что – здесь, под левой девичьей грудью – молчало сердце.
Приподняв осторожно веко – при зыбком колыхании свечи разглядел он закатившийся глаз.
И понял, что из прекрасного этого тела – отлетает душа. И тогда постиг – какое оно на самом деле – отчаянье…
– Бабк! – взревел Гназд. Она тут же оказалась рядом.
– Сделай ты что-нибудь! – припадочно затряс он старуху.
Она взглянула на девушку. С тревогой прошептала:
– Батюшку бы надо…
– Батюшку?! – вконец ошалел он. В голове сразу мелькнуло: когда зовут батюшку? Кто ж не знает! Первым-то делом – какая мысль приходит? Выговорить жутко!
Но бабка признесла твёрдо:
– Нет батюшки. Так что – становись – и молись!
– Как молиться-то?! – прохрипел он, дрожа от ужаса.
Она строго сказала:
- А вот как Бог подскажет – так и молись!
Возле одра горестного Гназд и так на коленях елозил – а теперь – лбом о пол ударился да в голос завопил:
– Прости меня, Господи! Наказал ты меня, Господи! Кругом грешен, Господи! Каюсь и в муках не возропщу – довольно! Не погуби невинной за вины мои!
И башкой – грох! А потом – опять благим матом:
– Господи – помилуй!
Грох!
Грох!
Сколько так бухался лбом – не знал. Что орал – не помнил.
Помнил – ослепительный свет, бьющий в окно. Никак не мог понять, где находится – как вдруг надо ним склонилась тёмная фигура.
Он узнал Нунёху. Он сразу вспомнил! Он задохнулся от страха! Точно палач приближался ко нему…
– Ну?! – прохрипел он затравленно.
– Утешься… обойдётся, – неожиданно спокойно сказала старуха, – теперь жива будет.
Гназд отупело таращился на неё. Медленно-медленно до него доходили её слова. Медленно-медленно кривые чёрные тени из ночных кошмаров преображались в цветущие луговые травы безмерного покоя. Не будет казни. Милует Господь!
«Вот оно, отчего, – осенило его и показалось весьма убедительным, – так неистово бьёт в окно солнце».
Быстро поднявшись, он подошёл к девушке. Не слыхать выматывающего душу бреда. Стах увидел на лавках спокойно спящего человека. Просто – спящего.
– Она теперь долго будет спать, не тревожь, – шёпотом подсказала старуха, подойдя сзади, пока стоял он и молча смотрел на тихое лицо. Смотрела и старуха. Потом покачала головой и умильно всхлипнула:
– До чего ж девочка-то красивая! Вот – сотворит же Господь всем на радость!
И – задумчиво примолкнув – едва слышно вздохнула:
– А может – и на беду…
И – потянула Гназда за рукав:
– Пусть – спит…
Она спала весь этот день. И всю ночь. И весь день следующий. А он сидел рядом и глядел на неё.
Постепенно всё привычней становилось ощущение: угроза позади… беда миновала… теперь будет что-то хорошее… не страшное.
Тогда – суетность завладела его помыслами. Пришло в голову, что тем временем, пока он мается в ожидании выздоровления, которое, как уверила Нунёха, придёт само собой – у него срываются непрочно налаженные дела. И стал он хмуриться и думать о них. Вспомнилось, что намеревался ехать совсем в другом направлении, на Мчену – потому что там назревал серьёзный договор. И пропусти он его – чревато сие множествами оборванных начинаний и расторжением выгодных сделок. И аукаться будет потом долго и досадно. Нет! Надо немедленно всё исправить, пока оно ещё легко и безболезненно. Не может он ждать! Это недолго! Туда-сюда – и вернётся! День-другой! Ну, неделя! А девушка спит. Пусть – спит.
– А? Нунёху! – заглянул он в славное старушечье личико, – походишь за девицей? Я – обещаю! – поспешу… но надо мне! Иначе – порушится всё.
– Слышь, Нунёх-Никаноровна! – принялся горячей упрашивать, – возьмись ты девицу беречь! Ну… постарайся, чтоб не знал о ней никто. Занесёт кого – спрячь. А?
Старуха подумала. Усомнилась:
– Ну, чужие, вроде, не ходят – а Хартика может заглянуть.
– Харт – это ладно! Мне – чтоб всяких ненашей лесных отпугнуть.
– Девицу-то, Бог даст, выхожу, – кивнула Нунёха, – сохраню, глаз не спущу – сколь смогу. Но ты уж долго-то не гуляй.
– Я быстро! – рьяно пообещал Гназд, – без нужды без крайней – не уехал бы, да отсрочки, знаешь, эти… Ну, ещё – коня бы продать. Смотреть на него невмоготу. Да и – узнать могут. Другую лошадь, мож, купить.
– Ступай, делай, как знаешь, – согласилась старуха, – девица мне не в тягость.
– Вот, бабусь, я тебе денег даю, – молодец отсыпал Нунёхе щедрую пригоршню, – чтоб вам не накладно было кормиться. И вот платье на неё, – вручил ей вишнёвый комок, – как встанет… встанет же? – опять заискивающе глянул он бабке в глаза, и наказал, – пусть ждёт меня!
Бабка, не удержавшись, развернула рдяный сарафан. Из него выпала рубашка с китайскими розами на пышных рукавах.
– Ишь, как?! – залюбовалась, качая головой, – красиво! Что платье, что девица – одно другому под стать!
И, не удержавшись, полюбопытствовала:
– Вижу, не чужая тебе…
Гназд, не глядя, глухо уронил:
– Судьбы нет – а то б невеста была…
Бабка охнула, прикрыв ладонью рот. Скорбно головой покачала:
– Касатик…
– Больше не спрашивай! – предупредил он.
Нунёха Никаноровна со вздохом отвела горестный взгляд…
Напоследок Стах присел рядом с девушкой, погладил по сбитым в кудель волосам:
– Расчешешь ли ты когда-нибудь, голубка подстреленная, роскошные долгие косы свои? Узнаешь ли ты меня когда-нибудь? Вернётся ли глубокий ясный свет в померкшие твои очи? Ты меня не видишь, не слышишь! Я уезжаю, мой огонёк ночной! Я был рядом всё это время – но когда ты откроешь глаза – меня с тобой не будет – а сейчас – тебя нет со мной. Вот опять – разлука! Чередой идут – одна за другой! И каждая – ужасней прежней… О Господи! Но я – вернусь! Жди меня, девушка! Девушка – иного я не мыслю! Прости меня!
Быстро поднявшись, он без оглядки выбежал из избы.
***
«Ну, что же, девочка моя лошадиная… Пора нам в путь! Ничего не поделаешь – надо заканчивать начатое. Ты, поди, соскучилась по ветрам полевым? Застоялась на одном-то месте? Иль, может, понравился тебе медлительный покой? Пасись себе денно-нощно в густых травах, бок о бок с гнедым ладным конём, а? Как тебе, девице, такой сосед?»
«Иииааа! Мне с тобой, девице – нечем поделиться. Конь – конём, путь – путём! Что мне конь гнедой и все кони на свете?! Мне с тобой, хозяин, охота в дорогу. Чтоб – всегда вместе! Чтоб – душа в душу! Ты и я! Пройдём с тобой мы путями дивными, непроходимыми! Скорей в седло! Слышишь ли – сколь нетерпелив дробный перестук моих копыт? Вечно подхвачено ветром дорог моё лошадиное сердце!»
«Мы с тобой сюда скоро вернёмся, верная моя кобылка! Вернёмся – и заберём с собой прекрасную девушку…»
«Иииааа! и куда же отвезёт мой хозяин прекрасную девушку?»
«Вот то-то и оно, кобылка догадливая! Не знаю я, куда мне везти прекрасную девушку».
«Прекрасных девушек везут под венец».
«Этой девушке – больше нет венца».
«Девицам невенчанным – в монастырь стезя».
«В монастырь…»
«В земли Гназдов следует отвезти её, хозяин».
«Конечно».
«Ты, хозяин – должен вернуть девушку в родную семью».
«Конечно, конечно. Разумеется, должен. Только этого мне – очень не хочется…»
«Ты что же, хозяин – станешь против Гназдов? Ты же понимаешь – что такое – не вернуть девушку?»
«Понимаю».
«Она – совсем не такая, какой была раньше!»
«Не такая… Но – не такой – оставить её нельзя! Надо – исправить! Починить! Боже мой! Почему я не сделал этого раньше! Почему потакал строптивой её руке? Были бы в жизни нашей камыши да кущи цветущие! Были бы дни счастливые!»
«Тогда бы – ты сейчас умер, хозяин – после кущ цветущих».
«А? Кобылку! Разве – жив я сейчас?»
«Иииааа! А кто ж тогда в седле у меня сидит да шпорами бодрит? Жив-жив! Ещё как! Тебе есть – зачем жить! Без тебя – пропадёт девица! Совсем сгинет!»
«Ну-ка! Дай, подпругу тебе поправлю… Заодно – вон! – цветок сорву… Позарез нужен! Дыхнуть аромату дурманного! Как же сладок цветок! И как – краток! Сорвал – и нет!»
«Иииааа! Не торопись решать, хозяин! Дай времени смазать сердце тем целебным смолисто-медовым бальзамом, что старуха Нунёха намедни наварила в почерневшем от сажи глиняном старом горшке».
Времени положил Стах на дело непутёвое – куда как больше, нежели полагал. То есть – поначалу оно вроде даже и устроилось. И совсем, было, всё сложилось – ан, пошли подарочки от судьбы-сударочки… веселит, не забывает! В одном месте – подрядчик помер. В другом – чёрту продался. Вот и увязывай всё!
Вязалось всё удивительно неохотно. Точно сговорилась вражья рать ставить молодцу подножки да ловушки. Пяток дней, что выпал у Стаха из-за девушки – столь выгнул и перекосил стройное, казалось, древо, что пришлось спешно подравнивать все ветви да веточки, подпиливать острые сучки. Стах бесился – но победный конец витал где-то в ряби облаков, насмешливо расправив радужные перья. А здесь, на земле – Стах корпел и пыхтел над ежеминутными загадками. Даже коня не стал продавать: некогда. Найдётся случай. А пока водил с собой, пересаживаясь попеременно с Девицы, что, несомненно, давало преимущество в быстроте.
Быстрота, к несчастью, распространялась и на бег времени. Оно припустило неслыханным галопом, и когда молодец хоть как-то разобрался с вопросами – снизошёл на землю благодатный июль.
«О Господи! – подумал Стах, растерянно потирая солнцем выбеленную макушку, – сколько ж там девица без меня при Нунёхе?!»
А следом – подумал так: «Виноват – ан, старухе-то верить можно! Сбережёт девицу!» Он настойчиво называл потерпевшую девицей, словно забыв об имени – даже наедине с собой. И с той же настойчивостью продолжал подтрунивать над девственностью кобылки, так и сяк перелаживая кличку. Кличка-то сложилась сама собой, из-за норова лошадиного, но Стаху нравилось сие положение.
«А? Ты как там? чистота непорочная! Замучил я тебя, бедняжку. Но – вот-вот! скоро… ещё – в Юдру – и вернёмся к Нунёхе! Как думаешь – проснулась от очарованного сна царевна-красавица?»
«Иииааа! За месяц-то! Сто раз проснулась! Только вот – как? – проснулась. Что с ней?»
«Авось! После завтрева – сиганём туда!»
«Иииааа! Сигать-то – нам с Гнедым! Ты у нас в седле, барином! Умотал ты нас, хозяин! Я-то – девица привычная. А Гнедой до того уездился – забыл, что жеребец. Потому – с ним у нас мир и покой. Дружба-служба! Всплакну, когда продашь».
«Надо бы продать – недосуг! Так что – дружи пока! Не разлучу! Только ты… того… смотри!»
«Иииааа! Обижаешь, хозяин!»
Рейтинг: +1
594 просмотра
Комментарии (2)
| Любовь Хлебникова # 2 марта 2017 в 02:43 +1 | ||
|
| Татьяна Стрекалова # 2 марта 2017 в 13:17 0 | ||
|
Новые произведения


