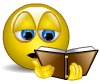Сон (Перекрестки дорог) книга 2 глава 16
22 февраля 2015 -
Светлана Чабанюк

16. О счастье.
Во вторую пятницу августа Генрих Неронович наконец появился в своем загородном доме. Уже больше месяца он отменял воскресные визиты по причине возникновения разных неотложных дел, да и сегодня он заскочил всего лишь на одну ночь.
Быстро поужинав, он отправился в свой кабинет, а через полчаса, не дождавшись его обратно, Мария Николаевна поднялась к нему сама.
- Генрих, - Маша была настроена решительно, однако, встретившись с синим печальным взглядом, эта решительность быстро потеряла силу.
- Генрих, - повторила она уже спокойно, - нужно что-то делать! Я не хотела начинать этот разговор по телефону, а ты совсем не бываешь дома. У тебя даже с Кириллом не получается познакомиться. Вот если бы ты его хоть немного знал, мне было бы сейчас гораздо легче обращаться к тебе с просьбой.
Маша смотрела на Генриха с некоторой укоризной, но чувствовала, что в душе она совершенно не может ни осуждать его, ни обижаться. Сколько она его знала, в ней постоянно жило ощущение, а, может быть, даже больше – в ней жила твердая уверенность в том, что он все в этой жизни делает правильно, что он просто не может поступать по-другому.
Почему это чувство было так непоколебимо, объяснить она не могла. Она знала только об издательской деятельности Генриха, но была абсолютно убеждена в том, что этим его жизнь не ограничивается. Когда-то давно она тщетно пыталась угадать для себя иные ее гранни, но ничего достойного тому, что она о нем чувствовала, она представить себе не смогла. Слишком большой и непостижимой представлялась ей его сущность, и постепенно она оставила эти попытки.
Но и еще одно потаенное чувство она очень берегла в своей душе: ей было бесконечно хорошо от того, что он есть, и неважно, был он тут, или где-то очень далеко, потому что странным образом она всегда ощущала его рядом.
Маша протянула ему оставленную Уланулуной и уже изрядно помятую газету с большим портретом Кирилла.
- Вот, познакомься, наконец, это наш Кирилл.
Генрих на некоторое время задержался взглядом на фотографии, и ей показалось, что он смотрел на Кирилла, как на старого доброго друга, потому что на его лице замерла необыкновенно теплая улыбка. Потом он вернул ей газету со словами:
- Что-то случилось?
- Ты же обо всем знаешь? Я столько раз говорила тебе по телефону, – удивилась Маша.
- Я подумал, что с ним случилось что-то еще, а та история вроде бы уже закончилась, разве нет?
- Мне, почему-то кажется, что нет. Я просто уверена, что все только начинается, и что за этим стоит Иннокентий. Вот я и хотела попросить тебя о помощи. У Иннокентия большие деньги, связи, сила… Что может против него Кирилл? У тебя тоже связи, тоже деньги. Нужно навести справки по твоим каналам, подключить людей, обеспечить защиту…
Она хотела сказать и что-то еще, как ей казалось, очень дельное, но была остановлена возвратившейся в его глаза печалью.
- Прости меня, Маша, но я не могу. Я ничем не могу помочь, и это не зависит от моего желания.
- Обязательства перед жизнью? - вспомнила она давнишний разговор и первый раз за все время их общения сорвалась, - Я тебя поняла. Но, видишь ли, у меня тоже есть обязательства. Они не такого высокого порядка, потому что они перед людьми. Только от этого они не становятся менее важными. Люди, Генрих, - это и есть жизнь. Вот нам Кирилл как-то разъяснял, что в космологии рассматриваются антропные принципы. Оказывается, имеет место быть такая теория: «Вселенная существует, если в ней есть наблюдатель, то есть человек». Понимаешь? Убери человека, и пропадет эта жизнь! - Маша сделала громкий акцент на слове «эта». - Я вот подумала, а может быть обязательства перед жизнью – это и есть обязательства перед человеком? Может быть, мы просто должны заботиться друг о друге? Все обо всех – и ничего больше?
- Может быть… даже наверняка, - согласился Генрих, – об этом уже два тысячелетия, как знание дано, а человек все еще вопросы задает. Другие, ладно, но ты, Мария, ты меня удивляешь. Ты же по-другому просто жить не умеешь, зачем же ты тогда меня спрашиваешь?
И его глаза наполнились уже такой печалью, что Маша испугалась. Она подумала, что ни одно, даже самое глубокое море, не имеет столько воды, сколько печали сейчас в этих синих глазах.
- А то, о чем ты сказала, - продолжил Генрих, - это слабый антропный принцип. Кирилл рассказал вам, что есть еще и второй – сильный принцип этой теории: «Вселенная существует для того, чтобы в ней этот наблюдатель появился».
Маше на секунду стало стыдно, а потом сразу спокойно. Она вдруг подумала, что если Вселенная находится в таких …
- Хранитель, скажи мне, кто ты, - тихо попросила она, – ну, не говори, намекни только…
Он взял ее за плечи и прижал к своей груди. Впервые в жизни она услышала, как бьется его сердце, почувствовала, каким жаром пышет от его тела, вдохнула родной, ни в чем не узнаваемый запах…
И вспыхнула искра… она загорелась в Машиной душе и где-то еще очень далеко, она была яркая и чистая, как… Но не было в Машиной жизни ничего такого, что бы подобрать этому чувству сравнение. Это было нездешнее, неземное, необъяснимое разумом счастье.
Всего несколько минут, а может, только малую долю мгновения получилось погреться в его лучах - и она снова стояла в шаге от Хранителя, и он снова был ее другом, братом и даже отцом.
- Я не могу помочь, просто не могу…, - снова повторил он, – бывают в жизни минуты, когда любая помощь становится бесполезной, потому что испытание – это уже и есть помощь. И только человек сам способен одержать победу, потому что главная победа - победа над самим собой. Это самая трудная и самая главная победа, - медленно произнес Хранитель. – Ты меня поняла?
- Не совсем, - искренне призналась Маша. – Нужно сидеть, сложа руки, и заставлять себя быть счастливым?
- Нет, за счастье обязательно нужно бороться, всеми силами, до крови своей, до боли. Иногда ведь понять, что такое счастье, можно только узнав, что такое – горе. А вот если ты имел это счастье и все про него понимал, а его все равно забрали, тогда нужно постараться понять, ради чего гораздо большего могла случиться такая потеря. Нужно очень постараться… И все время придется бороться. Только так уж получилось, что делать это вам теперь без меня.
- Ты снова улетаешь? – по-своему поняла его Маша.
- Пока нет, но это абсолютно ничего не меняет. Пойдем, посидим у камина. Наши дети сейчас счастливы, зачем же и нам отказываться от своего взрослого счастья, хотя бы такого, которое мы можем себе позволить. Я спою тебе очень красивую песню, только ты не спрашивай на каком она языке.
Маша покорно шла за ним в каминный зал и была совершенно и беззаботно счастлива.
…В эту ночь ей впервые приснится сон. Потом он изредка будет прилетать к ней всю оставшуюся жизнь:
«Она молодая, очень красивая и очень сильная. Она не видит себя во сне, но знает, что это так и никак иначе. Она на далекой незнакомой планете, укрытой теплыми белыми снегами. Наверное, здесь бывает и лето, но она неизменно будет видеть только этот теплый снег. Он приятно греет ее ладони, а морозный ветер нежно ласкает лицо.
Где-то поблизости все время находится Хранитель. Иногда он вспыхивает на небе далекой звездой, иногда неожиданно возникает рядом. Но она постоянно ощущает его возле себя, и в любую минуту может с ним разговаривать. Бывает, что они подолгу поют песни на странных языках, но Маша очень точно знает, о чем грустит или радуется каждая из них.
А бывает, что Хранитель становится огромным, сверкающим шаром, или огненной птицей, и она вспыхивает в его сердце ярким огнем. Тогда он проносит ее через Космос, показывая всегда новый, прекрасный и бесконечный мир. Иногда они опускаются на удивительные планеты. Некоторые кажутся ей знакомыми, потому что она уже была здесь когда-то в сказках, которые рассказывал Генрих.
Но случается это нечасто, потому что все остальное время ей необходимо для выполнения очень важных обязательств перед жизнью.
Там, в этом сне, есть еще и другие, не менее дорогие для нее встречи. Она их не видит, а просто знает, что они всегда бывают радостными, а расставание никогда не бывает грустным, потому что разлука, по сравнению с Вечностью, скоротечна, а счастье постоянно и абсолютно равно бесконечности…»
Каждое утро совсем недолго, может быть несколько минут, а может, только малую долю мгновения она будет вспоминать этот сон и согреваться подаренным им счастьем, а потом все будет забываться. Но все сильнее будет жить в ней уверенность в том, что настоящее счастье еще только впереди.
А когда настанет ее последняя минута, Маша будет спокойна и даже испытает радостное чувство, потому что вдруг поймет, кто через мгновение возьмет ее за руку…
…
Никому не дано объяснить словами, что такое счастье.
Иногда оно озаряется прекрасным, как радуга, разноцветьем переживаний и чувств. Но чаще счастье прячется в шелестящей зелени листвы, мелкой водяной ряби, играющей вперегонки с солнечными зайчиками по поверхности тихого озера, в запахе сена и цветов, а иногда оно отражается в радостном сиянии глаз, или пеленает покоем обожженную приятным огнем душу.
Уже две недели Кирилл и Луна неспешными глотками пьют свое нежное счастье, настоянное на душистых сибирских травах и сдобренное терпкой хвойной пряностью.
Завтра утром уже самолет, Москва, суета… а сегодня они еще медленно бредут по узкой заброшенной просеке, и совсем не хочется думать обо всем, что будет завтра. Сегодняшний день еще принадлежит им. Они ушли из дома рано утром и не стали ни у кого спрашивать, куда ведет найденная ими накануне старая таежная дорога.
- Пусть там, в конце елового тоннеля живет тайна с шелестящим именем Неизвестность, - заговорчески прошептала ночью Луна, - а мы с тобой пойдем и раскроем ее. Но мы никому не расскажем о своем открытии, это будет только наша тайна, а для всех это по-прежнему останется неизвестностью.
- Луна, во-первых, если мы что-то раскроем, то это перестанет быть для нас тайной, а во-вторых, по-моему, это только по отношению к нам конец просеки – неизвестность, а..
- Молчи, - тихо перебила его Луна, – вот завтра ты сам убедишься, что в конце обязательно будет тайна.
Все это время они ночевали на сеновале, устроенном в большом бревенчатом срубе. От колющихся травинок их защищало толстое ватное одеяло, устланное белыми простынями, а вот запах сухого сена укрыть было нечем, и он пьянил, навевая красивые спокойные сны.
- Откуда такое знание? – спросил Кирилл, и Луна в темноте не могла разглядеть его веселую улыбку.
- Из предчувствия, - все так же таинственно прошептала она.
Просека была довольно длинной и сильно заросшей. Молодые пушистые кедры и тонкие лиственницы часто преграждали им дорогу густыми протяженными зарослями, поэтому открывшаяся перед глазами поляна показалась явлением совершенно неожиданным. Она была чиста, будто ветер отчего-то не решался ронять здесь семена могучих родителей и уносил их дальше.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что порядок здесь все-таки рукотворный – то тут, то там торчали еле заметные короткие пеньки. Но настоящее чудо, ожидавшее их здесь, оказалось совсем не в этом. Оно возникло в виде полуразрушенного деревянного сруба и еще хорошо сохранившейся часовни, а, может быть, даже небольшой церкви. Кирилл тронул наглухо заколоченную дверь, но старые гвозди держались намертво, будто не хотели впускать случайных людей ради простого любопытства.
Кирилл решил дернуть сильнее, но Луна остановила его руку.
- Не надо. Пусть то, что внутри пока останется тайной. Мы войдем туда в другой раз, когда будем к этому готовы. Иначе, что мы оставим после себя - гуляющий внутри освященного пространства ветер, дождь, заливающий сбереженные временем полы, пустоту, разруху? Лучше сохраним до поры эту тайну нетронутой. Может быть, через год мы приедем сюда для того, чтобы навести здесь порядок: мы выметем пол, уберем паутину, подправим то, что не пожалело время, и я спою тебе ту свою песню. Я чувствую, что ее очень нужно спеть именно в этой церкви. Песня не принесет этому месту вреда, потому что она о хорошем, о чем-то очень важном, может быть, о самом главном.
- О чем? – удивился Кирилл.
- Я не знаю… - пожала плечами Луна, – наверное, о счастье, только не здешнем, о другом… А потом мы снова забьем дверь гвоздями, чтобы ни вьюги, ни ураганы не смогли найти себе пристанище под этим кровом.
Вечером, когда мама Михача, Елена Ивановна, накрыла прощальный ужин, все снова собрались за длинным столом. Было сказано много теплых слов, но еще больше чувств было вложено в рукопожатия, крепкие объятия и неподдельную грусть в глазах, рожденную предстоящим расставанием.
- Мало вы у нас побыли, и Лариса в этом году тоже недолго гостила, детей вот оставила, а сама обратно к Мишке вернулась, - вздохнула Елена Ивановна, – теперь ее только в конце августа ждем, ближе к школе.
- А что ей здесь сидеть, дети уже большие, самостоятельные. Они здоровье и без материнской опеки накопить могут, а вот мужика без бабы долго оставлять нельзя! – жестко постановил Александр Фомич.
Детей Михача Кирилл и Луна видели изредка. Когда они приехали с целой кучей подарков, то еще имели возможность пообщаться дольше, да и то уже вскоре юные Маугли, покидав сладкую часть даров в пакет, унеслись к таким же, как они, шустрым, худым и загорелым товарищам, и тайга надежно укрыла их от взрослых взглядов. Правда, потом, когда Кирилл работал на покосе или помогал на лесопилке, он иногда пересекался с Мишкиным сыном, которого Фомич старательно приучал к мужицкому ремеслу. И Луна, помогая Елене Ивановне по кухне, тоже подружилась с юной поварихой.
Вот и сейчас дети, наспех перекусив, умчались к ожидавшей за забором ватаге, а Елена Ивановна тяжко вздохнула:
- Скучаем мы целый год без них, только в них и счастье. А эти балбесы, - кивнула она в сторону младших сыновей, - только и знают, что работа, охота, да рыбалка, будто других интересов в жизни нет. И когда только женятся?
- Мамань, ну дай еще маленько погулять. Тебе на кухне, что ли, помогать некому? Так мы ж сами тебе в такой помощи никогда не отказываем, - оправдался старший из младших.
- Это правда, - закивала головой Елена Ивановна, и глаза ее засветились, - Знаешь, Луна, какие они пельмешки лепят – вместе с ложкой проглотить можно, а главное, маленькие, ровненькие – один к одному, как на картинке. Это такими-то ручищами. Каждый раз смотрю и удивляюсь. Летом-то у них времени меньше, но теперь вот внучка подросла.
- Тьфу, - не зло сплюнул Фомич. – Я тоже удивляюсь, точно бабы, ей богу! Еще и фартуки цветастые на себя цепляют. Хорошо, что мать у них – женщина видная, так эти фартуки хоть пупок прикрывают, но все равно на слюнявчики похоже.
- А чего ты, батя, бурчишь? - рассмеялся младший,– это же ты тот самый и есть, который вместе с пельменями ложки глотает, а нам такая работа в охотку, да и матери полегче.
Но было видно, что на самом деле Фомич сыновьями гордится, а ворчит только так, для пущей важности, при гостях.
- Александр Фомич, - не выдержал, наконец, Кирилл, – а не скажете, что за церковь мы в тайге нашли?
- Где, в конце просеки, что ли?
- Ну, да.
- Это вон лучше Елену спросить, она покрасивше расскажет.
Но Елена Ивановна дожидаться просьбы не стала и охотно начала свой рассказ.
- Ой, это такая история интересная, местами даже таинственная. Началось все еще перед войной, в тридцать седьмом году. Ни меня, ни Саши тогда и в помине не было. Мне потом мама моя много рассказывала, так что я все подробности помню. Да что я, каждый в селе об этом хорошо знает. Только, тогда осенью, здесь появился очень странный человек.
Вы представляете затерянную в глухих лесах довоенную деревню? Это сейчас здесь спутниковое телевидение, а тогда дети до поздней осени босиком бегали, у баб и мужиков из парадной одежды - кирзовые сапоги, да телогрейки. А тут идет по проселочной дороге высокий статный человек в длинном светлом пальто, широкополой шляпе и с двумя большими чемоданами, а за ним детвора гурьбой бежит, бабы при встрече глазами сверкают, у мужиков челюсти отваливаются.
Из города, правда, и до него пару раз в шляпах заезжали, но этот, прямо как артист из кино был. Мама говорила, что он не только одеждой удивил, но и красоты был редкой: волосы смоляные, орлиные брови, карий с поволокой взгляд. Даже походка у него и то необыкновенная была, такая, что у девок сердца заходились. Только вот никому эта красота так и не перепала…
В общем, прошел незнакомец в сельсовет, о чем-то очень долго говорил с председателем, а потом тот отвел его на постой к Ефросинье. Женщина она была одинокая, не очень молодая, по тогдашним меркам невеста для парней уже неинтересная. А на следующее утро он пришел в сельскую школу, и начал вести у детишек уроки литературы и истории. Прежний-то учитель летом в речке утоп, а нового все никак не присылали.
С сельчанами он сошелся легко, потому что человеком был приветливым и добрым, только близко к себе никого не подпускал. Фрося говорила, что у него один чемодан был полностью набит книгами, и он их каждый вечер читал. Что за книги, она разобрать не могла, потому что написаны они были не по-нашему, а на каких-то неизвестных языках, Фрося запомнила только греческий, а остальные названия были сложные, древние.
Были у него еще и другие странности. Пока не встал лед, он ходил на реку купаться, а потом прорубил себе для этого небольшую прорубь. Каждое утро, несмотря ни на какой мороз он делал на улице зарядку. Теплую одежду не признавал и всю зиму проходил в своей шляпе, как не заболел, никто так и не понял. А еще он часто бывал в церкви. В нашей округе тогда только одна церковь и была открыта, та, что в нашем селе.
Когда наступило лето, он начал уходить в тайгу. Здесь года за два до того просеку прорубили, уж и не знаю теперь, что делать хотели, только потом передумали, и просека закончилась тупиком. Вот он по этой просеке каждый день как утром уходил, так только к ночи усталый возвращался, падал замертво, а утром опять. А потом и вовсе ночевать там оставался. И про зарядку и про купание свое забыл, исхудал, почернел весь. Ближе к осени кто-то из охотников в те места забрел и рассказал, что он там уже большую поляну от леса расчистил и из бревен избушку мастерит.
На вопрос, зачем ему это надо, он отвечал, что объяснит все после. Зиму он опять отработал учителем, а летом снова за прежнее взялся. Но тут у него уже хорошие товарищи появились, они ему немного подсобили, и в августе он объявил, что построил для себя скит и, что будет жить там, как монах, и зовут его теперь отец Роман. Говорят, что Ефросинья в голос выла, когда об этом узнала. Уж больно горячо она его полюбила.
- А сколько ему тогда было лет? – поинтересовался Кирилл.
- Девятисотого года он, - ответила Елена Ивановна, – а Фросе, наверное, было лет тридцать. В общем, он купил ружье, набрал запасов съестных, Фрося, обливаясь слезами, черную рясу ему пошила, и он ушел в лес, только еще чемодан с книгами прихватил.
Это, значит, был уже конец тридцать девятого года. А весной сорокового он начал строить церковь. Жил он в основном тем, что давали лес и река. Пушнину в артель сдавал, а деньги на строительство тратил. Фрося иногда к нему приходила, яйца носила, молоко, но это когда поста не было. А мясо он вообще есть перестал.
А когда началась война, он пришел в военкомат и предъявил белый билет. Это значит, что он от армии освобожден. Мужикам это тогда сильно не понравилось. У нас ведь все до одного на фронт ушли, только самые старые и немощные остались. Но он сказал, что не сам себе эту бумагу рисовал, а значит, так надо. А еще он сказал:
- Там на фронте и без меня сила могучая, а я здесь гораздо больше пользы принесу. И ко мне чтобы никто не приходил. Я в затвор ухожу. Зарок даю, ни с кем, кроме Бога в разговор не вступать до самой победы.
- А если мы не победим? - спросил его молодой парень, за что тут же получил от своего отца крепкую затрещину.
- Победим! – твердо ответил отец Роман, – через четыре года победим, только я день точный не знаю. Снег сойдет, видел, трава уже зеленая будет, а вот день не знаю. Вы уж кто-нибудь придите ко мне в тот день, я ждать буду.
Месяца за два до победы в село вернулась Ефросинья. Старый дед Тимофей ее на телеге со станции привез. Она самая первая из девушек на фронт попросилась:
- А что, - сказала она, - женщина я одинокая, и горевать обо мне некому. У других дети, им жизнь нужнее.
Но в селе дружно решили, что это она за Романа долг Родине отдавать пошла.
Всю войну она в разведке радисткой прослужила, сколько по вражеским тылам ходила, и ни одна пуля ее не брала. И только в феврале сорок пятого, когда возвращались из очередного рейда, немецкий снайпер ранил ее в ногу. Да так неудачно попала пуля, что какое-то очень важное сухожилие перебила. Как потом врачи ни старались, ничем помочь ей не смогли. Фрося ногу теперь сильно волочила и ходила с большим трудом.
В тот день, когда по радио объявили победу, к ней прибежала соседка:
- Народ к отцу Роману собирается, все, кто есть в деревне, идти хотят. Видишь, как он победу точно угадал, наверное, в нем, и вправду, что-то святое есть.
- Я тоже пойду, - твердо сказала Фрося.
- Да как же ты дойдешь? Можно было бы деда Тимофея попросить, только он еще с утра уехал куда-то.
- Никого просить не надо, я сама должна.
- А мне боязно что-то, - поежилась соседка. – А вдруг он там помер совсем.
- Не болтай, чего не надо, лучше помоги мне с крыльца спуститься. Живой он – я сердцем чувствую. Я его все время на войне чувствовала, кроме того дня, когда меня снайпер подстрелил.
Кое-как, но Ефросинья все-таки дошла: двигались они неспешно, потому что в толпе и старики и калеки и малые дети были, и только в самом конце она немного отстала.
Романа они увидели еще издалека. Он сам вышел им навстречу, высокий, худой, улыбающийся, черные глаза огнем горят, орлиные брови изгибаются, только волосы на голове белее снега.
- Победа! – закричали ему люди.
- Я знаю, - радостно ответил он, – мне сегодня весть была. А что это ты, Никита, глазом так дергаешь? – обратился он к односельчанину, который подошел к нему одним из первых.
- К-к-к-кантузия, - сильно заикаясь, ответил тот.
- Ну, это дело поправимое, - улыбнулся отец Роман, - вон церковь видишь? Иди туда.
И тут только все заметили небольшую ладную церквушку на опушке леса.
- Ну, ты отец Роман силен! – уважительно сказал кто-то из односельчан, и остальные одобрительно загудели.
- А где Ефросинья, почему я ее не вижу, она ведь с вами? – спросил Роман.
Ефросинья уже подошла, но стыдливо пряталась за чужими спинами.
- Здесь я, - робко отозвалась она.
- Ты тоже в церковь иди. И прости, Фрося, Христа ради. Меня в тот день медведь помял, я сутки в беспамятстве провалялся, вот тебя и не уберег. Но я теперь тебе помогу.
Сначала из церкви вышел Никита. Глазом он уже не дергал, но говорил, еще немного заикаясь:
- З-завтра еще п-приходить велено, и м-молитву на ночь и по утру до т-тридцати раз с чувством читать.
И тогда все замерли в ожидании следующего чуда. Минут через тридцать вышла и Фрося. Отец Роман снова помог ей спуститься со ступеней, а вот по дороге она пошла уже немного легче.
Она потом еще месяца три хромала, но с каждым днем все меньше и меньше. И каждое воскресенье, а потом и чаще до конца жизни она ходила в ту церковь, пока в восьмидесятом не похоронила отца Романа на сельском кладбище, а через год легла рядом с ним сама.
- Я хорошо его помню, - вздохнула Елена Ивановна, – он до конца таким оставался: прямой, как жердь, брови и борода темные, а волосы белее снега. К нему и из нашей деревни и из других со своими хворями многие люди ходили. Потом даже городские приезжали. Но он не каждому помочь мог. Некоторым он на грехи указывал и велел приезжать только когда человек от этих грехов избавится. «Нет у меня столько силы, - говорил, – чтобы их преодолеть. Они заслоном стоят. С ними только ты сам совладать сможешь, если постараешься. И если получится, приезжай, дальше уже моя работа».
- А кто он, так ничего и не узнали? – тихо спросила Луна.
- Почему? Полное его имя Роман Николаевич Остуженский. А про свою жизнь он тете Фросе только после его смерти разрешил говорить. Вроде как история эта когда-нибудь будет очень нужна одному человеку. Так что ж, про это тоже рассказывать?
- А как же? – удивился Кирилл.
- Ну, ладно. А ты, Саша, в тридцать третий раз слушать будешь, или кур покормишь?
- В тридцать третий, - сердито буркнул муж, - а куры немного подождут, тут уже недолго осталось.
- Кстати, это ведь Александр Фомич каждый год по весне ту поляну от поросли расчищает, только говорить об этом сильно не любит, - улыбнулась Елена Ивановна – Ну, да ладно, слушайте дальше. Он родился и жил в Москве, в тридцать лет уже стал профессором в университете. Мишка говорил, что в таком возрасте это не часто бывает. Что, правда?
- Правда, - хором согласились Кирилл и Луна.
- Так-то он мужчина был серьезный, все больше наукой занимался, историей - книги с древних языков переводил. Музыку очень сильно любил, театр, но уж больно он любил женщин. А они, видя его красоту, с охотой отвечали ему взаимностью.
«Ну, просто, как с нашего Ромки портрет написан, - подумал про себя Кирилл, – точная копия».
А в тридцать три года он, наконец, женился. Он очень сильно полюбил эту женщину. Антонина была намного старше его, уже к сорока. И вроде бы он успокоился, сын у них родился, весь на него похожий. Но ребенку еще и полгодика не исполнилось, а у Романа снова случился роман, - улыбнулась Елена Ивановна.
- Да, его жена сама была виновата, - неожиданно вмешался Фомич, – баба не должна забывать про кухню!
- Не знаю, - заступилась за нее Елена Ивановна, – возможно, что ребенок был очень беспокойный, или болел часто, только она действительно совсем ничего не готовила. Перебивалась всякой ерундой, а мужику что, ему ведь мясо нужно. Неподалеку от их дома был ресторан, и Роман приохотился каждый вечер в нем ужинать. А там певичка, молодая, смазливая, ну, и…Вот как-то вечером гуляет его жена с ребеночком. Он в колясочке спит, а она по сторонам смотрит, и вдруг видит в окне, как ее муж с певичкой этой обнимается. Она коляску-то бросила, в ресторан вбежала, да закатила им там истерику. Пока суть да дело, вышли из ресторана, а коляски и нет.
Ее-то вскоре в соседнем дворе нашли, а ребенок пропал бесследно. Никто ничего не видел, время было сумеречное, на улице малолюдно, решили потом, что украли цыгане, в то лето их в Москве было особенно много.
Роман еще держался. А Антонина потихоньку начала трогаться умом, куклу купила, баюкала ее, именем сына называла. В больницу ее хотели положить, но тут к ней вроде разум начал возвращаться, так подумали, что скоро все наладится, а она как окончательно в сознание пришла и все вспомнила, так из окна и выбросилась.
У Романа отец погиб еще в гражданскую, и мать воспитывала его одна. Он любил ее редкой сыновней любовью и очень оберегал, особенно потому, что у нее сердце было больное. Но после всего случившегося сердце ее долго не выдержало. Словом, еще через неделю он свез на кладбище и мать.
А дальше неприятности пошли чередой. Пока он на работе был, грабители влезли в квартиру, вынесли все добро, а помещение подожгли. Он ни о чем не жалел, только о фотографиях – никакой памяти у него о близких не осталось. Хорошо еще, что самые ценные книги он накануне на работу забрал. Сам потом объяснить не мог, почему так поступил. Предчувствовал, наверное. Домой он больше не пошел, а поселился у своего друга. Этот друг, кстати, уже после войны у нас в деревне объявился. Худой, больной, он с отцом Романом в скиту жил, даже на поправку пошел, но потом в одну ночь помер. Отец Роман Фросе тогда сказал, что так нужно было. А для чего умирать нужно, я вот не понимаю? Мне кажется, что до срока только за грехи забирают.
- Глупости говоришь, - снова вмешался Фомич, – а малые дети тогда за что?
- Они ангелы, - убежденно заявила Елена Ивановна. – В общем, ничего кроме работы у Романа в жизни теперь не было. И откопал он в архиве какую-то книгу старинную, перевел ее и разом уверовал в то, что Бог есть. Стал он об этом своем открытии научным товарищам говорить, а они, недолго думая, упекли его в психушку. Сказали, что его научное имя таким образом спасают.
Но, поскольку никаким психом он не был, то в больнице повел себя очень правильно, и его оттуда через месяц выпустили, правда, вручили белый билет. Он сказал Ефросинье, что есть в жизни вещи, которые происходят не просто так, и этот билет ему тоже не просто так достался.
Пришел он обратно к другу, а в квартире уже чужие люди живут, говорят, что ничего про его товарища не знают, а сами боязливо так к нему присматриваются. Сел он на улице под окном и сидит, куда идти - не знает. А уже затемно пожилая женщина из соседней квартиры со второй смены возвращалась. Она его сразу узнала и повела к себе.
- Вот, - говорит, – твои вещи, – и показывает ему на два чемодана и пальто со шляпой. Это товарищ твой накануне ареста мне на сохранение передал, объяснил, что ты в больнице. Я его давно знаю, он человек очень хороший, хоть его и в ОГПУ забрали, я и согласилась их сохранить. Так, что ночуй сегодня здесь, я тебе на диване постелю.
Лег Роман, а не спится. И понял он в ту ночь, что все, что ему дорого, у него почему-то отбирается. А уже под утро ему приснился сон: старец со светлым лицом.
- Как это, светлым? – не понял Кирилл.
- Не знаю, так он тете Фросе сказал. Стоит этот старец и молчит. Тогда Роман спрашивает:
- Почему я такой несчастный? – вроде бы во сне он понял, что этот старец что-то может знать. А тот опять молчит, но Роман вдруг слышит его мысли.
- Ты не там ищешь счастье. Все, что ты мог здесь найти, ты уже нашел.
- А где же оно? - снова спрашивает профессор.
- Далеко. Нужно ехать на поезде, о потом сойти на станции…
И описывает он ему дорогу до нашего села.
- Там, - говорит, - тебя место в школе дожидается. А еще оттуда начинается твоя дорога к Свету. Только она трудная, потому что нашему народу предстоят великие испытания, и длиться они будут долго - четыре раза снег сойдет.
И Роман увидел зеленую траву на лугах.
- Только там ты и себе и народу пользу принесешь.
- А что делать-то надо?
- Скит нужно монашеский построить, а потом церковь. Пока будешь это делать, к тебе остальное знание придет. И сила придет людям помогать, только не очень большая, потому что главную свою силу ты на весь народ потратишь.
- А как же я церковь построю, я ведь не умею?
- Это несложно. Сложно такое решение принять.
- Вот он зарядкой-то и занимался, - очередной раз подал голос отец Михача, - к монашеской жизни себя подготавливал, говорил, что за своим здоровьем всегда следил, гирями, штангой еще смолоду занимался, не курил, только выпивал иногда понемногу. Он и нас, мальцов, так жить учил. Из моего поколения, кто с отцом Романом общался, все непьющие и некурящие.
- Я еще, что сказать хотела, - Елена Ивановна вдруг приняла важный вид, - его Фрося уже под конец жизни спросила: «А не жалеешь, что свое столичное счастье на тайгу променял»? А он ей ответил:
- Кто тебе сказал, что я был там счастлив? Может, правда, тогда я и сам так думал, но только здесь осознал, как я там мучился, и не понимал, от чего. А потом мне дали маленький глоток знания, и я понял, что мучаюсь я от жажды. А здесь оказался целый колодец с живительной влагой. Только здесь я настоящего счастья и напился.
…
Прошла почти неделя, как Соболева выписали из больницы, передав под наблюдение врачей районной поликлиники. Но каждый день он все равно возвращался к больничным дверям, потому что там с нетерпением его ждала бывшая потерпевшая.
Голова Николая как-то очень быстро «разложила мозги по местам», и также на удивление быстро начало заживать его ребро. Сначала этот скоротечный процесс сильно удивлял Николая Викторовича, но потом его внимание переключилось на другого пациента, точнее, пациентку. Теперь уже Ольга начала поправляться непостижимо стремительно. Николай Викторович мог бы, конечно, списать этот феномен на душевную заботу, которой Соболев с первых минут окружил подопечную, но он был серьезным медиком и в подобные чудеса верил слабо. Он тщетно пытался найти этому хоть какое-то научное объяснение, но у него так ничего и не получалось. Одним словом деваться было некуда - прецедент имел место быть.
Девушка тоже отвечала Соболеву взаимностью, и все отделение с душевным трепетом наблюдало за развитием их романа.
Николай протянул руку, чтобы открыть входную дверь, но неожиданно она распахнулась сама, и из-за дверного косяка выглянула озорная Ольгина рожица:
- Сюрприз! – пропищала она.
«Как она помолодела за эти дни, просто пацанка», - подумал он, захлебнувшись счастьем, а вслух строго сказал:
- Ты как здесь оказалась, почему меня не дождалась?
- Сюрприз хотела тебе сделать. Привет!
- Привет, - и Николай нежно поцеловал милое создание, - больше так не делай, а то голова на лестнице закружится, и что тогда? Что, я спрашиваю, - шутливо сердился он.
Ольга, зажмурив глаза, отрицательно замотала головой, но тут же ойкнула, и Николай сразу почувствовал, где у него находится сердце.
- Плохая, плохая перспектива, давай о ней не будем, - опередила его возмущение девушка, прижимая руку к виску, - Ну, вот, все, уже и прошло.
- Ты ребенок, Оля, я так за тебя боюсь. Знаешь, до тебя я совершенно забыл, что такое страх. Бери меня под руку, я поведу тебя на прогулку.
- Это не страх, Коля, это тревога, - ласково объяснила девушка, - Это хорошее милое чувство, потому что оно дружит с заботой и вниманием. Я ведь тоже за тебя теперь очень тревожусь.
И она посмотрела на него такими восхищенными и такими бесконечно преданными глазами…
- А я просто без тебя не могу, - прошептал Николай. - Прихожу теперь домой, и пусто. Все на месте, даже этот дурак стоит, а тебя нет, и пусто.
- Какой дурак? – не поняла Ольга.
- Да, телевизор. Кто его только грамоте обучал. Куда не ткни, сплошные глупости говорит. Такое впечатление, что с той стороны экрана инопланетяне собрались и совершенно не понимают, о чем с людьми разговаривать.
- Ну, почему ты такой строгий? Бывают и хорошие передачи.
- Не спорю, бывают, но их же еще найти нужно, а мне, может быть вечером от своей работы отдохнуть хочется, может быть, я за день так наискался…, - улыбнулся он, - Оля, я хочу, что бы вместо него меня встречала ты.
- Я тоже этого хочу, - вздохнула Ольга, – только пока не выпускают. Но я очень стараюсь поправиться. Правда, очень!
- Я знаю, мне тебя тезка хвалил. Сказал, что ты – необъяснимый наукой феномен.
- Да? – важно переспросила Ольга. – Тогда вытирайте пыль, жарьте яичницу, скоро буду.
- Оль, - а я, знаешь, о чем серьезном с тобой поговорить хотел, - он с тревогой посмотрел на Ольгу, но она продолжала улыбаться совершенно несерьезными глазами. – В жизни бывает так, что обретать можно только, отдавая. Я без своей работы уже не я, а какой-то другой, совершенно неинтересный, и, наверное, даже ненужный тебе человек. Только отдавая себя работе, я становлюсь тем, что я есть, и без этого я чахну.
- Покажи мне этого гада, который хочет выгнать тебя с работы, - весело откликнулась Ольга. – Я его убью, и мне сейчас все спишется!
- Да, нет, я хотел сказать, что моя работа отнимает очень много времени, и меня придется подолгу ждать.
- А я умею ждать, - очень твердо сказала Ольга, – знаешь, как я теперь умею ждать. Я этому очень хорошо научилась. Только ты обязательно когда-нибудь возвращайся.
- Я никуда от тебя не денусь, никуда и никогда, Обещаю, ты только поверь.
Она ему верила, просто так – безо всяких обещаний. Потом она повеселела и добавила:
- Зато у меня появится свободное время, и я перевоспитаю твоего друга, я найду подход к его интеллекту.
- А я и в выходные иногда на работу хожу… - робко добавил Николай.
- А я научусь печь вкусные пироги, готовить борщи…
- Они будут остывать…
- А я буду греть их в микроволновке. У тебя есть микроволновка?
- Есть.
- Вот! Микроволновка есть – проблемы нет. Что еще?
- Еще у меня сын есть. Он живет со своей мамой, но мировой парень, и мы с ним дружим.
- Наверное, это очень хорошо… Коль, я тебе тоже сказать хотела… У меня не только ушиб мозга был, у меня еще…
- Я все знаю, - спокойно сказал Соболев – И что?
- Врачи сказали, что шансов иметь ребенка у меня теперь немного...
Ее глаза наполнились слезами, и через мгновение она затряслась от рыданий. Соболев испугался, схватил ее за плечи, постарался прижать к себе. Она упиралась, а потом и вовсе начала стучать кулачками по его груди.
И каждый ее удар все крепче и надежнее прибивал к его душе не сбереженное когда-то, и просто чудом обретенное им вновь чувство с таким хорошим именем Любовь.
В эту минуту он понял, что никогда уже не променяет эту драгоценность ни на какие мужские игры, что это единственное в жизни, во имя чего стоит приносить любые жертвы.
- Чушь! - возмущенно заговорил он. – Даже если бы они сказали, что шансов нет вообще, ребенок все равно будет! Соболев не такие бастионы брал. Хрен у них, что выйдет с этим их диагнозом! – разошелся он, но потом вдруг опомнился, – извини, родная.
- Нет-нет, ты это очень здорово сказал, - как-то сразу успокоилась Ольга - Так красиво!
- Правда?
- Угу!
- Значит, ты мне веришь?
- Угу.
Он прижал девушку к себе, и она не увидела тревогу, появившуюся в его глазах. Он действительно испытывал страх перед неизвестностью. Человек, покушавшийся на Ольгу, до сих пор не был установлен. Николай все время интересовался, как продвигается следствие, но никаких зацепок не было. В прошлый раз, когда он попытался узнать у Ольги, не вспомнила ли она хоть что-нибудь, с ней случилась истерика.
Но сегодня он все-таки решил попробовать еще раз. Он очень боялся, что уходит время.
- Оль, ты мне только коротко ответь: да – нет. Ты ничего нового не вспомнила?
- Ни-че-го – весело отчеканила она, - я думаю, что мне ничего вспоминать не надо. Вот, подойдет он ко мне и скажет:
- Здравствуйте Оля.
А я посмотрю на него искренне и отвечу:
- Извините, я вас не знаю.
Тогда он скажет:
- Нет-нет, мы с вами очень даже близко знакомы.
А я ему:
- Нет-нет. Вас никогда не было в моей жизни.
И он уйдет.
- Ты это серьезно так думаешь? – укоризненно покачал головой Николай.
- Если серьезно, - ответила Ольга, – то думаю, что я ему больше не нужна. Я в этом просто уверена. Я не помню этого человека, но я помню, как думала, что он меня любит, а в самую последнюю секунду я поняла, что была для чего-то нужна. Это «что-то» исполнилось, и надобность во мне отпала.
- Это фантазии.
- Это интуиция, Коля, серьезная, между прочим, вещь. Поэтому я абсолютно спокойна и абсолютно счастлива, понимаешь?
Во вторую пятницу августа Генрих Неронович наконец появился в своем загородном доме. Уже больше месяца он отменял воскресные визиты по причине возникновения разных неотложных дел, да и сегодня он заскочил всего лишь на одну ночь.
Быстро поужинав, он отправился в свой кабинет, а через полчаса, не дождавшись его обратно, Мария Николаевна поднялась к нему сама.
- Генрих, - Маша была настроена решительно, однако, встретившись с синим печальным взглядом, эта решительность быстро потеряла силу.
- Генрих, - повторила она уже спокойно, - нужно что-то делать! Я не хотела начинать этот разговор по телефону, а ты совсем не бываешь дома. У тебя даже с Кириллом не получается познакомиться. Вот если бы ты его хоть немного знал, мне было бы сейчас гораздо легче обращаться к тебе с просьбой.
Маша смотрела на Генриха с некоторой укоризной, но чувствовала, что в душе она совершенно не может ни осуждать его, ни обижаться. Сколько она его знала, в ней постоянно жило ощущение, а, может быть, даже больше – в ней жила твердая уверенность в том, что он все в этой жизни делает правильно, что он просто не может поступать по-другому.
Почему это чувство было так непоколебимо, объяснить она не могла. Она знала только об издательской деятельности Генриха, но была абсолютно убеждена в том, что этим его жизнь не ограничивается. Когда-то давно она тщетно пыталась угадать для себя иные ее гранни, но ничего достойного тому, что она о нем чувствовала, она представить себе не смогла. Слишком большой и непостижимой представлялась ей его сущность, и постепенно она оставила эти попытки.
Но и еще одно потаенное чувство она очень берегла в своей душе: ей было бесконечно хорошо от того, что он есть, и неважно, был он тут, или где-то очень далеко, потому что странным образом она всегда ощущала его рядом.
Маша протянула ему оставленную Уланулуной и уже изрядно помятую газету с большим портретом Кирилла.
- Вот, познакомься, наконец, это наш Кирилл.
Генрих на некоторое время задержался взглядом на фотографии, и ей показалось, что он смотрел на Кирилла, как на старого доброго друга, потому что на его лице замерла необыкновенно теплая улыбка. Потом он вернул ей газету со словами:
- Что-то случилось?
- Ты же обо всем знаешь? Я столько раз говорила тебе по телефону, – удивилась Маша.
- Я подумал, что с ним случилось что-то еще, а та история вроде бы уже закончилась, разве нет?
- Мне, почему-то кажется, что нет. Я просто уверена, что все только начинается, и что за этим стоит Иннокентий. Вот я и хотела попросить тебя о помощи. У Иннокентия большие деньги, связи, сила… Что может против него Кирилл? У тебя тоже связи, тоже деньги. Нужно навести справки по твоим каналам, подключить людей, обеспечить защиту…
Она хотела сказать и что-то еще, как ей казалось, очень дельное, но была остановлена возвратившейся в его глаза печалью.
- Прости меня, Маша, но я не могу. Я ничем не могу помочь, и это не зависит от моего желания.
- Обязательства перед жизнью? - вспомнила она давнишний разговор и первый раз за все время их общения сорвалась, - Я тебя поняла. Но, видишь ли, у меня тоже есть обязательства. Они не такого высокого порядка, потому что они перед людьми. Только от этого они не становятся менее важными. Люди, Генрих, - это и есть жизнь. Вот нам Кирилл как-то разъяснял, что в космологии рассматриваются антропные принципы. Оказывается, имеет место быть такая теория: «Вселенная существует, если в ней есть наблюдатель, то есть человек». Понимаешь? Убери человека, и пропадет эта жизнь! - Маша сделала громкий акцент на слове «эта». - Я вот подумала, а может быть обязательства перед жизнью – это и есть обязательства перед человеком? Может быть, мы просто должны заботиться друг о друге? Все обо всех – и ничего больше?
- Может быть… даже наверняка, - согласился Генрих, – об этом уже два тысячелетия, как знание дано, а человек все еще вопросы задает. Другие, ладно, но ты, Мария, ты меня удивляешь. Ты же по-другому просто жить не умеешь, зачем же ты тогда меня спрашиваешь?
И его глаза наполнились уже такой печалью, что Маша испугалась. Она подумала, что ни одно, даже самое глубокое море, не имеет столько воды, сколько печали сейчас в этих синих глазах.
- А то, о чем ты сказала, - продолжил Генрих, - это слабый антропный принцип. Кирилл рассказал вам, что есть еще и второй – сильный принцип этой теории: «Вселенная существует для того, чтобы в ней этот наблюдатель появился».
Маше на секунду стало стыдно, а потом сразу спокойно. Она вдруг подумала, что если Вселенная находится в таких …
- Хранитель, скажи мне, кто ты, - тихо попросила она, – ну, не говори, намекни только…
Он взял ее за плечи и прижал к своей груди. Впервые в жизни она услышала, как бьется его сердце, почувствовала, каким жаром пышет от его тела, вдохнула родной, ни в чем не узнаваемый запах…
И вспыхнула искра… она загорелась в Машиной душе и где-то еще очень далеко, она была яркая и чистая, как… Но не было в Машиной жизни ничего такого, что бы подобрать этому чувству сравнение. Это было нездешнее, неземное, необъяснимое разумом счастье.
Всего несколько минут, а может, только малую долю мгновения получилось погреться в его лучах - и она снова стояла в шаге от Хранителя, и он снова был ее другом, братом и даже отцом.
- Я не могу помочь, просто не могу…, - снова повторил он, – бывают в жизни минуты, когда любая помощь становится бесполезной, потому что испытание – это уже и есть помощь. И только человек сам способен одержать победу, потому что главная победа - победа над самим собой. Это самая трудная и самая главная победа, - медленно произнес Хранитель. – Ты меня поняла?
- Не совсем, - искренне призналась Маша. – Нужно сидеть, сложа руки, и заставлять себя быть счастливым?
- Нет, за счастье обязательно нужно бороться, всеми силами, до крови своей, до боли. Иногда ведь понять, что такое счастье, можно только узнав, что такое – горе. А вот если ты имел это счастье и все про него понимал, а его все равно забрали, тогда нужно постараться понять, ради чего гораздо большего могла случиться такая потеря. Нужно очень постараться… И все время придется бороться. Только так уж получилось, что делать это вам теперь без меня.
- Ты снова улетаешь? – по-своему поняла его Маша.
- Пока нет, но это абсолютно ничего не меняет. Пойдем, посидим у камина. Наши дети сейчас счастливы, зачем же и нам отказываться от своего взрослого счастья, хотя бы такого, которое мы можем себе позволить. Я спою тебе очень красивую песню, только ты не спрашивай на каком она языке.
Маша покорно шла за ним в каминный зал и была совершенно и беззаботно счастлива.
…В эту ночь ей впервые приснится сон. Потом он изредка будет прилетать к ней всю оставшуюся жизнь:
«Она молодая, очень красивая и очень сильная. Она не видит себя во сне, но знает, что это так и никак иначе. Она на далекой незнакомой планете, укрытой теплыми белыми снегами. Наверное, здесь бывает и лето, но она неизменно будет видеть только этот теплый снег. Он приятно греет ее ладони, а морозный ветер нежно ласкает лицо.
Где-то поблизости все время находится Хранитель. Иногда он вспыхивает на небе далекой звездой, иногда неожиданно возникает рядом. Но она постоянно ощущает его возле себя, и в любую минуту может с ним разговаривать. Бывает, что они подолгу поют песни на странных языках, но Маша очень точно знает, о чем грустит или радуется каждая из них.
А бывает, что Хранитель становится огромным, сверкающим шаром, или огненной птицей, и она вспыхивает в его сердце ярким огнем. Тогда он проносит ее через Космос, показывая всегда новый, прекрасный и бесконечный мир. Иногда они опускаются на удивительные планеты. Некоторые кажутся ей знакомыми, потому что она уже была здесь когда-то в сказках, которые рассказывал Генрих.
Но случается это нечасто, потому что все остальное время ей необходимо для выполнения очень важных обязательств перед жизнью.
Там, в этом сне, есть еще и другие, не менее дорогие для нее встречи. Она их не видит, а просто знает, что они всегда бывают радостными, а расставание никогда не бывает грустным, потому что разлука, по сравнению с Вечностью, скоротечна, а счастье постоянно и абсолютно равно бесконечности…»
Каждое утро совсем недолго, может быть несколько минут, а может, только малую долю мгновения она будет вспоминать этот сон и согреваться подаренным им счастьем, а потом все будет забываться. Но все сильнее будет жить в ней уверенность в том, что настоящее счастье еще только впереди.
А когда настанет ее последняя минута, Маша будет спокойна и даже испытает радостное чувство, потому что вдруг поймет, кто через мгновение возьмет ее за руку…
…
Никому не дано объяснить словами, что такое счастье.
Иногда оно озаряется прекрасным, как радуга, разноцветьем переживаний и чувств. Но чаще счастье прячется в шелестящей зелени листвы, мелкой водяной ряби, играющей вперегонки с солнечными зайчиками по поверхности тихого озера, в запахе сена и цветов, а иногда оно отражается в радостном сиянии глаз, или пеленает покоем обожженную приятным огнем душу.
Уже две недели Кирилл и Луна неспешными глотками пьют свое нежное счастье, настоянное на душистых сибирских травах и сдобренное терпкой хвойной пряностью.
Завтра утром уже самолет, Москва, суета… а сегодня они еще медленно бредут по узкой заброшенной просеке, и совсем не хочется думать обо всем, что будет завтра. Сегодняшний день еще принадлежит им. Они ушли из дома рано утром и не стали ни у кого спрашивать, куда ведет найденная ими накануне старая таежная дорога.
- Пусть там, в конце елового тоннеля живет тайна с шелестящим именем Неизвестность, - заговорчески прошептала ночью Луна, - а мы с тобой пойдем и раскроем ее. Но мы никому не расскажем о своем открытии, это будет только наша тайна, а для всех это по-прежнему останется неизвестностью.
- Луна, во-первых, если мы что-то раскроем, то это перестанет быть для нас тайной, а во-вторых, по-моему, это только по отношению к нам конец просеки – неизвестность, а..
- Молчи, - тихо перебила его Луна, – вот завтра ты сам убедишься, что в конце обязательно будет тайна.
Все это время они ночевали на сеновале, устроенном в большом бревенчатом срубе. От колющихся травинок их защищало толстое ватное одеяло, устланное белыми простынями, а вот запах сухого сена укрыть было нечем, и он пьянил, навевая красивые спокойные сны.
- Откуда такое знание? – спросил Кирилл, и Луна в темноте не могла разглядеть его веселую улыбку.
- Из предчувствия, - все так же таинственно прошептала она.
Просека была довольно длинной и сильно заросшей. Молодые пушистые кедры и тонкие лиственницы часто преграждали им дорогу густыми протяженными зарослями, поэтому открывшаяся перед глазами поляна показалась явлением совершенно неожиданным. Она была чиста, будто ветер отчего-то не решался ронять здесь семена могучих родителей и уносил их дальше.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что порядок здесь все-таки рукотворный – то тут, то там торчали еле заметные короткие пеньки. Но настоящее чудо, ожидавшее их здесь, оказалось совсем не в этом. Оно возникло в виде полуразрушенного деревянного сруба и еще хорошо сохранившейся часовни, а, может быть, даже небольшой церкви. Кирилл тронул наглухо заколоченную дверь, но старые гвозди держались намертво, будто не хотели впускать случайных людей ради простого любопытства.
Кирилл решил дернуть сильнее, но Луна остановила его руку.
- Не надо. Пусть то, что внутри пока останется тайной. Мы войдем туда в другой раз, когда будем к этому готовы. Иначе, что мы оставим после себя - гуляющий внутри освященного пространства ветер, дождь, заливающий сбереженные временем полы, пустоту, разруху? Лучше сохраним до поры эту тайну нетронутой. Может быть, через год мы приедем сюда для того, чтобы навести здесь порядок: мы выметем пол, уберем паутину, подправим то, что не пожалело время, и я спою тебе ту свою песню. Я чувствую, что ее очень нужно спеть именно в этой церкви. Песня не принесет этому месту вреда, потому что она о хорошем, о чем-то очень важном, может быть, о самом главном.
- О чем? – удивился Кирилл.
- Я не знаю… - пожала плечами Луна, – наверное, о счастье, только не здешнем, о другом… А потом мы снова забьем дверь гвоздями, чтобы ни вьюги, ни ураганы не смогли найти себе пристанище под этим кровом.
Вечером, когда мама Михача, Елена Ивановна, накрыла прощальный ужин, все снова собрались за длинным столом. Было сказано много теплых слов, но еще больше чувств было вложено в рукопожатия, крепкие объятия и неподдельную грусть в глазах, рожденную предстоящим расставанием.
- Мало вы у нас побыли, и Лариса в этом году тоже недолго гостила, детей вот оставила, а сама обратно к Мишке вернулась, - вздохнула Елена Ивановна, – теперь ее только в конце августа ждем, ближе к школе.
- А что ей здесь сидеть, дети уже большие, самостоятельные. Они здоровье и без материнской опеки накопить могут, а вот мужика без бабы долго оставлять нельзя! – жестко постановил Александр Фомич.
Детей Михача Кирилл и Луна видели изредка. Когда они приехали с целой кучей подарков, то еще имели возможность пообщаться дольше, да и то уже вскоре юные Маугли, покидав сладкую часть даров в пакет, унеслись к таким же, как они, шустрым, худым и загорелым товарищам, и тайга надежно укрыла их от взрослых взглядов. Правда, потом, когда Кирилл работал на покосе или помогал на лесопилке, он иногда пересекался с Мишкиным сыном, которого Фомич старательно приучал к мужицкому ремеслу. И Луна, помогая Елене Ивановне по кухне, тоже подружилась с юной поварихой.
Вот и сейчас дети, наспех перекусив, умчались к ожидавшей за забором ватаге, а Елена Ивановна тяжко вздохнула:
- Скучаем мы целый год без них, только в них и счастье. А эти балбесы, - кивнула она в сторону младших сыновей, - только и знают, что работа, охота, да рыбалка, будто других интересов в жизни нет. И когда только женятся?
- Мамань, ну дай еще маленько погулять. Тебе на кухне, что ли, помогать некому? Так мы ж сами тебе в такой помощи никогда не отказываем, - оправдался старший из младших.
- Это правда, - закивала головой Елена Ивановна, и глаза ее засветились, - Знаешь, Луна, какие они пельмешки лепят – вместе с ложкой проглотить можно, а главное, маленькие, ровненькие – один к одному, как на картинке. Это такими-то ручищами. Каждый раз смотрю и удивляюсь. Летом-то у них времени меньше, но теперь вот внучка подросла.
- Тьфу, - не зло сплюнул Фомич. – Я тоже удивляюсь, точно бабы, ей богу! Еще и фартуки цветастые на себя цепляют. Хорошо, что мать у них – женщина видная, так эти фартуки хоть пупок прикрывают, но все равно на слюнявчики похоже.
- А чего ты, батя, бурчишь? - рассмеялся младший,– это же ты тот самый и есть, который вместе с пельменями ложки глотает, а нам такая работа в охотку, да и матери полегче.
Но было видно, что на самом деле Фомич сыновьями гордится, а ворчит только так, для пущей важности, при гостях.
- Александр Фомич, - не выдержал, наконец, Кирилл, – а не скажете, что за церковь мы в тайге нашли?
- Где, в конце просеки, что ли?
- Ну, да.
- Это вон лучше Елену спросить, она покрасивше расскажет.
Но Елена Ивановна дожидаться просьбы не стала и охотно начала свой рассказ.
- Ой, это такая история интересная, местами даже таинственная. Началось все еще перед войной, в тридцать седьмом году. Ни меня, ни Саши тогда и в помине не было. Мне потом мама моя много рассказывала, так что я все подробности помню. Да что я, каждый в селе об этом хорошо знает. Только, тогда осенью, здесь появился очень странный человек.
Вы представляете затерянную в глухих лесах довоенную деревню? Это сейчас здесь спутниковое телевидение, а тогда дети до поздней осени босиком бегали, у баб и мужиков из парадной одежды - кирзовые сапоги, да телогрейки. А тут идет по проселочной дороге высокий статный человек в длинном светлом пальто, широкополой шляпе и с двумя большими чемоданами, а за ним детвора гурьбой бежит, бабы при встрече глазами сверкают, у мужиков челюсти отваливаются.
Из города, правда, и до него пару раз в шляпах заезжали, но этот, прямо как артист из кино был. Мама говорила, что он не только одеждой удивил, но и красоты был редкой: волосы смоляные, орлиные брови, карий с поволокой взгляд. Даже походка у него и то необыкновенная была, такая, что у девок сердца заходились. Только вот никому эта красота так и не перепала…
В общем, прошел незнакомец в сельсовет, о чем-то очень долго говорил с председателем, а потом тот отвел его на постой к Ефросинье. Женщина она была одинокая, не очень молодая, по тогдашним меркам невеста для парней уже неинтересная. А на следующее утро он пришел в сельскую школу, и начал вести у детишек уроки литературы и истории. Прежний-то учитель летом в речке утоп, а нового все никак не присылали.
С сельчанами он сошелся легко, потому что человеком был приветливым и добрым, только близко к себе никого не подпускал. Фрося говорила, что у него один чемодан был полностью набит книгами, и он их каждый вечер читал. Что за книги, она разобрать не могла, потому что написаны они были не по-нашему, а на каких-то неизвестных языках, Фрося запомнила только греческий, а остальные названия были сложные, древние.
Были у него еще и другие странности. Пока не встал лед, он ходил на реку купаться, а потом прорубил себе для этого небольшую прорубь. Каждое утро, несмотря ни на какой мороз он делал на улице зарядку. Теплую одежду не признавал и всю зиму проходил в своей шляпе, как не заболел, никто так и не понял. А еще он часто бывал в церкви. В нашей округе тогда только одна церковь и была открыта, та, что в нашем селе.
Когда наступило лето, он начал уходить в тайгу. Здесь года за два до того просеку прорубили, уж и не знаю теперь, что делать хотели, только потом передумали, и просека закончилась тупиком. Вот он по этой просеке каждый день как утром уходил, так только к ночи усталый возвращался, падал замертво, а утром опять. А потом и вовсе ночевать там оставался. И про зарядку и про купание свое забыл, исхудал, почернел весь. Ближе к осени кто-то из охотников в те места забрел и рассказал, что он там уже большую поляну от леса расчистил и из бревен избушку мастерит.
На вопрос, зачем ему это надо, он отвечал, что объяснит все после. Зиму он опять отработал учителем, а летом снова за прежнее взялся. Но тут у него уже хорошие товарищи появились, они ему немного подсобили, и в августе он объявил, что построил для себя скит и, что будет жить там, как монах, и зовут его теперь отец Роман. Говорят, что Ефросинья в голос выла, когда об этом узнала. Уж больно горячо она его полюбила.
- А сколько ему тогда было лет? – поинтересовался Кирилл.
- Девятисотого года он, - ответила Елена Ивановна, – а Фросе, наверное, было лет тридцать. В общем, он купил ружье, набрал запасов съестных, Фрося, обливаясь слезами, черную рясу ему пошила, и он ушел в лес, только еще чемодан с книгами прихватил.
Это, значит, был уже конец тридцать девятого года. А весной сорокового он начал строить церковь. Жил он в основном тем, что давали лес и река. Пушнину в артель сдавал, а деньги на строительство тратил. Фрося иногда к нему приходила, яйца носила, молоко, но это когда поста не было. А мясо он вообще есть перестал.
А когда началась война, он пришел в военкомат и предъявил белый билет. Это значит, что он от армии освобожден. Мужикам это тогда сильно не понравилось. У нас ведь все до одного на фронт ушли, только самые старые и немощные остались. Но он сказал, что не сам себе эту бумагу рисовал, а значит, так надо. А еще он сказал:
- Там на фронте и без меня сила могучая, а я здесь гораздо больше пользы принесу. И ко мне чтобы никто не приходил. Я в затвор ухожу. Зарок даю, ни с кем, кроме Бога в разговор не вступать до самой победы.
- А если мы не победим? - спросил его молодой парень, за что тут же получил от своего отца крепкую затрещину.
- Победим! – твердо ответил отец Роман, – через четыре года победим, только я день точный не знаю. Снег сойдет, видел, трава уже зеленая будет, а вот день не знаю. Вы уж кто-нибудь придите ко мне в тот день, я ждать буду.
Месяца за два до победы в село вернулась Ефросинья. Старый дед Тимофей ее на телеге со станции привез. Она самая первая из девушек на фронт попросилась:
- А что, - сказала она, - женщина я одинокая, и горевать обо мне некому. У других дети, им жизнь нужнее.
Но в селе дружно решили, что это она за Романа долг Родине отдавать пошла.
Всю войну она в разведке радисткой прослужила, сколько по вражеским тылам ходила, и ни одна пуля ее не брала. И только в феврале сорок пятого, когда возвращались из очередного рейда, немецкий снайпер ранил ее в ногу. Да так неудачно попала пуля, что какое-то очень важное сухожилие перебила. Как потом врачи ни старались, ничем помочь ей не смогли. Фрося ногу теперь сильно волочила и ходила с большим трудом.
В тот день, когда по радио объявили победу, к ней прибежала соседка:
- Народ к отцу Роману собирается, все, кто есть в деревне, идти хотят. Видишь, как он победу точно угадал, наверное, в нем, и вправду, что-то святое есть.
- Я тоже пойду, - твердо сказала Фрося.
- Да как же ты дойдешь? Можно было бы деда Тимофея попросить, только он еще с утра уехал куда-то.
- Никого просить не надо, я сама должна.
- А мне боязно что-то, - поежилась соседка. – А вдруг он там помер совсем.
- Не болтай, чего не надо, лучше помоги мне с крыльца спуститься. Живой он – я сердцем чувствую. Я его все время на войне чувствовала, кроме того дня, когда меня снайпер подстрелил.
Кое-как, но Ефросинья все-таки дошла: двигались они неспешно, потому что в толпе и старики и калеки и малые дети были, и только в самом конце она немного отстала.
Романа они увидели еще издалека. Он сам вышел им навстречу, высокий, худой, улыбающийся, черные глаза огнем горят, орлиные брови изгибаются, только волосы на голове белее снега.
- Победа! – закричали ему люди.
- Я знаю, - радостно ответил он, – мне сегодня весть была. А что это ты, Никита, глазом так дергаешь? – обратился он к односельчанину, который подошел к нему одним из первых.
- К-к-к-кантузия, - сильно заикаясь, ответил тот.
- Ну, это дело поправимое, - улыбнулся отец Роман, - вон церковь видишь? Иди туда.
И тут только все заметили небольшую ладную церквушку на опушке леса.
- Ну, ты отец Роман силен! – уважительно сказал кто-то из односельчан, и остальные одобрительно загудели.
- А где Ефросинья, почему я ее не вижу, она ведь с вами? – спросил Роман.
Ефросинья уже подошла, но стыдливо пряталась за чужими спинами.
- Здесь я, - робко отозвалась она.
- Ты тоже в церковь иди. И прости, Фрося, Христа ради. Меня в тот день медведь помял, я сутки в беспамятстве провалялся, вот тебя и не уберег. Но я теперь тебе помогу.
Сначала из церкви вышел Никита. Глазом он уже не дергал, но говорил, еще немного заикаясь:
- З-завтра еще п-приходить велено, и м-молитву на ночь и по утру до т-тридцати раз с чувством читать.
И тогда все замерли в ожидании следующего чуда. Минут через тридцать вышла и Фрося. Отец Роман снова помог ей спуститься со ступеней, а вот по дороге она пошла уже немного легче.
Она потом еще месяца три хромала, но с каждым днем все меньше и меньше. И каждое воскресенье, а потом и чаще до конца жизни она ходила в ту церковь, пока в восьмидесятом не похоронила отца Романа на сельском кладбище, а через год легла рядом с ним сама.
- Я хорошо его помню, - вздохнула Елена Ивановна, – он до конца таким оставался: прямой, как жердь, брови и борода темные, а волосы белее снега. К нему и из нашей деревни и из других со своими хворями многие люди ходили. Потом даже городские приезжали. Но он не каждому помочь мог. Некоторым он на грехи указывал и велел приезжать только когда человек от этих грехов избавится. «Нет у меня столько силы, - говорил, – чтобы их преодолеть. Они заслоном стоят. С ними только ты сам совладать сможешь, если постараешься. И если получится, приезжай, дальше уже моя работа».
- А кто он, так ничего и не узнали? – тихо спросила Луна.
- Почему? Полное его имя Роман Николаевич Остуженский. А про свою жизнь он тете Фросе только после его смерти разрешил говорить. Вроде как история эта когда-нибудь будет очень нужна одному человеку. Так что ж, про это тоже рассказывать?
- А как же? – удивился Кирилл.
- Ну, ладно. А ты, Саша, в тридцать третий раз слушать будешь, или кур покормишь?
- В тридцать третий, - сердито буркнул муж, - а куры немного подождут, тут уже недолго осталось.
- Кстати, это ведь Александр Фомич каждый год по весне ту поляну от поросли расчищает, только говорить об этом сильно не любит, - улыбнулась Елена Ивановна – Ну, да ладно, слушайте дальше. Он родился и жил в Москве, в тридцать лет уже стал профессором в университете. Мишка говорил, что в таком возрасте это не часто бывает. Что, правда?
- Правда, - хором согласились Кирилл и Луна.
- Так-то он мужчина был серьезный, все больше наукой занимался, историей - книги с древних языков переводил. Музыку очень сильно любил, театр, но уж больно он любил женщин. А они, видя его красоту, с охотой отвечали ему взаимностью.
«Ну, просто, как с нашего Ромки портрет написан, - подумал про себя Кирилл, – точная копия».
А в тридцать три года он, наконец, женился. Он очень сильно полюбил эту женщину. Антонина была намного старше его, уже к сорока. И вроде бы он успокоился, сын у них родился, весь на него похожий. Но ребенку еще и полгодика не исполнилось, а у Романа снова случился роман, - улыбнулась Елена Ивановна.
- Да, его жена сама была виновата, - неожиданно вмешался Фомич, – баба не должна забывать про кухню!
- Не знаю, - заступилась за нее Елена Ивановна, – возможно, что ребенок был очень беспокойный, или болел часто, только она действительно совсем ничего не готовила. Перебивалась всякой ерундой, а мужику что, ему ведь мясо нужно. Неподалеку от их дома был ресторан, и Роман приохотился каждый вечер в нем ужинать. А там певичка, молодая, смазливая, ну, и…Вот как-то вечером гуляет его жена с ребеночком. Он в колясочке спит, а она по сторонам смотрит, и вдруг видит в окне, как ее муж с певичкой этой обнимается. Она коляску-то бросила, в ресторан вбежала, да закатила им там истерику. Пока суть да дело, вышли из ресторана, а коляски и нет.
Ее-то вскоре в соседнем дворе нашли, а ребенок пропал бесследно. Никто ничего не видел, время было сумеречное, на улице малолюдно, решили потом, что украли цыгане, в то лето их в Москве было особенно много.
Роман еще держался. А Антонина потихоньку начала трогаться умом, куклу купила, баюкала ее, именем сына называла. В больницу ее хотели положить, но тут к ней вроде разум начал возвращаться, так подумали, что скоро все наладится, а она как окончательно в сознание пришла и все вспомнила, так из окна и выбросилась.
У Романа отец погиб еще в гражданскую, и мать воспитывала его одна. Он любил ее редкой сыновней любовью и очень оберегал, особенно потому, что у нее сердце было больное. Но после всего случившегося сердце ее долго не выдержало. Словом, еще через неделю он свез на кладбище и мать.
А дальше неприятности пошли чередой. Пока он на работе был, грабители влезли в квартиру, вынесли все добро, а помещение подожгли. Он ни о чем не жалел, только о фотографиях – никакой памяти у него о близких не осталось. Хорошо еще, что самые ценные книги он накануне на работу забрал. Сам потом объяснить не мог, почему так поступил. Предчувствовал, наверное. Домой он больше не пошел, а поселился у своего друга. Этот друг, кстати, уже после войны у нас в деревне объявился. Худой, больной, он с отцом Романом в скиту жил, даже на поправку пошел, но потом в одну ночь помер. Отец Роман Фросе тогда сказал, что так нужно было. А для чего умирать нужно, я вот не понимаю? Мне кажется, что до срока только за грехи забирают.
- Глупости говоришь, - снова вмешался Фомич, – а малые дети тогда за что?
- Они ангелы, - убежденно заявила Елена Ивановна. – В общем, ничего кроме работы у Романа в жизни теперь не было. И откопал он в архиве какую-то книгу старинную, перевел ее и разом уверовал в то, что Бог есть. Стал он об этом своем открытии научным товарищам говорить, а они, недолго думая, упекли его в психушку. Сказали, что его научное имя таким образом спасают.
Но, поскольку никаким психом он не был, то в больнице повел себя очень правильно, и его оттуда через месяц выпустили, правда, вручили белый билет. Он сказал Ефросинье, что есть в жизни вещи, которые происходят не просто так, и этот билет ему тоже не просто так достался.
Пришел он обратно к другу, а в квартире уже чужие люди живут, говорят, что ничего про его товарища не знают, а сами боязливо так к нему присматриваются. Сел он на улице под окном и сидит, куда идти - не знает. А уже затемно пожилая женщина из соседней квартиры со второй смены возвращалась. Она его сразу узнала и повела к себе.
- Вот, - говорит, – твои вещи, – и показывает ему на два чемодана и пальто со шляпой. Это товарищ твой накануне ареста мне на сохранение передал, объяснил, что ты в больнице. Я его давно знаю, он человек очень хороший, хоть его и в ОГПУ забрали, я и согласилась их сохранить. Так, что ночуй сегодня здесь, я тебе на диване постелю.
Лег Роман, а не спится. И понял он в ту ночь, что все, что ему дорого, у него почему-то отбирается. А уже под утро ему приснился сон: старец со светлым лицом.
- Как это, светлым? – не понял Кирилл.
- Не знаю, так он тете Фросе сказал. Стоит этот старец и молчит. Тогда Роман спрашивает:
- Почему я такой несчастный? – вроде бы во сне он понял, что этот старец что-то может знать. А тот опять молчит, но Роман вдруг слышит его мысли.
- Ты не там ищешь счастье. Все, что ты мог здесь найти, ты уже нашел.
- А где же оно? - снова спрашивает профессор.
- Далеко. Нужно ехать на поезде, о потом сойти на станции…
И описывает он ему дорогу до нашего села.
- Там, - говорит, - тебя место в школе дожидается. А еще оттуда начинается твоя дорога к Свету. Только она трудная, потому что нашему народу предстоят великие испытания, и длиться они будут долго - четыре раза снег сойдет.
И Роман увидел зеленую траву на лугах.
- Только там ты и себе и народу пользу принесешь.
- А что делать-то надо?
- Скит нужно монашеский построить, а потом церковь. Пока будешь это делать, к тебе остальное знание придет. И сила придет людям помогать, только не очень большая, потому что главную свою силу ты на весь народ потратишь.
- А как же я церковь построю, я ведь не умею?
- Это несложно. Сложно такое решение принять.
- Вот он зарядкой-то и занимался, - очередной раз подал голос отец Михача, - к монашеской жизни себя подготавливал, говорил, что за своим здоровьем всегда следил, гирями, штангой еще смолоду занимался, не курил, только выпивал иногда понемногу. Он и нас, мальцов, так жить учил. Из моего поколения, кто с отцом Романом общался, все непьющие и некурящие.
- Я еще, что сказать хотела, - Елена Ивановна вдруг приняла важный вид, - его Фрося уже под конец жизни спросила: «А не жалеешь, что свое столичное счастье на тайгу променял»? А он ей ответил:
- Кто тебе сказал, что я был там счастлив? Может, правда, тогда я и сам так думал, но только здесь осознал, как я там мучился, и не понимал, от чего. А потом мне дали маленький глоток знания, и я понял, что мучаюсь я от жажды. А здесь оказался целый колодец с живительной влагой. Только здесь я настоящего счастья и напился.
…
Прошла почти неделя, как Соболева выписали из больницы, передав под наблюдение врачей районной поликлиники. Но каждый день он все равно возвращался к больничным дверям, потому что там с нетерпением его ждала бывшая потерпевшая.
Голова Николая как-то очень быстро «разложила мозги по местам», и также на удивление быстро начало заживать его ребро. Сначала этот скоротечный процесс сильно удивлял Николая Викторовича, но потом его внимание переключилось на другого пациента, точнее, пациентку. Теперь уже Ольга начала поправляться непостижимо стремительно. Николай Викторович мог бы, конечно, списать этот феномен на душевную заботу, которой Соболев с первых минут окружил подопечную, но он был серьезным медиком и в подобные чудеса верил слабо. Он тщетно пытался найти этому хоть какое-то научное объяснение, но у него так ничего и не получалось. Одним словом деваться было некуда - прецедент имел место быть.
Девушка тоже отвечала Соболеву взаимностью, и все отделение с душевным трепетом наблюдало за развитием их романа.
Николай протянул руку, чтобы открыть входную дверь, но неожиданно она распахнулась сама, и из-за дверного косяка выглянула озорная Ольгина рожица:
- Сюрприз! – пропищала она.
«Как она помолодела за эти дни, просто пацанка», - подумал он, захлебнувшись счастьем, а вслух строго сказал:
- Ты как здесь оказалась, почему меня не дождалась?
- Сюрприз хотела тебе сделать. Привет!
- Привет, - и Николай нежно поцеловал милое создание, - больше так не делай, а то голова на лестнице закружится, и что тогда? Что, я спрашиваю, - шутливо сердился он.
Ольга, зажмурив глаза, отрицательно замотала головой, но тут же ойкнула, и Николай сразу почувствовал, где у него находится сердце.
- Плохая, плохая перспектива, давай о ней не будем, - опередила его возмущение девушка, прижимая руку к виску, - Ну, вот, все, уже и прошло.
- Ты ребенок, Оля, я так за тебя боюсь. Знаешь, до тебя я совершенно забыл, что такое страх. Бери меня под руку, я поведу тебя на прогулку.
- Это не страх, Коля, это тревога, - ласково объяснила девушка, - Это хорошее милое чувство, потому что оно дружит с заботой и вниманием. Я ведь тоже за тебя теперь очень тревожусь.
И она посмотрела на него такими восхищенными и такими бесконечно преданными глазами…
- А я просто без тебя не могу, - прошептал Николай. - Прихожу теперь домой, и пусто. Все на месте, даже этот дурак стоит, а тебя нет, и пусто.
- Какой дурак? – не поняла Ольга.
- Да, телевизор. Кто его только грамоте обучал. Куда не ткни, сплошные глупости говорит. Такое впечатление, что с той стороны экрана инопланетяне собрались и совершенно не понимают, о чем с людьми разговаривать.
- Ну, почему ты такой строгий? Бывают и хорошие передачи.
- Не спорю, бывают, но их же еще найти нужно, а мне, может быть вечером от своей работы отдохнуть хочется, может быть, я за день так наискался…, - улыбнулся он, - Оля, я хочу, что бы вместо него меня встречала ты.
- Я тоже этого хочу, - вздохнула Ольга, – только пока не выпускают. Но я очень стараюсь поправиться. Правда, очень!
- Я знаю, мне тебя тезка хвалил. Сказал, что ты – необъяснимый наукой феномен.
- Да? – важно переспросила Ольга. – Тогда вытирайте пыль, жарьте яичницу, скоро буду.
- Оль, - а я, знаешь, о чем серьезном с тобой поговорить хотел, - он с тревогой посмотрел на Ольгу, но она продолжала улыбаться совершенно несерьезными глазами. – В жизни бывает так, что обретать можно только, отдавая. Я без своей работы уже не я, а какой-то другой, совершенно неинтересный, и, наверное, даже ненужный тебе человек. Только отдавая себя работе, я становлюсь тем, что я есть, и без этого я чахну.
- Покажи мне этого гада, который хочет выгнать тебя с работы, - весело откликнулась Ольга. – Я его убью, и мне сейчас все спишется!
- Да, нет, я хотел сказать, что моя работа отнимает очень много времени, и меня придется подолгу ждать.
- А я умею ждать, - очень твердо сказала Ольга, – знаешь, как я теперь умею ждать. Я этому очень хорошо научилась. Только ты обязательно когда-нибудь возвращайся.
- Я никуда от тебя не денусь, никуда и никогда, Обещаю, ты только поверь.
Она ему верила, просто так – безо всяких обещаний. Потом она повеселела и добавила:
- Зато у меня появится свободное время, и я перевоспитаю твоего друга, я найду подход к его интеллекту.
- А я и в выходные иногда на работу хожу… - робко добавил Николай.
- А я научусь печь вкусные пироги, готовить борщи…
- Они будут остывать…
- А я буду греть их в микроволновке. У тебя есть микроволновка?
- Есть.
- Вот! Микроволновка есть – проблемы нет. Что еще?
- Еще у меня сын есть. Он живет со своей мамой, но мировой парень, и мы с ним дружим.
- Наверное, это очень хорошо… Коль, я тебе тоже сказать хотела… У меня не только ушиб мозга был, у меня еще…
- Я все знаю, - спокойно сказал Соболев – И что?
- Врачи сказали, что шансов иметь ребенка у меня теперь немного...
Ее глаза наполнились слезами, и через мгновение она затряслась от рыданий. Соболев испугался, схватил ее за плечи, постарался прижать к себе. Она упиралась, а потом и вовсе начала стучать кулачками по его груди.
И каждый ее удар все крепче и надежнее прибивал к его душе не сбереженное когда-то, и просто чудом обретенное им вновь чувство с таким хорошим именем Любовь.
В эту минуту он понял, что никогда уже не променяет эту драгоценность ни на какие мужские игры, что это единственное в жизни, во имя чего стоит приносить любые жертвы.
- Чушь! - возмущенно заговорил он. – Даже если бы они сказали, что шансов нет вообще, ребенок все равно будет! Соболев не такие бастионы брал. Хрен у них, что выйдет с этим их диагнозом! – разошелся он, но потом вдруг опомнился, – извини, родная.
- Нет-нет, ты это очень здорово сказал, - как-то сразу успокоилась Ольга - Так красиво!
- Правда?
- Угу!
- Значит, ты мне веришь?
- Угу.
Он прижал девушку к себе, и она не увидела тревогу, появившуюся в его глазах. Он действительно испытывал страх перед неизвестностью. Человек, покушавшийся на Ольгу, до сих пор не был установлен. Николай все время интересовался, как продвигается следствие, но никаких зацепок не было. В прошлый раз, когда он попытался узнать у Ольги, не вспомнила ли она хоть что-нибудь, с ней случилась истерика.
Но сегодня он все-таки решил попробовать еще раз. Он очень боялся, что уходит время.
- Оль, ты мне только коротко ответь: да – нет. Ты ничего нового не вспомнила?
- Ни-че-го – весело отчеканила она, - я думаю, что мне ничего вспоминать не надо. Вот, подойдет он ко мне и скажет:
- Здравствуйте Оля.
А я посмотрю на него искренне и отвечу:
- Извините, я вас не знаю.
Тогда он скажет:
- Нет-нет, мы с вами очень даже близко знакомы.
А я ему:
- Нет-нет. Вас никогда не было в моей жизни.
И он уйдет.
- Ты это серьезно так думаешь? – укоризненно покачал головой Николай.
- Если серьезно, - ответила Ольга, – то думаю, что я ему больше не нужна. Я в этом просто уверена. Я не помню этого человека, но я помню, как думала, что он меня любит, а в самую последнюю секунду я поняла, что была для чего-то нужна. Это «что-то» исполнилось, и надобность во мне отпала.
- Это фантазии.
- Это интуиция, Коля, серьезная, между прочим, вещь. Поэтому я абсолютно спокойна и абсолютно счастлива, понимаешь?
Рейтинг: +1
319 просмотров
Комментарии (1)
Новые произведения