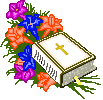Звезда (Рождественская история)
6 января 2017 -
Татьяна Стрекалова


1. Саночки
И затейливо же Господь белый свет устроил... Расстелил насколько глаз хватает равнину без конца, без края... Холмами её вздыбил гребнистыми, логами изрыл болотистыми, с ручьями-протоками, осокой-травой... Там-сям леса разбросал: ельник густой-влажный, сосняк сухой да жаркий, берёзу-ольху всякую, липу медвяную, лещину лупастую... Птиц весёлых пустил летать по лесу, гнёзда вить да щебеты сыпать. Посредь равнины из конца в конец - точно мастер-богомаз умелый – провёл кистью певучей полную гибкую линию – река получилась. Яркая синяя река в ясный день – вся в золоте нив. Ну, василёк во ржи! Сыпанул Господь из щедрого лукошка – и пошли цветы лазоревы по лугам, разнотравье душистое, земляника-черника оврагами, брусника-малина полянами, грибная поросль крепкая во сыром бору. Родился Стёпка на свет, раскрыл глаза свои глупые – и обомлел! До чего ж хорошо-то! Жить и жить бы... По лугам коровки ходят, помыкивают, по полям пшеница зреет-наливается. Лошадки на закате воду пьют, в речке отражаются. Рябит речка – и лошадки в воде искрой частой, мелкой крошкой рассыпаются. Это летом. А зимой – другая жизнь. Зимой завалит село снегом по крыши, по венцы. Не высунешься. Высунуться – дорогу тори. Это Стёпка от младенчества понял. Тори себе. Что проторишь – то твоё. Замёрз – хворосту принеси, дров поколи. Молочка – коровку обиходь. Хлебца – пашенку вспаши-засей. Уж так Господь людям учредил. А значит – не спорь. Потому как за жизнь эту - в цветах-ягодах, дождях-радугах – за неё ж потрудиться надо... Вот подрос Стёпка. И тогда великое дело в жизни его свершилось! Небось, думаете – царства жезл вручили? Неет! Выше бери! Штаны ему справили. От! была радость! – в штанах-то... До штанов – кто он? Мелюзга голопузая! Братнина рубашка зад прикрывает. А то – и не прикрывает... Летом – босиком, зимой – на босу ногу валенки, тулупишко братов, да и шапка – с него... А как в штанах стал – всяк видит: добрый молодец! И валенки – свои, и тулуп по росту, и шапка впору. Потому как в плечах сажень, и сам – до матицы. За одно лето таким стал. Ещё когда вешний снег начинал таять, на всех снизу вверх глядел, голову всё задирал. А как на Покров посыпался новый, крупа первая – оглянулся на народ – только шапки увидал, и голова сама собой книзу склонилась. Так-то. Кланяться будешь чаще! Рост – он не на гордость даётся, а во смирение. Это мелочь петушится-хорохорится, о себе заявляет, а ну, как по малому росту не заметят. А со Стёпкиного росту чего о себе заявлять? И так не обойдут. С ростом таким – к людям склонись. Почтительней будь. Стёпка это сразу и понял. К добрым людям, к отцу-матушке – всегда шапку снявши и с поклоном. А уж в церковь Божью – тут - что и говорить... Вот только хороводы эти, что после Пасхи на Светлой седмице завелись… вот там шапки он не снимал: силы своей не чувствовал. Свивала его тогда чужая, вражья сила – по рукам, по ногам, тревожила-пугала, и не было на неё управы никакой. Венками цветочными кружились те хороводы. По улицам плелись, за околицу выплёскивались, по лугам плыли, холмы обтекали. И цветы в тех венках кровь разжигали, сна лишали. Оттого Стёпка с цветами теми заносчив был. Глядел гордо, как бы нехотя. Стоял небрежно, приосанившись. Лихо шапку заламывал. Важно ус ржаной покручивал. Пошли усы к тому лету. Лето всё боролся Стёпка с вражьей силой и к осени вроде бы даже одолел её - с Божьей помощью-то! Помогает Бог! Вот сила та змеёй лукавой внутри у Стёпки раскручивается, а Стёпка, уж приноровившись – раз! – и в узел её завязал. Сила тогда тучей налетает, молниями гвоздит, ливнем хлещет, куда и деваться? А Стёпка - что есть духу, бегом – под крышу! дверь прижмёт - да и подвалит чем. А уж если злая мощь прёт медведем рычащим, топором её Стёпка встречает. Заступом, цепом, косой, вилами. Что к месту придётся. Силы Стёпке не занимать. Горит в руках работа. И пашня пашется. И хлеб сеется. И родные довольны: в стать вошёл парень. И верно – в самую стать. Даже на хоровод поглядывать стал уверенно. Стоит себе степенно, глядит понимающе, с уважением. Усмешечка – так – лёгонькая, всего ничего... Совсем без усмешки-то – тоже нельзя... Красота ж вешняя!
Только вешняя эта красота сыграла со Стёпкой злую шутку. Аккурат к Рождеству. Совсем уж примирился с красотой Стёпка. Перестал бояться да шарахаться. Распрямил спокойно плечи. Да, видать, где-то загордился. Она и подсидела.
Зима началась в тот год не пойми как: то снег, то дождь; то приморозит, то развезёт. И только на Спиридона лёг надёжный санный путь. И снег повалил – не продохнуть! Как будто всё, что до того удерживалось и приберегалось, разом на землю вывалилось. За одну ночь сугробы по окна выросли. За неделю – до крыши. Ветер греблёной волной уложил. На воротах кокошники кипенные налипли, под воротами гроздья жемчуга повисли. А снег всё сыпет-подсыпает. Летят пушинки белые – в запуски играют! Как девчонки смешливые, толкаются, слепляются, в хороводы скручиваются – аж похохатывают! Весело им, понимаешь, Божий мир до краёв наполнять!
Но к Рождеству дороги укатались, стали ровные, плотные и гладкие. Опасались в селе, со снежным заносом не справятся – справились! Стёпка и не удивился. А как же иначе? К празднику-то? Бог-то – помогает же!
Дороги крепкие стали, стала и река, как литая. В одном месте только река чудила. Испокон веку так. При впадении в неё малого притока. Омут-заверть там крутится. Не хочет под лёд. Бунтует. Люди его знают, обходят, с норовистым водокрутом не связываются. А так – вся река надёжная. И дорога по ней – тоже надёжная. Вот по этой по дороге-то – прикатили саночки.
Ничего особенного саночки. Как все прочие. Лёгкие, выписные, ладно сбитые.
Подоспели саночки в самый канун. В канун из окрестных деревень, с дальних хуторов люди съезжались. Тот к свату, тот к брату, тот к куму. Прибудут засветло - и погостить-повидаться, и благостную службу отстоять-потрудиться. Последний день пребывали люди в посте, – и в каком посте! Сугубом! Наиголоднейшем. Видно, с голоду со Стёпкой это и случилось.
Голод здорово изнутри свербел. С утра-то Стёпка его вовсе даже не замечал, да и работы много было. Напоследок разбрасывали её, работу. Второпях да впопыхах: побольше бы успеть до звезды. А как обеденное время подошло – вот тут Стёпку пробрало! Нутро жгутом аж закручивалось! Выло и стонало! От стонов-воев тех голова у Стёпки кружилась, и звон в ней стоял, так что искры в глазах дрожали, а дрожь в руках искрила. А там и ноги чего-то заплетаться пошли... А поблажек никаких – вымахал парень, не прежняя ж пустельга! Сам никогда бы поблажки не допустил: если уж себе поблажку, то - что с младшеньких спрашивать? А их – вон, сколько за ним следом – мал-мала-меньше – до самых голопузых. Голопузым-то – им хлебца, конечно. Брюквы томлённой, луку печёного, гороху пареного. С них что взять? А какие постарше – с тех уж спрос. Умей терпеть.
И терпели. Ну, разве что самую малость, как брюхо подведёт – червячка заморят, что б не кусался. Ну, ладно – по младости. Так Стёпка-то – он второй брат за старшим. А старшего – женят после Крещенья. Мужик. Солнце к закату спускалось, когда Стёпка дровни из лесу пригнал, Гнедка домой привёл. Последний раз потрудился Гнедко – и хватит! Пускай отдыхает, праздник встречает. Трудяга-коняга! На все Святки дровами хозяев обеспечил. Тепло да весело дома будет! Пироги будет мать печь что ни день! Щей мясных наварит! Оно конечно – тепло людям достанется, Гнедку его не положено. Ему в конюшне сена мягкого да попоны рыхлой хватит. Не балуют зверину-скотину. Так уж заведено. Да Гнедко - всё одно - доволен. Вон как головой-то крутанул – чует дом! Сейчас возьмёт его Стёпка под уздцы, на двор заведёт, разнуздает, из избы воды ему принесёт, стоялой, не ледяной. Завтра девки лент ему в гриву наплетут, дугу разукрасят, бубенцами увесят: катанье-гулянье пойдёт. Распотешится люд - чай забор не снесут! Чего не погулять, не порадоваться? Не бедные! Умеем работать – умеем гулять! Цельный день сегодня сёстры избу мыли-убирали. Образа к Рождеству до блеска начищали. Полотенцами шитыми увешивали. Званным-почётным гостем в избу праздник идёт! Ох, ждут его! Заждались! Весело-размашисто Стёпка ворота распахнул, похлопал Гнедка по крепкому крупу – что ж, мол, заходи, друг! Конь – он и есть друг, хоть и скотина! Гнедку нечего указывать – сам знает. Завёл его Стёпка во двор, потом вернулся – ворота закрыть – и застыл ошарашено... Потому как, тут - эти самые саночки и подъехали. Как ни в чём не бывало. К соседним воротам. К Михайловой избе. Остановились. Откинулся полог. Слез с саней осанистый мужик в долгополой крытой шубе. Важно к воротам двинулся. Заколотил в них кнутовищем. Гаркнул мощным басом: «Принимай гостей, хозяин!» Вслед за степенным мужиком спустилась с саней куколка закутанная. Нарядная, весёлая, яркая такая куколка. Вся в красном-жёлтом-зелёном. Голова цветастым платком покрыта. А личика не видать. По самые глаза – от морозу - укрыто личико белым мягким пуховым платком. Глаза одни лупятся. Во всю ширь распахнутые, огромные – из ресниц из чёрных, из-под бровей гнутых - синим светом горят. Вот как летом небушко в жаркий полдень. Как лён-ленок, цвет-василёк! Слыхал Стёпка, на свете лазурь-камень водится, и синей того камня нет ничего! А вот, есть - оказывается...
Зажёгся тот лазурь-камень между белым платочком пуховым да наголовным цветным, просверкал сквозь завесу снежную - да на Стёпку и уставился. На мгновение одно. И тут же в сторону сиганул и вниз упал. Вот и всё. Спрятался – и нет.
Стёпка стоит об одну сторону улицы, куколка – о другую. А между ними – снег себе сыплет. Сыплет и сыплет. Чего хочешь тут – то и делай...
Ну… чего делать…? Уронил Стёпка рукавицу в снег, открыл рот – да и… слово произнёс. А на что ж человеку слово? Вот оно – к делу пришлось. Трепетное, робкое, короткое слово получилось: «Кто такая? Откуда?». Камень-лазурь вновь сквозь снег чиркнул. Поднялась рукавичка белая, отодвинула белый платок, белое чистое личико открыла. По обе стороны личика – ал-закат пылает; посерёдке, пониже где – маков бутон рдеет. Краше ничего и никогда Стёпка не видел.
Чуть приоткрыл мак-бутон один лепесток и проронил слово в ответ – и тоже робкое, короткое - а точно колокольчик тренькнул: «С Запольного хутора, к дяде Михайле приехали…». «Далёко…»,- подумалось Стёпке, и грустно стало. Уедет – и не увидишь больше. Тут и сам дядя Михайло вышел. Такой же, как брат – огромный, важный. С грохотом ворота отворил – и сразу руки обниматься растопырились. Из пегой косматой бороды блеснула широкая улыбка. Забасил радостно: «Ну, наконец, пожаловал, братец родный! Заждались тебя, сколько не был-то! Уважил-утешил, не забыл! Ну, входи, не стой! Жена! Обустрой!- это он, обернувшись, крикнул; и опять к брату, теперь уж – на куколку кивнув, - а это кого ж? дочку привёз? этак выросла?! Мать вылитая!». Ненароком заметил Стёпка – от последних слов - словно вдруг плечами опал брат Михайлов. На миг один - точно ростом уменьшился – этак сникла голова. А потом – ничего. Приосанился, с довольным видом навстречу шагнул - радушно распахнулись объятья. Пообнимались басовитые братья и радостно в избу двинулись. Ну, и куколка с ними, понятно... Не за воротами же ей стоять. Опустила голову, краем глаза метнула на Стёпку синюю искру - и совсем отвернулась. Пошла себе неторопливо. Пока дядька ворота закрывал, всё видна была - в алой крытой шубке разузоренной, платком повязанная – по белому полю цветы: розаны пунцовые, ярко-жёлтые лютики, васильки голубые – а вокруг, враскид – папорот-цвет – зелень-трава... Пока совсем ворота не закрылись – всё стоял Стёпка да глядел вслед.
2. Белая лилия
Так и стоял бы. Да пинка заработал. А следом и затрещины. Вышел – гневен, скор на расправу – родный батюшка. Отходил по высшему чину. И было, за что. Гнедко! – так и остался посередь двора – нераспряженным! Непоен, некормлен, неубран! А лошадь – она хоть и здоровая тварь, крепкая, грубая – а нежная! Ей – уход-внимание требуется!
Одно и спасло Стёпку от самых крутых мер – Праздник грядущий. Праздник-то – кто ж его кому испортит?! Кто грех на душу возьмёт? Махнул батя в сердцах рукой – да и простил.
Заторопился Стёпка, закрутился туда-сюда - ушибленное потёреть некогда! Надо и Гнедка напоить, и остатнюю работу справить, да и куколку не упустить! А ну как зазвонит к вечерне колокол, а Стёпка не успеет… не перехватит её по дороге к церкви… не пойдёт в стороне да рядом, заглядывая в белое личико… не отпинает прочих ребяток, кто приступить посмеет?! «Только посмейте!», - Стёпка аж задохнулся. И сразу вспомнился вечный супротивник – Герашка, дядьки Пафнутия сынок. Задиристый-зубастый, гордячий-горластый – не давал Герашка спуску Стёпке. И Стёпка ему не давал. Так и остались оба – с малых лет до сей поры – друг другом не обломлены, не спущены. А значит – на равных. Вспомнил Стёпка про Герашку – засопел в гневе. Лицо покраснело, и глаза зло сощурились. Даже про Рождество на минуту забыл – вот как рассердился! Но всё же, спохватившись, образумился: не дело – к празднику злые глаза щурить да сопеть, как кабан. Это верно – не дело. Но поспешить, всё же, следует. И завертелся Стёпка бойко да справно! Загорелась, закипела в руках работа. Быстро-ловко всё устроил. Раньше всех! Так что осталось время и умыться, и обрядиться - и гребешок патлы соломенные расчесал - ровно, на обе стороны. И когда вышла со двора Михайлы нарядная куколка с отцом да с дядиным семейством, Стёпка её давно у ворот ждал-выглядывал. Куколка его тоже заметила. Синий взгляд замер - и тут же в сторону.
Полоснул синий взгляд Стёпку наискось – и почувствовал Стёпка, что стал теперь самым счастливым и весёлым парнишкой во всём селе. Засвистало-запело внутри на все лады! Удаль охватила лихая-бесшабашная, так что вздумай кто на борьбу вызвать или задеть сгоряча – разметал бы Стёпка любого противника с лёгкостью, с какою былинку скашивают, крапиву срубают! Вот какой стал Стёпка молодец! И плечами повёл... И голова независимо вскинулась... Куколка – взглянет – сразу и видит: молодец Стёпка!
Так и шли до самой церкви. Нет-нет – а всё друг на друга посматривали: и Стёпка молодец, и куколка краля, краше прежнего, и платок нарядней-ярче-новей, и щёки алей, и глаза синей, и толстая коса вослед по снегу стелется. Алая лента вплетена, шитый косник играючи поблескивает. Чёрной тугой змеёй вьётся коса. Ни у одной девки Стёпка такой не видывал – а уж на что разглядывать горазд!
Кабы Стёпка меньше на куколку таращился – углядел бы Герашку Пафнутьева. Как Герашка тот - лупалы пялит на девку.
Не те наглые смелые, с какими он на стенку биться выходит, а другие… робкие… тоскливые… какими волк затравленный на огонь глядит… глядит – и смерть свою чует. Такому волку терять нечего. Такой волк и оттуда… из смерти… успеет зубами ухватить. Да… совсем ни к месту пришёлся Герашка… и со счетов его не сбросишь. Другие ребята – и хлопот никаких, а этот... Когда Стёпка заметил его, у самой уж церкви, на крыльцо поднимаясь – ох, прижало да засосало внутри! Никакой соченьников голод в сравненье нейдёт! Десять сочельников подряд перенёс бы, лишь бы Герашка этот о другую сторону дружно ступающего Михайлова семейства не тащился вслед, не глядел на куколку, как побитый! И вот ведь занятно... Сколько раз уж дрался с ним Стёпка! Сколько раз колотили друг друга, в кровь расшибали, вслякоть размазывали – а всё равно – и с расквашенным носом, и с намятыми боками – побитым Герашка не был! Нет! Не сдавался! Всё заносился-задирался-хорохорился! Выдерживал Стёпкин натиск! А тут – по левую сторону паперти, где куколка красными нарядными сапожками прошлась – обломало его... Побитый! Как есть – побитый стоит...
Пригляделся к нему Стёпка. Уразумел, что к чему. И тут же отмёл прочь: не до него... Свои дела бы не упустить: куколка идёт, не ждёт… уж и в главный придел, облаками-ангелами по своду расписанный... Народу вокруг колышется! Не протолкнёшься потом! Стёпка – протолкнулся. Не таков был, чтоб отстать. В сторонке, позади куколки притулился. Незаметнее – в тени чтоб... Отцу с дядькой глаза не мозолить. В приделе куколка согрелась. Вдоль пушистой белой оторочки пробежались проворные пальчики - и шубка распахнута, с головы цветной платок на плечи сброшен. Под тёплым-цветным – второй. Тонкого шёлка, белоснежный. И повязан платок на узорный ободок. Впереди – полукругом с мысиком возвышается, яркими бусами расшитый, искусно-причудливо... А руки тонкие… пальцы длинные, ловкие... Сразу видать: рукодельница.
Поглядела вокруг куколка – поняла, где что; что к чему. На людей заоборачивалась. Понял Стёпка – свечку хочет спросить. Дядька Михайло, вон, уж назад продвигается, несёт в кулаке зажатую вязку толстых, богатых свечей. А Стёпка – ловчей-проворней. У него свечки - давно в руках. И к куколке он ближе. Подъюлил, подкрутился – как бы невзначай, с улыбкой на ладони протянул: бери, мол. Как душа велит. Хошь – одну, хошь – все! Куколка взглянула озадачено. Поморгала глазами. И, осторожно улыбнувшись, взяла половину. Как велела душа. Как Стёпка и загадал. Потому как ему, Стёпке, душа так подсказывала: раз половина, значит всё у них пополам будет. «Тебя как звать-то?», - спросил едва слышно. Куколка быстро, не взглянув, украдкой - шепнула в ответ: «А Сосёнка…». – «Чего..?»,- оторопел Стёпка, и пятерня сама собой, ненароком, - чёсаные волоса взъерошила. Торчком встали. Куколка глянула – да и прыснула. Но – по-доброму. Это Стёпка понял. В недоумении вихры пригладил. Только всё в голове вертелось: «Это что ж за имя-то такое? Что-то не встречал в святцах ни сосенок, ни ёлочек…». Так всю службу и простоял растерянно. И когда желающие к исповеди потекли – пошёл со всеми. Хорошее дело – напоследок, пред праздником покаяться-причаститься, в чистоте Рождество встретить. Да и – куколка… Сосёнка-то эта… тоже туда же – а с ней рядом постоять тянет. Как же, интересно, батюшка грехи ей отпускать станет, Сосёнке-то? Что ж это за святая - из сосен-то которая? Ох, любопытно! Только не такое дело - исповедь, чтоб там узнать чего можно. Как приблизились к аналою, глаз не спускал Стёпка с Сосенки. И уши всё напрягал. И шею вытягивал. А только – ничего-то не слышно. Подошла девица к батюшке тихонько-скромненько, личико долу опустимши, пошелестела слегка невнятно – и накрыли её епитрахилью. Вот и вся недолга. А у Стёпки – и без куколки заморочки имеются. Не дай бог куколке про них узнать! Отошла бы поскорей, что ли... Господи! Ведь сейчас каяться предстоит! Ох, срам! Как же это проговорить-то всё? Ох! И зачем только…? Вспомнил Стёпка – и сразу вспотел - красный, точно из бани выскочил... Ох, бани эти! Верно говорят – нечистое место! Тело моет – душу мажет... Ой… всё ближе… одного пропустил… другого… больше уж не выходит… в спину толкают… неужто сейчас… так-то прямо…? «Ну…, - батюшка внимательно всмотрелся в лицо ему, позвал настойчивей… да по имени, - чего стоишь, Степан? Иди уж…». Стёпка испуганно голову в плечи втянул, глаза заметались. Согнувшись, к аналою подошёл, к самому кресту склонился. Батюшка взглянул строго. Голос обыденный – и спокойный: «Всяк ни без греха. Кайся – чем грешен?». Стёпка, страшась, с малого начал: и молитвы пропускал, и отца гневил, и озорное помышлял... «Ещё что?», - всякий раз спрашивал священник. Стёпке уж и не вспоминается ничего, а всё о главном молчит - мямлит пустое... А народ стоит-ждёт, переминается. И дошло тут до Стёпки: вот он время тут тянет, батюшку стыдится, а куколка, Сосёнка-то эта, поди, глядит со стороны и думает, мол, ну, нагрешил парень! Дольше всех у аналоя! Перепугался Стёпка и наспех, заполошно, торопливо всё и высказал: так и так, мол, возле бани ненароком задержался, когда бабы парились. Идти да идти бы, не оглядываясь... Так нет же! Согрешил, глянул. Да ещё схоронился, чтоб не заметили. Как выскочила одна, плюхнулась в снег – тут же и оскоромился. И бес потом всю ночь приступал. Тьфу! Священник выслушал. Помолчав, спросил: «Это зачем же тебе понадобилось?». - «А - любопытно…», - признался Стёпка. Батюшка покачал головой: «Любопытство праотца сгубило. Чего тебе мимо не шлось? Душа на грех – как муха на дерьмо... Вот и попался! Окорячил тебя бес. Спасаться надо! Кайся да поклоны клади! Каждодневно, до Крещения, по десять земных поклонов. Потом на исповедь придёшь. А сейчас причастись! Бог поможет!». У Стёпки на сердце отлегло. Сразу хорошо, спокойно стало. «Ох, отработаю!- с пылом решил он,- ни дня не пропущу – лишь бы Господь простил!». Повеселел Стёпка. Крест-Евангелие устами тронул – и в сторону. Глаза опасливо на куколку скосились. Куколка в стороне возле отца с дядей – лоб крестя, в пояс кланяется. Смотрит на Царские врата, а краем глаза, осторожно да урывками – на Степку. Вот вроде строгая вся, а как будто из одних улыбок состоит! Стёпка и разулыбался... Стоит в храме – и никак улыбку с лица не стереть. Спохватится, приструнит себя, серьёзность напустит – а губы удержаться не могут – так и расползаются в обе стороны... И в голове, сквозь розовый туман – счастье щёлкает! А чего ему щёлкать-то? Чего ему, Стёпке, улыбаться? Отгудят колокола, отзвонят праздники, отгуляет честнОй народ – запряжёт Михайлов брат лошадок, подсадит дочку в сани – и прощай, Сосенка… как доселе не видал – так и впредь не увидеть. Ведь экая даль – Запольный хутор! И Стёпкин батюшка не отпустит... Да и Сосёнкин – не встретит... Всё так, всё верно… а только так уж устроен молодой счастливый человек – что печаль ему пО боку. Не думает – и нет её! Святки – ни день, ни два… цельный десяток! Когда ещё кончатся! Налюбуемся, нарадуемся – всё впереди! Завтра самое веселье начнётся! Думает Стёпка про завтрее – а только покуда сегоднее не кончилось. Идёт время неспешно. Тянется помаленьку. Плывёт служба благостная – и по словам-пениям её вечным каждый в храме судит-понимает: вот-вот… вот уж близко… ещё чуть-чуть… ещё... И ударит колокол, точно задохнувшись… и пойдёт звонить великие звоны… бесконечно, безоглядно, взахлёб! Дин-дон! Рождество Господне! Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума... Расступайтесь, силы тёмные! Пришёл светлый день, светлый час, светлый миг! Явился Господь на землю – ради нас, грешных! Ради нас, детей своих неразумных… коим всё чего-то не хватает в жизни… Кому чести людской, кому казны златой, кому Сосенки-девицы... Так и было всё... Превеликий звон заполнил мир вокруг! Не было сердца, не раскрывшегося навстречу ему! Как цветок раскрывается по весне – вот так! Громадная радость забурлила-заклокотала весенним потоком, прорвала наст ледяной! Что ей зима студёная?! Что морозы Рождественские?! Радость в мире – что птица, носится! Вьётся, кружится, людей будоражит! Нас бо ради родися, Отроча Младо, Превечный Бог! Горят-полыхают свечи, ярый воск плавится-течёт... Не капли катятся – ручьи бегут! Жар стоит не по-зимнему – летним венцом! - золотыми лучами по всему храму расходится! То ли солнцем, то ли звездой Вифлеемской под самым куполом зажигается! И звонят-гудят-поют колокола – неудержно! неистово! Дин-дон! Вот так... Всей грудью, от всей души, со всеми всклад, самозабвенно – выкликнул Стёпка заветный глас: «Величаем Тя, Живодавче Христе…». Дрогнула-заколыхалась где-то в вышине - Солнце правды – звезда полуночная, та самая, с которой волсви путешествуют… путеводная, стало быть, звезда! которая – ко Христу ведёт! А снизу, полыхнув рядом со Стёпкой – устремился вслед звезде – синий Сосёнкин взгляд. Взлетел, подхватил слово девичий голос: «Нас ради плотию рождшагося от безневестныя и Пречистыя Девы Марии». Так они рядом стояли – и пели. Стояли – и пели. И свивались оба голоса упругими плетьми да петлями в кудель кручёную, пасму путанную, пряжу сваленную, которую вовек ни разобрать, ни расплести, ни раздёрнуть, ни разорвать! Вот как пели! Ничего вокруг не видали. Не заметили, как вдруг хмур-суров, не по-праздничному, глянул искоса Сосёнкин грозный батюшка... А под сводом тем временем – Херувимская песня звенела! И свечи блистали – сотни свечей! Рассекая тьму, распадаясь лучами – яркими звёздами огоньки их сверкали. А в лучах цвели цветы и ангелы летали! И все это видели – и не удивлялись! Конечно – ангелы! Ведь Рождество! А потом Причастие было... Вот когда Стёпка узнал-таки Сосёнкино имя. Оказалось – обычное оно! И в святцах значится! И как он сам не догадался?! Знал же его! Правда, ни одной девчонки в селе под таким именем не водилось… потому и впал Стёпка в сомнение…, но сам-то – помнил… про пророка Даниила слыхивал…, что пророческие видения зрил, со зверями-львами во рву пребывал и спас умным судом от клеветы и погибели прекрасную Сосанну… тамошним языком если – белую лилию... Белые лилии по всем по стрельчатым церковным окнам морозною выдумкой раскинули свои лепестки. Наглухо заткал стёкла кристальный порох инея, так что и ночи за ними не видать, а мерцают лилейные росчерки в отражённом свете свеч, вспыхивают и переливаются. А там, вдали за ними, в ночи дремучей, во тьме колючей – стойкой стражей высятся за деревней грозные могучие сосны. А с ними вперемежку – молодые, душистые, смолянистые – сосенки... И горит-сияет над Божьим миром, игольчато переливает тонкие лучи – та ещё! с давних-древних пор взошедшая - голубая Вифлеемская звезда, которая светит нынче, в ночь Рождественскую, сквозь вьюги-метели, сквозь завесь снежную, каждому сердцу, человеком ли будь, зверем, деревом – на всей земле...
3. Жених
Кончилась служба всенощная... Ко кресту потянулся народ. Вперёд - мужики степенные, следом парнишки прыткие, после бабы разряженные, а там и девицы... Так что Стёпке куколку пришлось у дверей подождать... Расходились семейно. Сосёнкина родня и Сосенка при ней. И опять – в стороне, осторожно, крадучись – справа Стёпка тянулся, слева Герашка маячил. Ох, Герашка! Удаль Герашкину Стёпка на следующий день оценил. На улице с ним столкнувшись, у Михайловых ворот. Как только отец отпустил – сразу Стёпка со двора рванул. Тулуп налету в рукава, шапку на макушку... Выбежал – а Герашка уж тут... Караулит. А чего караулит? Не ему же Сосенка в церкви улыбалась... А может – ему, - захолонуло у Стёпки внутри... Нет! Стёпка ж видел! Да и не такая она, Сосенка – чтоб Герашке улыбаться! И вообще – здесь наши ворота! Бились долго. Крепко. С хрустом и хряпом. Остервенело удары наносили, напористо, по-петушиному, друг на друга кидались. По неписаному закону следовало – до первой крови на снегу. Потому как – если обоюдно морду вдрызг разбить – это ни вашим, ни нашим. Кому такой нужен - с мордой, как свежатина? Девок распугать? Однако по такому случаю, как сегодняшний – Герашка законы презрел. И Стёпка, при радостно ёкнувшем сердце – понял, почему! А потому, что – не светит Герашке это солнышко! Ему и терять нечего! С обиды-досады на Стёпку прёт! И мордой не дорожит! Что с мордой, что без неё – Сосёнке он не надобен! Потому, получив от Стёпки смачную плюху по носу, кровь Герашка торопливо утёр и яростней прежнего напрыгнул. Стёпка-то – ещё бы - и расслабился: думал, обломал супостата, теперь замирение. Ан, не тут было! Но прыжок Герашкин не прозевал. Вывернулся - отбил наскок. Опять рассекли морозный воздух два стремительных и жарких тела, сбились в едином ударе. Растрепались тулупы, в снег слетели шапки. Глаза в безумной остервенелой мути, и зубы оскалены-стиснуты. Облако пара поднималось над горячими головами, красными от напряжения лицами. По Герашкиному – струилась кровь. Сквозь эту кровь – весь в удар он вылился! Теперь Стёпка в скулу получил. И опять замирения не вышло! Обоюдная ненависть захватила обоих. Никогда такой огненной не было! До сего дня – чего бы делить им? Славу людскую? Так и без неё каждый себе цену знал. И так – все другие ребятки опасливо на них косились. За Михайловым забором обреталась причина и даже в окошко не выглядывала – на доблесть-стать полюбоваться. Причина не выглядывала. А Михайла выглянул. После чего брата в бок потолкал. Сосёнкин батюшка посмотрел и - чернее тучи - давай шубу напяливать. Грузно топая, попёр из тесовых ворот – медведь медведем. Следом – брат, Михайла, дому хозяин. Не успели ребятки бедовые на скрип ворот обернуться – обрушился - без разбору, сразу на обоих – кнут безжалостный. Вкривь и вкось, да на обе стороны - разметал незадачливых соперников, расшвырял драчунов-буянов. Мальчишки присмирели: не посмеешь Сосёнкиному батюшке перечить... Взглянул девушкин родитель на кровавые рожи – аж плюнул с досады! Загремел гневный бас: «Это что ж творите-то, да на святой день?! Да под чужими воротами?! Вооон… хороши… смотреть пакостно! И чего сцепились-то?! Чего не поделили? Тут вам делить нечего! Тут девица просватанная…». Сказав так, зыркнул на парнишек сердито. Хлопнул рукавицей о рукавицу, снег стряхивая – и кнут за пояс заткнул. А Михайло, своим – напоследок погрозился: «Вот отцам-то выговорю! Пусть знают!». Повернулись братья солидно-неспешно – и только ворота за ними стукнули и закрылись – как раз перед двумя хлюпнувшими носами. Оба мальчишки как стояли – так и осели. Прямо на заляпанный красными точками, затоптанный и донельзя изрытый снег. Сразу исчезла вражда, отошла ярость – приступила тоска смертная, обоюдная. Скосил Стёпка глаза на Герашку – и пожалел его: на грязном сером лице блестел и наливался алым соком бесформенный нос, и стылой зимней полыньёй неподвижно, точно незрячие – гасли глаза. Это Герашкины-то – которому и не светило от Сосенки... Чего ж тогда о Стёпке говорить…? Стёпка - белый мир вокруг оглядел… снег замаранный под ногами… снег нетронутый, чистый-пушистый – на заборах да крышах… оглядел деревья, которых веточка каждая, каждый сучок – укрыты-обёрнуты в нежный, белый, искрящийся радужными блёстками пух… - и понял, что глядеть в этом мире - не на что... Всё! Вот те и Святки долгожданные... На что они теперь? Не будет ни катанья, ни гулянья, ни глаз синих, ни платочка цветастого... Надо же…? Просватанная... Ах, как весело да радостно бегалось Стёпке с горки – на горку, с Сосёнкой за руку! – в мечтах пустых! Как вёртко выводил он салазки, - в мыслях недалёких! - обводя бугры-рытвины, ухабы-колдобины – с крутого берега с Сосёнкой на лёд съезжаючи! Черпать бы пригоршнями смеху-хохоту, звонкой удали, сердечной тяги... Какая ж тяга-то? – когда просватанная? Стал Стёпка про это думать. Погано про это думать – а никуда не денешься: из головы нейдёт... Сперва думал, как увезёт свирепый батюшка дочку обратно, на Запольный хутор, а она, бедненькая, будет всё оглядываться: Стёпку глазами искать... Тут к глазам Стёпкиным – волнами вода попёрла, только и успел от Герашки отвернуться. А мысли не ждут – жгут! Сами наплывают! Рисуется Стёпке жених неведомый. Приезжает он к Сосёнкиному двору разбойничей тёмной ночью, на чёрных обугленных санях с похоронным звоном. Сам – чёрен, как сажа, костляв, как остов. Глаза злые, вместо зубов – собачьи клыки оскаленные, вместо доброй речи – рык звериный, шип змеиный. Совсем худо Стёпке тут стало. А Сосёнку жалко! – невозможно! Как представил, что сажает этот жених белолицую румяную Сосенку в свои сани покойницкие, свищет пронзительным свистом вороным, хрипящим коням огнедышащим и с милой земли взвивается чёрным крутящимся смерчем в мрачное беззвёздное небо – ой! резануло нутро! боль насквозь прожгла – что ни дохнуть, ни выдохнуть – только просипеть задавлено... Так, задавленный – Стёпка молча кивнул неподвижному, точно замороженному Герашке – и, не оглядываясь, к себе на двор поплёлся... Дальше – что ж? Всё падало из рук. За что ни возьмёшься – криво-косо выходило... Гнедка напоить – воду пролил. Хомут приладить – поскользнулся на той воде, об ведро споткнулся. Отец поглядел-поглядел… на ловкость сыновью, да на личико попорченное... Головой покачал, но в честь праздника от управы воздержался. Меж тем семья к выходу готовилась. Достойному. Честь по чести чтоб. Всем известно: каковы сани – таковы сами. Так вот чтоб – сани были под стать коням, кони – под стать саням. И все вместе – не хуже самих. То есть, празднично разубранных хозяев: батюшки в крытой синей, добротного сукна, шубе; матушки – в шубе тёмно-малиновой, по полам да бортам узором – греческим плетеньем украшенной, да тем же плетеньем расшит кокошник, да сверху убран платом чудотканным; старшего брата – выше отца вырос, тулуп ему коротковат, пока не крыт, к свадьбе новый справят, но всё равно видно, что молодец! Сестёр, что в невестную пору входят: старшей покрыли шубу ярко-жёлтым весёлым сукном, вот уж нарядница! Красный в жёлтых и рыжих цветах плат сверху! У младшей пока шубка некрытая, невзрачная, зато голубой с белыми цветками платок летним небушком смотрится! Успеет, подрастёт ещё! Прочие младшие одеты тепло, в тулупы со старших, вот и будет с них: голопузые ещё штанов не заработали! Сани мехом устелены, в меху все и сидят! Кому погреться – ныряй в меховую полость! Стёпка тоже был бы недурён, кабы ни скула вспухшая... Одет справно, тулуп братнего поплоше, но тоже добротен. Сошьют брату шубу – Стёпке его тулуп достанется. Хотя Стёпка брата повыше, и тулуп ему ещё короче придётся. Ещё сегодня утром Стёпка печалился, что тулупом он бледноват, и Сосенке в красной шубке, глядишь, нерадостно будет с ним бегать... В какую шубу, интересно, наряжен её похожий на чёрта жених? Если в чёрную, сажей крашенную – так чем он, Стёпка, хуже? У него тулуп к празднику мелом белён! И мертвецкой мордой жених Стёпку не краше, хоть и велел батюшка Стёпке личико рукавицей прикрывать... Ну, собралось, наконец, семейство. Уселись в крепкие широкие сани, расшитыми полотенцами по бокам уложенные. В сани впряжена добрая тройка, коренным – Гнедко. По селу проехались с гиканьем и свистом: знай наших! На площадь храмовую выехали на всеобщее поглядение. Себя показать – других посмотреть. Повёл Степка глазами… посмотрел. Дядьки Пафнутия семейство залихватски из проулка вылетело. Тоже все разряжены, дуга в розанах-лентах. Герашки в санях не видать… а! вон, рядом с санками бежит, коней бережёт, шапкой набекрень подбитый глаз прячет, в поднятом вороте нос хоронит. В сани не посадили – видать, наказали... Так ведь и Стёпке батюшка велел почаще из полости выпрыгивать: нечего коней укатывать при такой роже! В другую сторону покосился Стёпка… вон они! Михайло с роднёй... Оба брата в санях… и хозяйка с ребятами… а рядом с хозяйкой шубка алая, личико белое, цветастый плат... И тоже вокруг всех разглядывает. Ненароком съехались близко – тут и встретился Стёпка с Сосенкой взглядом. И взгляд тот – оторвать никак нельзя было. Стёпка себе ещё дома обещал – при виде куколки не лупиться на неё. Незачем лупиться! Жених у ней! Так и выводил себе мысленно беленькое Сосёнкино личико рядом чёрным рогатым козлом... Но – обещать обещался – а не вышло. Тут же и уставился. То есть, виду-то старался не подавать, от грозных отцов таясь, шапкой прикрывшись. Лохматая баранья шапка кудерьём свисающим лицо завешивала, а сквозь кудерьё зорко и жадно высверкивали светлые Стёпкины глаза. И били калёными стрелами – прямо в Сосенкины, лазуритовые. Сосёнка тоже украдкой взглядывала. А когда сани разъехались, пару раз обернулась проворно. Со всех сторон съезжались сани на площадь при церкви. Место открытое, широкое, на высоком берегу, по-над вольной рекой... Белый снег быстро укатался полозьями: сперва в полоску, а там и в клетку... а, повременя – и вовсе крошевом-месивом. Лихо прокатывались сани, бойко бежали кони – кони гнедые-вороные, каурые, с расчесанными плетёными гривами, с яркими лентами, в бубенцах гремучих-звенячих. Дуги гнутые-резные, сани расписные, лёгкие-подрезные, широкие да развалистые... Люди весёлые, девки румяные, ребята прыткие... Вот уж радость очам, душе утеха! Смотрит Господь с небес высоких на детей своих одобрительно-ласково... В светлый праздник грех кручиниться! Стёпка и не кручинится. Так… грустит по-тихому. Потому как – грустно-то, грустно – а… весело! Потому как – Сосёнка из Михайловых саней оглядывается! Потому как – хоть не брезжит надежда, не плещет крылами лебедиными – а всё ж… где-нибудь - да есть! Весело на Святки – и ничего тут не попишешь! Ведь это поначалу сельский люд погордился-то! Проехался спесиво-чопорно, достаток напогляд выставил... Потом-то – позабыл пустое! Молодёжь из саней горохом высыпала, пёстрой рябью к реке скатилась! Разноцветной вьюгой закружились ленты ледяной круговерти на льду. Пошло катанье лихое, гулянье бесшабашное, смехи-хохоты... Откуда ни возьмись – появились вдруг салазки лёгкие и с уханьем-визгом с крутого берега покатились... Вмиг отладилась звонкая дорожка ледяная, и по той дорожке на ножках… а то на карачках… сидя-лёжа, плашмя, кувырком! – неважно! единым клубком – сорвалась со свистом целая лавина храбрых до одури ребят да девчонок. С размаху, ухарски – с обрыва на лёд, а там – стремительно по льду, и - чуть ни до супротивного берега! Во! как разгладили блестящую тонкую стрелку! Как скатились – разбежались, рассыпались ярким крошевом по белому полю! И - полетели бойкие тугие снежки! На буйную молодость почтенные отцы семейств, при конях-санях, с усмешкой поглядывали и головами покачивали...
4. Лепота
Вон и Сосёнка покинула отцов пригляд. Пожалел батюшка дочку в праздник печалить, отпустил порезвиться. Сосёнка от счастья себя не помнит! Раскинув руки, радостная мчится! Под белыми валенками снега не чует! Улыбка белоснежная семидневным месяцем, щёки двумя солнцами закатными, позади – с хлёстом, по воздуху – чёрным змеем коса летит. За косой – языком пламенным – алый косник вьётся. Вихрем в девичий шумный ворох ворвалась. Посмотрел на это Стёпка – и вдруг забыл про жениха. Забыл – и вроде и нет его... И тогда (когда забыл-то!) – ох! и раж внутри встрепенулся! Таким удалым себя почувствовал! – что весь бы хоровод сгрёб, узлом завязал бы – и к Сосёнкиным ногам так и ухнул со всей щедростью! Вмиг ловким-юрким стал, салазки спрятанные выпростал, кручёной витиеватой петлёй вихрем на них проехался, пред Сосёнкины очи предстал – гоголь гоголем! Очи Сосёнка подняла – и сразу сник гоголь... Сразу глаза Стёпкины просительно, осторожно глянули: «Поедем, а?». Другая девка была бы – и думать не стал: дёрнул за руку, в санки плюхнул и – с горы крутой, что буран степной! Нет! Не охальник Стёпка, и не срамник, парень скромный – но ведь весело же! Девкам – им тоже весело! В игре, в озорстве – худого нет, когда праздник... Нравится девкам – когда их ловко с гор катают! – это уж Стёпка понял! И прокатить Сосёнку – в мечтах исскулился весь! Вот и подал салазки – как барыне-сударыне-царице, склонившись-павши – мол, будь воля твоя! – а там и распахнуто-открыто, плечами разведя – вот! весь твой! Затаив дыханье, ждал – как? согласна ли? Сосёнка замерла слегка, постояла, поглядела на Стёпку внимательно – да и улыбнулась! У Стёпки на душе отлегло. Тут и думать было нечего – а скорей Сосёнку в санки усадить да рвануть с кручи береговой со всей удалью свистящей, так что брызги слёз из глаз, да сердце из груди! Рухнули вниз, прямо с откоса, точно ветром подхваченные! Всего было полно – визга-хохота, вихря снежного, личика нежного, огня в очах, заполошного дыханья…! Ох, вылаживал Стёпка саночный ход! Ох, выделывал кренделя-выверты! Ну, а как же?! Надо – чтоб у девчонки дух захватывало! Чтоб от восторга нутро наружу рвалось! Надо так – чтоб вроде как на волосок от смерти была – а Стёпка вдруг возьми да и выручи! А если тихо-мирно девчонку катать – так это она и без Стёпки покатается... На что тогда он ей? В первый раз съехав в кручи – едва отдышалась Сосёнка. Широко распахнутые глаза – в синих брызгах, сама вся в снегу запорошена. Еле-еле стиснутые пальцы разжала – так со страху вцепилась в Стёпкин тулуп. Хочет слово молвить – а ни звука не может... А потом – ничего. Засмеялась – и осмелела. Страшно – а хочется! И сама стала Стёпку подбадривать: «Давай ещё!». Стёпку уговаривать не надо. Он звончей прежнего салазки с горы спустил. Так – что у Сосёнки визг со всхлипом перемешались, и чуть ни вжалась во Стёпкин тулуп. И опять – хохочет-заливается: «Здорово! Ещё!».- «Ещё – так ещё!». С третьего раза – счёт потеряли. Бегом – вверх, с разлёту вниз! Жар и холод! Рвётся дыхание, голова кругом идёт! Снег от санок – бурунами пенными летит! «Нравится?!» - «Нравится!».- «Нравлюсь?!». – «Нравишься!»... Тут Стёпка вдруг санки остановил. На смеющуюся счастливую Сосёнку в упор уставился. «Слышь? Сосенка…, - помолчав, проговорил, - а верно это? – что жених у тебя?». Сосёнка глазами хлопнула и смеяться перестала. Задумалась на миг. Потом кивнула: «Да…». Стёпка помрачнел. Прикусил губу. В сторону сощурился. Подождал. Сердце унял. Ком сглотнул. Выдержал тон... Когда на Сосенку вновь взглянул – холодная сталь в глазах блестела. Спросил не спеша, с достоинством: «А чего со мной катаешься?». Сосёнка поникла чуток. Ресницы поколыхались, плечи зябко поёжились. Хлюпнув носом, ответила тихо, растерянно: «Да я… забыла чего-то…». И быстро, искоса – глянула на Стёпку. Глянула – и вдруг, не удержавшись, – как улыбнётся! Стёпку точно обухом шибануло... То ль стоять ему – то ли падать... То ль плакать – то ль смеяться... Решил он покуда с этим делом не торопиться... Потому как – помереть успеется, а пока - поговорить стоит... Что это за жених такой – о котором, с кручи катаясь, не помнят? Так и спросил: «Кто ж он? – жених-то твой?». Сосёнка, задумчиво вдаль прищурившись, пробормотала нехотя: «Из Граженских… вроде, зажиточная семья, и с батюшкой свои… в купцы выходят…». – «Ишь… в купцы…,- неприязненно скривился Стёпка и, окинув взглядом девку, усмехнулся, - купчихой будешь?». Сосёнка всхлипнула. «Нравится – жених-то?», - продолжал допытываться Стёпка. Девка плечами пожала. «Ну, так – чего? – напористее потребовал Стёпка, - ты уж отвечай: либо люб, либо нет... Чего думать-то?». Сосёнка вдруг подняла на парня доверчивые глаза. Проговорила, точно оправдываясь: «Да откуда ж я знаю? Я ж его ни разу не видала…». Медленным широким движением Стёпка заломил шапку и сдвинул на ухо... Озадачено лоб потёр. Воззрился на девку изумлённо – и расплылся ответной растерянной улыбка: «Вон что…». Сразу так смешно сделалось… что не выдержал – расхохотался, да и хлестнул со смаком по валенку верёвкой от санок. С оттяжкой, прицельно хлестнул – сладостно! Тряхнув головой – с шапки снег сбил. Полетел снежок с сухим шелестом во все стороны... Огляделся Стёпка, покрутил головой – и сразу в глаза сугробы окрестные тыщей искр – блескучих, многоцветных – ударили... Снег вспыхнул цветной гранёной крошкой, отражаясь от зимнего солнца, посылая ответно нестерпимые лучи, так что очам больно... Ну, и пусть – больно! Зато – красотища кругом какая! Это ж какая в мире благость ненаглядная! Какая ж лепота!
5. Псалмы
Рядом сурово снежок скрипнул. Саночный полоз прохрустел. Обернулись Стёпка с Сосёнкой – в двух шагах стоит, насупившись, Герашка, исподлобья бычком упрямым смотрит. В рукавице сжимает да зло покручивает - вервие. От санок. Сосёнку катать... Сердит Герашка – а Стёпка и сердиться-то на него не может. Потому как – невозможно согнать с лица счастливую улыбку. Растянулась, вишь, во весь рот – и нет с ней никакого сладу. Цветёт себе, что розан алый – и не сжимаются кулаки, не напрягаются плечи, не заводится душа гневом праведным: мол, опять ты на нашей улице?! Так, с улыбкой, молчком - подтолкнул Стёпка Сосёнку себе в салазки и, враз оттолкнувшись, вспрыгнул следом… уже сквозь свистящий снежный поток Герашке рукавицей махнул. Герашка не отстаёт. Тут же вслед – обрушил с откоса лихие санки. Слёту, вёртким изгибом – объехал Сосёнку, из снегового вихря крикнул во всю глотку: «Со мной катайся! Гляди – как!». И пошёл выделываться-выкручиваться среди ледовых уступов. Чиркают санки полозьями, проносятся по воздуху, а обратно, в снег, опускаются плавно да мягко, по-кошачьи. Ловок, что говорить! Ловок-то, ловок – да я тебя не плоше! Щас! – покажу те блеск алмазный! Внизу, на льду речном, далеко Герашка пронёсся, удалью хвалясь. А Стёпка, уже наизлёте, санками круто в сторону вильнул, сугроб боднул, Сосёнку перевернул. Ну, во-первых, чтоб самому с Сосёнкой перевернуться. Во-вторых, торопливо девку подхватив, скорей наверх её потащил – чтоб Герашка встрять не успел. «Гляди! – жарко пообещал девке, - вот уж проедемся! Только не бойся!». И проехались... Прыгали санки по мёрзлым буграм, что соболь за белкой. Ухались с намёрзших гребней, как рысь на косулю. В мути снеговой петли вывёртывали, точно в цель приземляясь. Не кренясь, стрелой проносясь, махом ледяные вершины пересчитывали. Снеговой вихрь ударял в лицо и вышибал слёзы. А уши пронзал свист ветра да истошный Сосёнкин визг. Уже внизу, аж у другого берега, надолго задержались: насмерть перепуганная, обмякшая Сосёнка расслабленно всхлипывала у него на плече. Виновато и участливо бормотал Стёпка успокоительные слова, отряхивал с алой шубки снег, утешал-оглаживал, сбросив рукавицы и, волнуясь, всё смотрел, как дрожат и слабо роняют жалобные вздохи приоткрытые маковые губы. Как вглотнул эти губы в свои – и сам не понял. Уста в уста впились жадно – точно жаждали-алкали да вдруг к струе припали... Пошла горячая струя разноситься от жарких уст в грудь, к сердцу пылающему, к рукам цепким, к ногам бойким… да что – к ногам..? к ногам – ладно бы... Хорошо – тулуп неприступ, да и шуба груба... А главное - снег бел-чист, и река широка, взору раздолье. Ахнула Сосёнка, от Стёпки дёрнувшись. Поднял Стёпка глаза: стоит на далёком, на высоком, на крутом берегу хмур-гневлив Сосёнкин батюшка и кнутом грозится. Дальше – что ж? Потекли вдвоём, не особо торопливо, грустно переглядываясь, по следу своему санному, по полю катаному – назад, через ширь речную. Медленно, обойдя с покатой стороны, забрались на откос. Предстали пред очи родительские. Глянул отец мрачной неясытью, кнут в руке так и заходил ходуном, сквозь зубы процедилось шипенье досадливое. Однако ж – от расправы над Стёпкой Михайлов брат воздержался: тут же, рядом с Михайлой, стоял Стёпкин родный батюшка и брови супил, и – стало быть – сына бить - ему, а не соседу. «Ох…,- с тоской подумал Стёпка,- а ну! как Сосёнке достанется?! Ишь… так и дрожит кнутовище в сердитых пальцах!». Только – не спорят с отцами. Потому – как зыркнул на дочку Михайлов брат – дочка робкой цыпочкой к нему подсеменила. Глазки опустимши – пред ним стала. Отцовы глаза трескучим морозом по девке щёлкнули. Ох, страшен, видать, в гневе! Только и сумел Стёпка – что проблеять жалобно: «Не тронь, дядько! Всё – я виноват…». Дядька и не взглянул. Хвать дочку за рукав – и к дому потащил. И – понятно – оттуда больше не выпустит... Проводил Стёпка зазнобу убитым взглядом – и простился. - Прости-прощай, краля ненаглядная,- сказал себе. - Не будет мне больше ни Святок ярких, ни дней весёлых, ни какой-никакой на свете радости... Отцова крепкого кнута как не заметил, на двор поплёлся, понурясь. Туда-сюда во дворе потыкался - отец взашей в избу загнал, в руки Псалтирь вручил, урок дал: «От сих до сих прочтёшь…», а сам из избы вон. Напоследок только пригрозил: «Смотри у меня!». Почитал Степка… не так – чтобы совсем нет… чтец он так себе, но буквы складывает… кое-как одну Славу одолел... А как одолел – вдруг осенило его: наказал отец Псалтирь читать! – а в избе-то сидеть – не наказывал! Чего ему в избе читать? Можно и во дворе! Сказано – сделано! Закутался Стёпка подобрей, раз не бегать ему, а на месте толочься – и с книгой раскрытой во двор вышел. Принялся читать – начал ногами притоптывать. Потопал-потопал – шагами пошагал. Сперва налево. Потом направо. Потом прямо. Потом до ворот. Дошёл до ворот – а там и за ворота... Ну, а как вышел за ворота – чего ещё пяток шагов не сделать? Улицу-то пересечь... До Михайлова двора... Там – два окошка на улицу глядят... Ходит Стёпка под Михайловыми окнами и Псалтирь вслух читает-старается. Надо складней читать! – а ну! как Сосёнка услышит?! Знал бы, что так придётся – загодя старательней бы учился! Соломки бы подстелил! А то – приходится теперь: веди, аз, добро, есть... А как бы мог! – кабы трудился сноровистей... Послушаешь, как попович читает… особо, шестопсалмие… уж так прискорбно… уж так небесно-туманно… грустной речкой речь льётся… печалью сердце наполняет… сразу - так жаль утраченного Рая! – что слёзы просятся из очей! Вот бы так читать! Да разве по слогам слезу выжмешь…? Думает – а сам всё твердит: «…да радуется земля, да веселятся острови мнози…», всё топчется, с ноги на ногу переступает… всё поскрипывает подшитыми валенками, похлопывает то одной рукавицей, то другой – по бокам, по плечам, чтоб потеплей было да порадостней… потому как – радость – она не умирает! Отойти может, с очей сокрыться, совсем человека покинуть – а вот умереть – никогда! Только с тобой вместе! Потому – всегда ждёт её человек! Даже – когда вроде бы – и ждать нечего... Ждал-ждал Стёпка – и дождался. Слабо шевельнулась занавеска, тускло блёстнула лампадка, едва слышно, сквозь мёрзлое оконце донеслось до Стёпки приблизившееся чтение: «Господь воцарися, в лепоту облечеся …». «Вот как, - мелькнуло в голове, - и ей, значит, урок дали…». Стал Стёпка под самое окно. Воровато оглянувшись (нет ли бдительных), вспрыгнул на завалинку, быстро Псалтырь пролистал, отыскивая нужное место. Почти прижавшись ртом к стеклу леденелому, громко-складно, как попович, прочитал: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя…». И в ответ девичий голос к нему подстроился: «Возмут реки сотрения своя, от гласов вод многих…». А Стёпка точней приладился: «Дивны высоты морския, дивен в высоких Господь…». И вдруг оборвался голос. Враз поднял парень взор от строк – сквозь оконную наледь туманится личико Сосёнкино, и глядит-вперяется-светится взгляд, словно дивная волна морская... Чуть приоткрылась заиндевевшая створка на самом верху окна, вырвалось оттуда на мороз горячее девичье дыхание, вслед на ним горестные слова вылетели, голосом дрогнувшим оброненные: «Не пустит меня батюшка... Не увидимся больше…». «Так мы ж – видимся! – задорно моргнул Стёпка, подтянувшись к самой створке, и утешил ласково, - не печалься! Может, ещё простит да выпустит…?». Покачала Сосёнка повязанной платочком головой, грустно выдохнула: «Увезёт меня завтра батюшка. Довольно, говорит, погостили. Дядька Михайла отговаривал сперва, а теперь кивает. Хозяйство на работника осталось без пригляду. Да со мной тут ещё заботы…». Стёпка помрачнел, уронил голову. А потом головой тряхнул – и опять улыбнулся: «Не кручинься! А ну! – раздумает ехать?! А ну! – метель взыграется?! А ну! уговорить сумеешь?! Поди, поможет Господь?! Просись завтра на литургию остаться! Скажи, напоследок…! помолимся… а там и ещё что придумаем! – и, снизив голос, добавил осторожно, - мне ведь – даже на службе поглядеть на тебя – и то радость…». Сосёнка порывисто схватилась руками за створку. Из маковых губ вырвалось: «Не хочу уезжать я! Стёпка! Как здорово мы с тобой на санках катались! Как весело с тобой было! Неужто никогда больше не повторится?!». У Стёпки от слов таких внутри захолонуло. Захотелось кинуться куда-нибудь… да хоть куда! Вон - под кнут соседский… авось смилуется… коням под копыта… возьмут вдруг да встанут-упрутся, с места не сдвинутся… слыхал про такое Стёпка… на тех местах потом храмы воздвигали… а Стёпке – всего и надо-то – чтоб девчонку не увозили! Вместо кнутов и копыт – кинулся Степка всей грудью к ледяной створке, пылким дыханьем обжёг, жаркой речью опалил: «Слышь…? Сосенка зелёная! текучая смола золотая! живица душистая, солнце-цвет! Не увезёт тебя батюшка – вот те слово моё! Сделаю… сотворю чего… чтоб осталась! Вот увидишь!». И ведь сам верил в тот миг, что сотворит… сделает! И сам… и Сосёнка – тоже поверила! Дрогнуло за тусклой наледью печальное лицо, в глазах искры пробежались, уста взволнованно приоткрылись! Выплеснулся вздох: «Сделаешь?!». И не стала спрашивать – как… поскольку, и так ясно: если человек так обещает – то… сделает! А уж – как? – знает...
6. Снег
Как? – Стёпка всю ночь голову ломал. Всё сено на полатях изъелозил, братьев-сестёр истолкал, жбан воды чрез себя процедил... Смутный, настигший, наконец, сон отвёл ответ. Видения всякие явью мнились. То чудилось, что заклинило Михайле ворота, замок на них насажен этакий-невиданый, затейливый-загадочный, что никак невозможно отомкнуть его; ворота отворив - лошадей вывести! То мнилось – из села их - нетути дорог! Все, какие до сей поры были – вдруг ни с того, ни с сего, в одну ночь – крюками закрутились и, выбежав с одной стороны села, забегают с другой... И уж совсем напоследок, когда скупо забрезжило в оконце – приснилось и вовсе что-то несусветное: вроде, чёрный вран над селом кругами летает и грязными словами ругается вовсе не по-птичьи. Пригляделся Стёпка – э! не вран это никакой, а жених Граженский! Ишь! Разлетался, зверюга! От! Я тебе! Пустил Стёпка в жениха калёную-перёную стрелу – и сбил его наземь. Грянулся ворон недобитый, дёргается, пробует на крыло стать – не тут-то было! Кинулся Стёпка сверху, придавил животом - хвать! за тощую щею – и с торжеством собрался, было, на Михайлов двор представить: вот, мол, полюбуйся, соседушко, с кем породниться мыслишь! Только не вышло яркого шествия… проснулся Стёпка. Проснулся – чуть с полатей не рухнул! Рассвело! А ну! уедет Сосёнкин батюшка! Господи! Спаси-помилуй! Как попало – руки в рукава… тулуп на плечи… ноги в валенки юркнули. С полатей ссыпался – кубарем из избы выкатился. На лету пятернёй патлы расчесал и пригоршней снега умылся. Выбросился за ворота... Ожидал сани впряжённые увидать… лошадку нетерпеливую под дугой… сборы, хлопоты, проводы… а то – и Сосёнку… хоть свидеться на прощанье… не сдержал Стёпка слова – а поверила девчонка! Значит – виноват пред ней… совестно в глаза глянуть – да только всё равно хочется... Постоял Стёпка в воротах, зенки продирая... Всё никак не мог понять, что ж это за притча такая... Чиста-бела улица, сколько глаз хватает... Сыпет-посыпает её частый снежок... Что налево, что направо, что прямо... Ни саней, ни лошадок… ни следов, ни полозьев... Крепко заперты Михайловы ворота, и налип на них поверху снежный гребень. Снегом полнятся сугробы вокруг, хмарь тусклая с небес нависла. Вчерашний яркий морозный день - влажным, серым сменился, блёклой тучей закрылся... И ничего в нём не ясно... Где – гости-то Михайловские? Может – и правда – чудо свершилось, и по какой-то причине задержался у братца Сосёнкин батюшка? Передумал, там, занемог… а то – и к обедне уговорили…? Стёпка даже не решался такому счастью поверить. Как же разузнать чего? К Михайле на двор сунуться? Походил Стёпка вдоль Михайлова забора. Щелей никаких. Двурядный горбыль. На забор цапанулся вскарабкаться – пёс забрехал. Погодя – стукнула дверь, под тяжёлой поступью снег проскрипел, калитка отворилась. В снежной раме её обрисовался сердитый Михайла. Рявкнул свирепо: «Чего под забором шныряешь? Вот я тебе!». Недосуг было Стёпке пугаться – скорей бы про племяшку Сосёнку спросить! Тут ли они с батюшкой – или не тут? Дерзнул, спросил. С низким поклоном и словом учёным... Даже из псалтири чего-то вкрутил... Глянул Михайло исподлобья, выдыхнул клокочущую струю пара и в угрюмом молчании хлопнул калиткой. Ишь! Знаться не хочет... Обиделся Стёпка. Не то – чтобы совсем обиделся… не до обид здесь… скулит сердце – а всё остальное по боку... Всё пустое, всё долой да мимо! Одно лишь печёт: невтерпеж! вынь да положь! Сосёнку-девчонку весёлую, синеглазую! И любой ценой узнать про неё надобно! Принялся Стёпка узнавать. Сунулся к одному, другому, третьему. С дальнего прицелу, осторожно, не напрямую. Сосёнку вопросами не поминал – поминал брата-гостя Михайлова. К родному батюшке окольно подъехал. Братца попытал. К матушке приластился. Всех соседей по очереди обежал. И нарвался под конец на Герашку. Хотел сперва обойти его. Разбирайся с ним! Свои заботы торопят! А потом подумал-подумал… и подошёл. Его спросил, не таясь. Чего таиться? Не дурак, поди, Герашка: ещё, вон, нос не выправился... «Слышь…? Герашка! Увезли Сосёнку – али нет?». Герашка нахмурился, досадливо взгляд в сторону метнулся, сердито дёрнулся рот: «А… с тебя - тоже толку чуть…?». Помолчав, угрюмо добавил: «Думал – хоть ты знаешь... Не устерёг, значит? Чего ж ты? Ворота в ворота…». От слов Герашкиных почувствовал Стёпка такой стыд, такую боль – что, кажется, помереть легче... Чтоб не так душу жгло – через силу бормотнул первое, что в голову пришло: «Ты – чего? – знал, что ехать собрались? Откуда?». – «От чуда-юда!»,- вскинулся Герашка, и опять голова сникла. Потухшим голосом устало обронил: «Вечером батя с Михайлой потолковали… а я рядом прошёлся…». Ребятки растерянно топтались посередь улицы. Неведение терзало. Но – оно же и вселяло зыбкую надежду. Упрям и строг Михайло. Если что решил – так решил, от своего не отступится. Ежели братец в эту породу – кто ж его уломать сможет? А всё ж... А – всё же – не было на заре лошадки у ворот! И снег ни в миг усыплет след: какое-никакое время надобно! Герашка пошмыгал носом: «Ладно… если задержались – так сегодня уж в путь не двинутся... Так что – прощевай пока… мне недосуг. Батя на мельницу за помолом посылает. Нынче наш черёд». Герашка сухо кивнул Стёпке и, не оглядываясь, пошагал к своим воротам. Вскоре ворота раскрылись, и Герашка, почмокивая да понукивая, выехал из них, привстав в санях, запряжённых пегою кобылой. Он с достоинством проследовал мимо истуканом стоящего, а потому изрядно заснеженного Стёпки, и, приостановив лошадь, буднично предложил: «Ну, чего? Садись – подвезу до двора. По пути же…». Стёпка вздрогнул, отряхнулся от снега – и не отказался... Чего, в самом деле, долго помнить…? Ну, побились… ну, случается… может, ещё случится… но сейчас-то – замиренье. А значит – пустое прочь! Забыли и отбросили. Сани были щедро завалены соломой. Из-за снега. На обратном пути – мешки укрыть. А пока – самим проехаться - любо, дорого, мягко, вольготно. Стёпка прокатился в Герашкиных санях до своих ворот, лениво перекидываясь с ним редкими словами - и бормотнув на прощанье невнятную благодарность, спрыгнул в снег. Оба – и Герашка с саней, и спешившийся Стёпка – внимательно вгляделись в непроницаемые Михайловы окна. Поизучали заснеженные ворота и забор. После чего со вздохом отвели взор. Герашка, не спеша, поскользил дальше, а Стёпка печально ткнулся к себе во двор. Во дворе батя Гнедка запрягал. Собирались ещё выехать на люди. Второй Святошный день. День хоть и неяркий – зато потеплело. Батюшка тихо-мирно посвистывал, в духе пребываючи. Гнедка похлопывал, оглаживал. Морковину сунул по щедрости в мягкие чёрные губы. Стёпку увидал, мигнул весело: «Ааа… прозевал пирог? Вон, иди… может, даст мать, ежели осталось чего…». Не по себе Стёпке было – а всё ж про пирог он мимо ушей не пропустил. Только вник в отцовы слова – сразу внутри с голоду засосало. Есть хотелось. Даже шагнул, было, к избе... Даже – в мыслях-то – прямо-таки, укусил пирог за румяный бок! А что? И укусил бы – шагни он шустрей и не задержись на пороге... И тогда бы... Страшно подумать – что было бы тогда! Вот ведь как человек устроен... Думает – к печке подсесть, ложкой загрести... И не знает, что – вот уже! в сей миг! - далеко в вышине, в мутном пасмурном небе – горит-разгорается, пронзая тучи - наливается дрожащим светом, мерцает серебряными всполыхами, всё ярче мечет игольчатые лучи - холодная и огромная - ослепительная звезда… Что сверкает она над Божьим миром, не прячась, не таясь, у всех на виду… и нет ей у людей никакого объяснения! Кинется в смятении народ, на землю попадает… завопит истошно, захрипит сдавлено, взвизгнет очумело… а может, спохватится… вспомнит о промысле Божьим… умилится да взмолится... Да только не поймёт – что это за знамение такое, и какой сокрыт здесь смысл... Лишь почувствует силу – светлую, тягучую, непрекословную… - какая пронзила Стёпку – едва ненароком глаза поднял. Поднял глаза – и сердце точно вылетело из груди - стало звёздным лучом. И противиться этому было немыслимо. Только и выжал Стёпка из сдавленного горла: стон – не стон, крик – не крик…: «Батю…». Отец глаза на него испугано вытаращил, растерялся… потом вверх глянул – и обмер…: «Святый Боже!», - и осел в снег. А Стёпка – не осел. И не упал, и не ослаб вовсе… потому что – понял вдруг: идти ему надобно! Скорей, шустрей идти! Идти – поторапливаться! Да что – поторапливаться?! – бегом бежать! Вот как вчера с горы катались – вот так! лететь! чтоб в ушах свистело! Так – зовёт она! переливается жемчужно, сыплет льдистые искры и тонким, надрывным звоном - зовёт... Всматриваясь, не отрывая глаз от звезды той небесной – прошептал Стёпка только: «Дозволь, батюшко…». И, более не видя, не слыша ничего – впрыгнул в запряжённые сани, хлестнул Гнедка по атласному крупу – и точно крылья выросли у коня! Сам порысил Гнедко. Стёпка и не правил. Стёпка на звезду смотрел. Краем глаза видел проносящиеся назад снежные волны полей, стремительно наступающий сизый лес – не зубчатый, как летом, а снегом сглаженный. Над ним! – над лесом стояла в безмолвной вышине острая и колкая, слепящая звезда – и тянула куда-то Стёпку радужно вспыхивающими лучами... Мелькнули Герашкины сани возле мельницы. Стёпка даже кликать-указывать не стал: и так всем всё видно, и так Герашке ясно – звезда в небе! По движению саней понял Стёпка про Герашку... Понял – и его! - подхватила и несёт по снегам светлая могучая сила – звезда в небе! Понял, что оба они – двое парнишек молодых – всё на свете отринув – стремглав летят на белый манящий свет, и нельзя тому возражать, нельзя противиться, потому что – звезда в небе! Крепче кобылы был Гнедко. Скоро поравнялся с Герашкой Стёпка. Далеко за мельницей, на покатом спуске друг за дружкой на речной лёд скатились. По реке понеслись неистовым скоком. Куда? Зачем? Неважно! Крылья! – у лошадей, у людей… всё прочее – пустое... Ветер гнал в лицо снежные хлопья, застилая мир вокруг... Сквозное, открытое место! Позёмка вздыбилась, взвилась, веретеном пошла. Засвистела, завизжала! Всё круче и круче забирает... Всё хлёстче сечёт... Всё щедрей валит… Небо тёмное, густое, ни просвета в тучах... Ничего не видать в тучах! Ничего и быть не может - в тучах! Может быть там сейчас – только звезда! Враз захрапел вырвавшийся вперёд Гнедко. Дёрнуло в сторону. Со скрежетом развернулись полозья. Тряхнуло сани на невесть откуда взявшихся ледяных буграх. Ахнул Стёпка, глаза вылупил… Чудное происходит! Взвизгивают полозья по жёсткой гладкой наледи... А с чего ей быть тут – наледи?! А это - бурун взбунтовался. Противится ж морозу-то! Вот он и взыгрался - так, что в гневном норове – возьми да выплеснись из прежнего своего удела! Возьми – да прокатись поверху льда заснеженного, пронесись клокочущей волной по наезженной санями дороге, по устойчивому пути! Старики рассказывали, случается с ним. Может, раз в сто лет – а случается... Вот – как раз – и случилось. Нынче. Видать, пред зарёй. Когда мороз с тёплыми струями воздушными ни на жизнь, а насмерть боролись. Побеждают, похоже, ветры полуденные, ан – успел мороз подкузьмить! Подсидел, подшутил над ребятками... Стёпка-то вывернулся, выправил сани. Сквозь оскаленные зубы провизжал позади летевшему Герашке: «Правей бери!». Но – подвела Герашку пугливая глупая кобыла. Скакнула заполошно, вывернулись сани, лопнули гужи – во всего размаху швырнуло Герашку в обледенелую с зеркально гладкими краями чашу полыньи, намытой буруном. Ужом завился Герашка, вцарапываясь в скользкие ледяные окатыши, распластываясь по наклонной глади, подвывая от ужаса... Тщетно растопыривались-упирались руки-ноги в круто обрывающиеся вниз блестящие края льдины. Не удерживала Герашку ловкость бывалая: проваливался он с каждым мигом всё ниже, ниже… и – оборвался... Купанулась в свинцовую стынь льняная голова без шапки… раз… и другой… тянет вниз тулуп намокающий… руки всё за боковины крутые хватаются... Кабы ни Стёпка – хватай, не хватай... Стёпка – он не сразу сообразил… заметался, было… но выправился, догадался не в полынью следом кидаться, а к саням, где на самом дне под соломой про запас всегда лежала скрученная крепкая верёвка… привязал её одним концом к кушаку, другим – к хомуту Гнедкову, вывернул оглоблю из саней – и с оглоблей наперевес скользнул к купели бурунной. Не подвела добрая оглобля – чётко легла на высокие бугры намытого льда по обе стороны чаши. Над самой полыньёй хлопнулся Стёпка животом на оглоблю, вцепился в неё одной рукой – а другой потянулся изо всей мочи. И дотянулся: ухватил Герашку за льняные патлы... Герашка не прозевал – изловчившись, впился стылыми пальцами в Стёпкину руку. Стёпка тут же за руку его перехватил – и, что было голосу, Гнедку гаркнул: «Нооо!!!». Послушался славный коняга… потянул Стёпку – всего, как есть: растопырившегося над чашей, упирающегося в оглоблю грудью, в край ледянины ногами. Потянул Стёпку – Стёпка Герашку – а Герашка… Герашка одной-то рукой – правильно! в Стёпкину руку вцепился, из последних сил не отпускает… а вот другой рукой – как ухватился со страху за что-то в глубине - так и держит... Старается Гнедко, орёт на него Стёпка, тащит Герашку… и чувствует – совсем сомлел парень… уж больно неловок… куль кулём… карабкается на оглоблю животом… а рукой себе не поможет… внизу, в глубине чаши рука… неживая, вроде... Но – тянет здоровый конь! Выполз Стёпка на ровное место, откуда вниз не съедешь. Сам упёрся – сильней стал дружка подтягивать. И вытянул вслед за собой Герашку – за одну руку. А другой рукой, застывшими пальцами, впился Герашка в толстую чёрную вервь с красным переплётом, с красным же мокрым лоскутом на конце. Стёпка не сразу и понял, что это... А потом – понял... Ахнув, рванулся назад, к полынье. Вспомнил: привязан за кушак – Гнедку заорал: «Сдай назад!». Эх! Наградил Господь справной лошадью! Потому как – если б не Гнедко... И второй раз выручил, дружище! Вдругорядь вытащил Стёпку из коварной ледяной чаши... И Стёпку вытащил - и Сосенку.
7. Цветы
То, что Сосенка ещё живая – ребятки поняли, когда на оглоблю её подтянули животом поперёк. Пошла выхлёстывать изнутри вода. Вперемежку с водой - хрипом дыхание прорезалось. И с хрипом этим разжался слегка кулак, стиснувший Стёпкино сердце, лишь увидал он - схватившийся за оглоблю, напрягшийся над глубиной - Сосёнкину голову в знакомом цветастом платке, вытянутую за косу из-подо льда. Она колыхалась, как поплавок, и личико, и открытые глаза были похожи на голубовато-прозрачные наледи вокруг огромной воронки водокрутова логова... Из того логова доставал Сосёнку Стёпка – как куклу тряпичную: неподвижную, потустороннюю… не так, как Герашку прыткого. Герашка – едва в себя пришёл – сразу живчиком закрутился. Вместе со Стёпкой они Сосёнку из полыньи извлёкли. Бегом поймали кобылу – и в сани Стёпкины её – Гнедку в пристяжные. Стёпка - что было сил - кнутом щёлкнул, свистнул. Понеслись сани. Уже в санях Стёпка с Герашкой из Сосёнки остатнюю воду выжали. Потрудились: и Сосёнку растирая, и Сосёнкину алую шубку выкручивая - воду из неё, из шубки - сколько удалось – прямо на девке! И щедро соломы под неё понапихали. Тут же Герашка, сбросив свой тулуп - ногами потоптал его – и, попоной и соломой обмотавшись, на себя опять надел. Стёпка завалил обоих оставшейся соломой и сам к ним прижался: не намного – а всё будет им теплее. Сосёнка постепенно очнулась… смутно взглянула на летящие белые берега, на хрипящих бешеных лошадей... Как только глаза опять синими стали и осмысленными – посмотрела жалобно на ребят… то на Стёпку, то на Герашку... Ребятки глаза и отвели. Сосёнка сдавленно хрюкнула – и заревела. Тут у Стёпки отлегло на душе. Раз ревёт – значит, жива. Сосёнку не успокаивали. Пусть ревёт. Это доброе дело – когда дочка по отцу голосит. Реви громче! И теплее станет, и воды поуменьшится. Ревела девка до самого села. До Стёпкиной избы. До Михайловых ворот. Загремел Стёпка сходу Михайле в ворота: «Беда, дядько Михайло!», а сани завернул сходу в свои, родные... Где там ждать, пока Михайло откроет?! Скорей в тепло! Скорей согреть! Подхватили ребятки с двух сторон Сосёнку, на крыльцо вбежали, сквозь сени пролетели – в избу ввалились. Матушка ахнула, обернувшись... Тут же батюшка пришёлся – только руки растопырил... «Спаси, батюшка! Помоги, матушка! – с разбегу выпалил Стёпка, - Михайлов брат в полынье потоп!». Батюшка тут сразу встряхнулся, быстро в дело вник. Поспрашал Стёпку коротко. Уразумел, как, что... В двери выскочил – мужиков поднимать. А матушка – скорей сестриц Стёпкиных со двора кликнула - приказала баню топить... А сама в печку дров подкинула, заставила Герашку с Сосёнкой мокрое сбросить. Для чего Сосёнку за печку отвела. Тут же давай девку салом тереть. А Стёпка Герашку. Потом обоих укутали в овчину, да в холстину, да на печку уложили (одного - головой влево, другого – вправо), да рухлядью завалили, да молока горячего, благо к случаю оказалось, налили. Да квашни матушка тут же на сковороду шмякнула. Быстро блин за блином давай выкидывать. И Сосёнке. И Герашке. И Стёпке. И – ничего. Обошлось. Ну, не совсем, конечно, всё гладко сошло. Не сразу выправилось. И пластом потом полежал Герашка. И в жару ещё пометалась Сосёнка. Но – жива! Вот что чудо-то! Жива осталась! Бог миловал! Тогда, едва привезли её ребятки, батюшка Стёпкин и выбежавший на Стёпкин стук Михайла мужиков кликнули, багры взяли, верёвок да шестов подлинней... Дотемна всё полынью бередили... А – только – впустую. Видно, течением утащило Сосёнкиного отца. Может, голову ударил... Уж потом – как ожила и отплакалась Сосёнка – рассказала она, почему рано батюшка уехал, да поздно приехал. Почему в заверть попал аккурат пред тем, как Герашка туда же ухнулся. Затемно ещё собрался Сосёнкин батюшка. С братом простился – и слушать ничего не стал. А уж как Михайла его уговаривал, мол, не зги не видать, и снегопад ещё... Крепко тогда Михайла на ребят рассердился. Из-за прыткости их молодецкой, братец, с которым столько не видались, не загостился. Со двора торопится, в мозглую ночь лошадь гонит. Что и говорить – рановато тронулся брат. А только - не сразу. Всё, говорит, устроил я, как задумывал: и службу отстоял, и причастился, и родню повидал, а только не успел навестить на сельском нашем кладбище стариков-родителей покойных, да пять лет назад умершую красавицу-жену любимую, Сосёнкину матушку. А без этого, сказал, отсель я не уеду – хоть заодно, хоть по пути, хоть сделав крюк – а наведаюсь. Так и сделал. Завернули батюшка с дочкой на кладбище. Пока среди снега занесённые могилки отыскали, пока помянули, пока помолились, погрустили, поплакали... Батюшка, над холмиком матушки Сосёнкиной, постоял, понурясь – да и выдохни вдруг: «Жди, Алёна!». И чего сказал? Это он часто, временами, говаривал... Как найдёт тоска – так он и обронит порой… этак вот… жди, мол… а то ещё жарчей: скорей бы свидеться! Батюшка – он с тех самых пор – как матушку схоронил – и весел-то толком не был... И тут тоже... Уж рассвело… и ехать пора… уж даже дочка за рукав тянет – а он – всё нейдёт… всё не оторвётся… от могилы не отходит… когда ещё, говорит, другой раз окажемся... Когда всё ж тронулись – путь не в путь был. И снег повалил чаще… и поторапливаться следовало… и батюшка – вроде как не отошёл… при матушке остался... И вожжи в руках невпопад, и санный ход неровен... А потом что было – Сосёнка и не поняла толком... Как в полынье барахталась – точно память обрубило. Было… было что-то… а – словно смазало сознание. Как во сне. Вишь, как бывает... Михайлова семья – уж как Стёпкину благодарила! – а Сосёнку к себе забрала. Сразу из бани. А Герашку - свои. Оттуда же. Жалко было Стёпке Сосёнку отпускать. Но – понимал: Михайла девке дядя родной, погибшего отца брат, у них и горе общее, а он-то, Стёпка – никто ей, и негоже ему на чужое замахиваться. Отпустил он Сосёнку, и до самых ворот проводил её с дядей, и у самых ворот постоял ещё. Потоптался, попереминался, не спеша. И ещё подумал, что вот, мол… и потеря великая, и горе нешуточное, и жаль Сосёнку, что теперь без батюшки да без матушки, совсем сиротка... Всё было у Стёпки: и сочувствие, и понимание, и помочь желание. А вот тревоги - не было. Сердце согревала блеснувшая Стёпке в это утро небесная звезда. И от звезды той – Стёпка верил… да нет! просто – знал! что всё на этом свете сложится - и у него, и у всех людей на свете – так, как должно... Глянула звезда на мир – и так тому и быть! В суете приключившейся – про звезду вроде как забыли... А потом, оказалось – видели её многие. И мужики у церкви. И мальчишки на горке. И бабы у колодца. И дьякон церковный. И священник. Все на ту звезду дивовались. А только не всем она звездою мнилась. Потому как – на том сошлись - что не по грехам им, людинам, знаки небесные. То отблеском солнца её считали. То сияньем полуночным, редкостным в сих местах явлением. А то и – маревом обманным, чудным наваждением. Отец – и тот усомнился, была ль она – звезда? И только Стёпка с Герашкой знали наверняка – что звезда та – зажглась на небе великою Божьей милостью, и что было ей в мире земном назначение и важное, и весомое… а вот что за назначение, что за смысл сокрытый – не людского ума дело. Людскому уму – и того хватит – что красивую и славную девчонку Сосёнку из смерти выхватили, в закрут омуту не пустили. Брата Михайлова по весне нашли, как река вскрылась. На версту по течению ушёл и в корягах застрял. Душу его христианскую зимою отпели, а тело теперь погребли. И домовину сколотили добротную, и литию отслужили усердную, и упокоили - рядом с родителями да любезною сердцу супругою. А дальше – жизнь пошла, как шла. И Пасха пришла. И Троица. И луга расцвели. И леса зелёным пухом оделись. И Сосенка – опять улыбаться стала. Ходил Стёпка лесами-лугами, рвал Сосёнке цветы медвяные. И Герашка – рвал. И по цветам этим – никогда Стёпка с Герашкой не спорили. Для всех солнце светит. И медвяных цветов всем хватит. Не в человеческой воле – солнце-цветы делить. На то есть воля Божья, звезда небесная – которая где-то там, очам невидима – глядит с высоты и ладит пути земные. И направляет – кого куда следует. Девчонка Сосёнка жить при дяде осталась. С дядей на Запольный хутор съездили, хозяйство обустроили, чтоб убытка не было. Это приданное девкино посчиталось. Михайло – мужик умный, пропасть добру не даст. Хотели жениху сообщить, послать... А только – кто того жениха знает? Сосёнка – и та не знает. И Михайле – недосуг было брата расспросить. Где там, в землях Граженских – жених девицы Сосаны обретается? От жениха того – ни слуху, ни духу. Жениху тому – батюшка слово давал. Девка не давала. Михайло – тем паче. Подождали – да и забыли... Чем кончилось? Да – поди – неплохо... Жизнь – она нескончаема. Она чудес полна. Мудро Господь жизнь земную учредил – что и смертей, и горестей в ней довольно – а она всё людям в радость. И никто добром расстаться с ней не спешит. И каждый час, каждый миг – плещет нежными и трепетными крылами в этой жизни светлая надежда. И восходит порой над смёрзшейся стылой землёю во мглистом мареве снеговых туч ослепительно яркая, влекущая сердце звезда. Она иль нет – зажглась когда-то в Вифлееме – и принесла спасенье и надежду, Благую Весть – усомнившимся, отчаявшимся людям? Может, и другая. Не суть важно. Знает Стёпка только одно: раз зажегшись – звезда не гаснет! Нет! Так и блистает в небе! Так и влечёт сердца! Как влекла – когда-то, во времена давние, библейские – сердца простодушных пастухов! Раньше – чем сердца мудрецов! И с тех пор светит она над миром. Только – разве что людям – не видна. Потому что – чего ж так-то глядеть? Глаза проглядишь! Душу попусту измучаешь! Ты гляди – чтобы сердце из груди рвалось! Чтобы – крылья вырастали у резвых коней! Чтобы – не спрашивая, не думая, сразу – устремиться вслед за ней, позабыв всё на свете! А уж что да как – тому Господь устроитель! Так думал Стёпка. И Герашка – был с ним согласен...
Рейтинг: +4
547 просмотров
Комментарии (6)
| Галина Дашевская # 7 января 2017 в 00:48 +1 | ||
|
| Татьяна Стрекалова # 7 января 2017 в 21:09 +1 | ||
|
| Галина Дашевская # 10 января 2017 в 17:49 +1 |
| Ветна # 10 января 2018 в 12:50 +1 | ||
|
| Татьяна Петухова # 12 января 2018 в 12:56 +1 | ||
|
| Татьяна Петухова # 6 января 2020 в 08:05 +1 | ||
|