Автобус на Шарм аль шейх
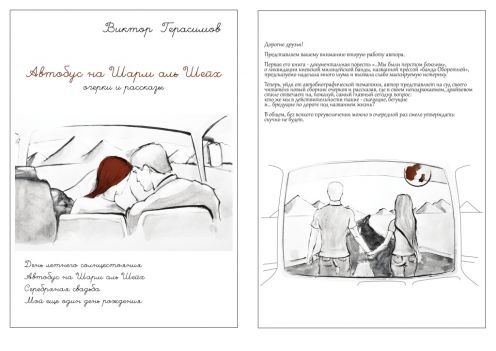
Автобус на Шарм-эль-Шейх
Рассказ для Юли
Ненавижу…
Ненавижу эти уткнувшиеся в грязно-желтый песок бледно-серых обочин, египетские дороги, что, как напившийся вусмерть и уснувший в вонючей сточной канаве бомж, растянулись через всю Аравийскую пустыню.
Ненавижу этот прозрачный, безразличный взгляд уныния чужого, бесконечного горизонта, пялящийся на тебя пустыми, безрадостными глазами чужбины, ни на секунду не оставляющий своих попыток пробиться сквозь солнцезащитные очки и все-таки попасть к тебе в сердце осколком этой необъяснимой, загадочной, неуемной русской тоски.
Просто, просто ненавижу,
Этот дежурный, без умолку несущийся из автобусных динамиков треп гида с каким-нибудь «редким» арабским именем типа Мухаммед, Саид, Мустафа, или как их там еще,
Этот нелепый тараторный треп молодого человека с явными признаками спермотоксикоза, что в конце концов обязательно заканчивается неутешительным для него самого насущным выводом о том,
Что,
У него, горемычного, ну очень плохо с выкупом за арабскую невесту, и вот поэтому он мечтает жениться, причем сделать это, разумеется, «на шару» - на русской или украинской девушке.
А еще я ненавижу самого себя,
С регулярным постоянством дающего себе слово и с таким же постоянством его нарушающего,
что в Египте,
Я,
Обязательно, обязательно,
Стану лежащим на пляже, вечерами далеко не отходящим от бара и без устали трахающимся овощем.
Ненавижу, ненавижу. Ненавижу.
А тут еще это неумолимое время,
Что в своем безудержном дефиле с претензией на, в общем-то, совсем нескучную жизнь,
Ту самую жизнь по полной,
Жизнь, как сказал полузабытый классик Октябрьского переворота»:
«Чтобы затем не было мучительно больно…»,
Жизнь, что обязывает тебя иметь обязательно уверенную походку,
Походку летящую, походку с подключением или временным волочением бедра,
Та самая жизнь,
Когда каждый день нужно кому-то что-то там доказывать,
И обязательно,
Нравиться, нравиться, нравиться,
Уже толкает и гонит пинками под зад,
И, наконец, все-таки выталкивает тебя за разделительную черту под названием «Немного больше, чем сорок».
Чтобы затем,
В этой,
Теперь уже, увы, ставшей только твоей, «ветеранской спартакиаде»,
Активное участие в которой, увы, еще совсем не означает,
Но уже, как минимум, предполагает,
Какую-то там гипотетическую возможность,
Скакать и не доскакать, бежать и споткнуться,
Или, чего доброго, и вовсе,
Стоять и оступиться на ровном месте,
И неуклюжим мешком смешно съехать со всегда влажных и от этого постоянно скользких, скользких, ступенек лестницы с указателем куда-то вверх,
И, опав прошлогодним снегом,
Уткнуться,
Своей давно уже округлившейся, раскрасневшейся физией в совсем не предполагающий быть ни мягким, ни, тем более, регулярно и тщательно вымытым сильным антибактериальным моющим средством,
Серый, серый асфальт.
Или совсем наоборот,
После своего очередного, привычного, победного финиша,
Где-нибудь на краю самого высокого и обязательно крутого кургана,
Врасти в землю сказочным коньком-горбунком.
Выпучить глаза,
И заржать,
Заржать громко, заржать жалобно,
Заржать противно и протяжно.
И все это для того, чтобы в кои веки выдохнуть,
Перевести дух,
И наконец,
Да, да,
На-ко-нец,
Опять найти в себе силы,
Справиться,
С этой своей, давным-давно ставшей твоим естеством,
Такой, такой знаменитой и всегда взахлебной,
Слюнявой. Сопливой. Фыркающей.
Победной одышкой скакуна-марафонца.
А затем в кои-то веки взять,
Да и осмотреться вокруг.
А осмотревшись,
Нет, не с удивлением заметить, а скорее, просто обратить свое всегда сосредоточенное, причем сосредоточенное обязательно до боли в висках,
Внимание,
На еще несколько секунд назад казавшиеся такими незначительными,
Такими, такими смешными,
В этой окружающей тебя бесполезности,
Точки, кружочки, тире.
В общем, на те самые детали и детальки,
Из которых,
Как вдруг оказалось, и складывалось,
Все твое предыдущее прыгающее, скачущее, регулярно стартующее, причем почему-то всегда с низкого старта,
Реальное бытие.
Вздрогнуть от этой самой реальности,
И вдруг сообразить,
Что вот он и пришел,
Свалился,
На твою уже давно седеющую голову,
В самом его начале, обязательно такой,
Такой необъяснимый,
А еще,
Нежданный, негаданный, невнятный, а местами даже катастрофический -
Кризис среднего возраста.
Так вот,
С совсем еще недавних пор пребывая именно в этом кризисном состоянии своего потрепанного временем сознания,
Бессмысленно борясь,
И иногда даже ненадолго перебарывая эту мою нелюбовь к египетским странствиям, что какой-то «шутник», спрятавшись за неприкрытым цинизмом, назвал экскурсией,
Как-то необъяснимо, а еще неожиданно для самого себя,
Я очутился на заднем сиденье туристического автобуса, что вез туристов из египетского Шарм-эль-Шейха на двухдневную экскурсию в Иерусалим.
Я ехал в город, узкие улицы которого до сих пор помнят шаги рожденного еврейской женщиной, а по сути, просто девчонкой, Сына Божьего.
Ехал в город, погрязший в своих пороках и вначале не захотевший, а затем и вовсе забравший у ее сына его человеческую жизнь.
Ехал в город, что, к своему изумлению, а потом еще и к раскаянию, стал свидетелем чудесного его воскрешения.
В город, что в припадке искупления своего несоизмеримого греха возвел в память о его недолгой земной жизни свой главный христианский храм.
В город,
Серые камни которого помнят справедливую кару отца его,
Кару всем им,
Ставшим теперь гонимой жарким пустынным ветром уличной пылью, с его тысячелетних мостовых,
Кару,
Тогда им,
Не ведающим, что творят,
Им,
Теперь со своим вечным страхом наступления неминуемого возмездия, в этом городе живущим.
Сопровождающий с египетской стороны, беспардонно пялясь на заполнивших салон автобуса барышень и дамочек разных возрастов и комплекций, заученно тараторил о времени поездки, правилах пересечения границы с Израилем и еще какую-то общеобязательную хрень, не забывая разбавлять ее стандартной пургой о «Саше с Уралмаша»*,
Меня же все это время,
Многократно констатируя и постоянно напоминая и без того теперь уже бесспорный факт о медленном, но верном, превращении египетских пятизвездочных отелей в грязные рюмочные у метро,
Просто разрывала на части,
Эта знакомая каждому,
Своей бескомпромиссной, настойчивой и невыносимой азбукой Морзе,
Острая боль в животе.
Что раз за разом воспаляла мой и без того воспаленный мозг близкой нерадостной перспективой,
Моего неминуемого и, увы, безальтернативного турне,
По всем, всем, всем,
Всем, без исключения, отхожим местам,
В компании,
Прилично загоревших и так себе, чуть подрумянившихся под знойным пустынным солнцем,
На целых двое суток ставших случайными, попутчиков,
По дороге к храму.
Мое чудесное спасение произошло часа через четыре,
Когда очередная чудодейственная таблетка из ее рук очутились в моем почти уже растерзанном желудке.
Все это время она держала меня за руку, не зная и, как мне казалось, совсем не понимая, что еще она может для меня сделать,
Для дядьки,
Старательно имитировавшего улыбку на своем бледно-зеленом лице.
Была ли это любовь?
Хороший вопрос самому себе, все еще мечущемуся,
Самому себе, проблемному.
Она появилась в моей жизни, как у Булгакова: «…выскочила, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. Так поражает молния, так поражает финский нож», как-то неожиданно для меня самого заполнив всю без исключения образовавшуюся вокруг меня пустоту.
Что между нами произошло тогда в действительности, что в действительности продолжалось сейчас?
Что, не желая поддаваться моей привычной и стандартной логике,
Не помещаясь, не впихиваясь в рамки придуманных мной для себя самого каких-то там правил и объяснений, ни на минуту не ослабляя своих крепких объятий, держало нас вместе, не разжимая, не отпуская с первой нашей встречи?
Было ли это то самое всепоглощающее чувство, что, вспыхнув однажды, бьет из середины сердца неподдельным счастьем, не позволяя дышать, как раньше, не давая жить, как прежде, хохоча над душевным покоем и бухгалтерской размеренностью?
Или это была моя воспаленная жажда отношений, продолжительное отсутствие которых упрямо, а еще упорно по утрам напоминало мне о себе лишь одной чашкой кофе на кухонном столе?
Хотя, разве меня тогда могли интересовать какие-то там ответы?
Когда на моем пороге топтался большой-пребольшой пиздец,
С настойчивой регулярностью напоминающий мне о том, что теперь мне предстоит унылая жизнь нормального человека,
И что я уже никогда не стану космонавтом,
Не изменю к лучшему жизнь всего человечества,
Не открою новые острова и уж точно никогда не изобрету вечный двигатель.
А она,
Совсем непохожая на всех моих прежних подружек, что, привычно прихватив с барной стойки бокал мартини, любуясь в зеркале своими ногами от ушей, разгуливали голышом по моей уютной квартире,
Не только напрочь выбивалась из этого «модельного ряда».
В те редкие моменты, когда моя глобальная, жизненная, возрастная катастрофа чуть-чуть меня отпускала,
Я, наверное, впервые за много лет не мог сопротивляться,
Не мог, а еще не хотел о чем-то там думать,
Да что там,
Я не мог членораздельно говорить,
Когда она смеялась. Когда грустила. Когда, рассыпая на меня синие брызги своих больших, бездонных глаз, несла всякую чушь своих нескончаемых историй о каких-то там ее подругах или знакомых,
Не позволяя мне,
Не оставляя для меня никаких шансов для привычных, проверенных и откатанных всей жизнью «ровности» отношений.
А затем, в конце ноября 2012 года, у меня случился короткий отпуск.
И она,
Вызывая,
Нескрываемое раздражение у утопающих в своем многолетнем, взлелеянном ими же целлюлите, дамочек,
Становясь поводом для вполне естественных эротических фантазий у впадающих в панику от надвигающейся перспективы скорого исполнения супружеского долга,
Их откровенно скучающих и от этого энергично хлебающих египетскую ханку обрюзгших мужей,
Гордо вышагивала по гостиничному пляжу.
Теперь же мы направлялись в Иерусалим.
Она - для того, чтобы в первый раз встретиться с городом Иисуса Христа,
Я - на третье с ним свидание.
Первая моя встреча с Иерусалимом произошла два года назад.
И я до сих пор не могу забыть тот ни с чем не сравнимый трепет, что так и не дал мне уснуть всю ночь,
Ночь моей первой к нему дороги.
Необъяснимая, непонятная дрожь,
Раз за разом возникавшая у меня тогда от одной только попытки представить,
Попытаться хоть как-то понять,
Этот застрявший и никуда не девающийся, не отпускающий меня комок в горле крутящейся вокруг реальности,
Что каждую минуту все приближала и приближала,
Город Спасителя.
Чтобы затем,
Многократно усилиться в этом своем трепете,
А после и вовсе стать невыносимой,
Не-вы-но-си-мой,
Этим своим, ни с чем не сравнимым,
Тогда и теперь непонятным мне,
Никак, никак не прекращающимся,
Не дающим мне больше жить, как прежде,
А еще, как прежде, дышать,
Утопившим меня в своей безнадеге с головой,
Чувством невыносимой тоски,
Что накрыло меня, как только плоские крыши города растворились и исчезли за желтым горизонтом.
Наша вторая встреча произошла уже через год, в мой день рождения.
Я, счастливый и бесшабашный, бродил по уже знакомым узким улочкам Старого города с тем же самым легким головокружением, которое бывает от нахлынувшего счастья, что накрывает тебя с головой от такой долгожданной и все равно всегда такой неожиданной любви.
Теперь я ехал в Иерусалим на наше третье свидание,
Таща за собой огромную нескладную багажную сумку апатии и безразличия,
Доставшихся мне от прогрессирующего частыми приступами,
Моего возрастного кризиса.
Водитель уверенно вел автобус по пронизывающему ночь и спавшую жару шоссе, что в конце концов врезалось в безжизненные, черного цвета горы, чтобы затем, проскользнув по ним верткой змеей, уткнуться в пропускной пункт на границе с Израилем.
Вот тогда-то,
В два часа ночи,
В длинной и неспешной очереди пересечения двух враждующих границ, мне в первый раз удалось рассмотреть сбившихся, словно балтийские шпроты, в одну металлическую банку восемь часов назад,
Своих, уже чуть потрепанных дорогой, попутчиков.
Мусоля в руках свои заграничные паспорта, разбившись по парам на ярко освещенной приграничной полосе, томились люди всех возрастов и сословий.
По понятной причине отсутствия у них ну хоть какого-нибудь терпения,
Ну, вот просто по причине полного его отсутствия,
Наша с ней пара предсказуемо оказалась в самом конце этого строя, что вытянулся тонкой нитью памяти откуда-то из раннего детства,
Детства, со строгой и обязательно справедливой воспитательницей детского сада, которую затем сменила всегда сексуально неудовлетворенная «училка» начальных классов.
И вот тогда-то, борясь единственным возможным способом с этим вынужденным ожиданием, мне уже ничто не мешало,
Наконец,
Внимательно рассмотреть всех наших с ней автобусных попутчиков.
И это времяпрепровождение,
С самого начала,
Меня увлекло,
А затем,
И вовсе захватило.
Ярко освещенные со всех сторон пять десятков человек напоминали рыбок в просторном аквариуме на экране в изображении 3D. И мне оставалось только надеть специальные очки, чтобы окунуться в их нереально-реальный мир.
Прежде всего мое внимание привлекла стоящая рядом семейная пара – оба одного и того же возраста, где-то за пятьдесят, очень похожие друг на друга внешне - одинаково пышной комплекции и вдобавок ко всему облаченные в одного цвета спортивные костюмы.
Не скрою: первое, что заставило меня зло и ехидно про себя похихикать, так это их одежда из девяностых.
Да,
Время проходит, а вот люди из него, безвозвратно ушедшего, почему-то непременно остаются….
Ведь до сих пор никуда не пропали с городских улиц те самые,
Знакомые каждому бывшему пионеру-тимуровцу,
С неброскими, но обязательно в красный цветочек платками, покрывающими их головы,
Такие добрые и такие родные,
Советские, советские бабушки-старушки.
Остудила вспенившуюся волну моей памяти с картинкой из канувших в небытие героях спорта из девяностых, «жена-спортсменка».
Она со злым мужицким выражением лица вполголоса вдруг начала выговаривать своему «мужу-атлету».
А он, горемычный,
Преданно и послушно,
Словно попавшая в облако табачного дыма маленькая лошадка пони, только и делал, что невпопад тряс головой, чтобы, как только его благоверная остановится для очередного глотка воздуха, послушно произнести: «Как скажешь, мама».
За «олимпийцами» томилась женщина лет тридцати пяти, с прибалтийским паспортом и тягучей, невнятной речью, что выдавала в ней человека, только что пережившего инсульт.
Дальше переминались с ноги на ногу несколько теток, среди которых выделялась громко и быстро-говорящая, небольшого роста их лидер-заводила.
За тетками ждали своей очереди два парня.
Их неловкие прикосновения друг к другу, как, впрочем, и белые обтягивающие брюки, выдавали в них «голубцов».
Далее скучала еще одна пара «героев спорта», как близнецы похожих на первую.
Такой же возраст, схожая комплекция.
И совершенно одинаковая на их мужицких лицах гримаса.
Она не просто ставила их в один ряд,
Объединяя в незримом строю с внезапно замолчавшими и скучающими рядом «олимпийцами» в одну «команду»,
Но и делала их, как минимум, дальними родственниками.
Хотя,
Справедливости ради, их похожесть разбавлялась белым блайзером, что презервативом украшал голову другого «спортивного супруга» и который он с начала пути еще не снимал.
Дальше подпрыгивал с ножки на ножку маленький крепкий мужичок - тоже в спортивном.
Не обращая внимания на своих соседей, он, словно «вертухай», то злобно осматривал наше общее неказистое построение, которое, судя по выражению лица, ему совсем не нравилось,
То опускал колючий взгляд на свои вытянутые больше обычного на коленях «треники» а-ля «Адидас».
За «Адидасом» стояла молодая, судя по блеску обручальных колец, пара.
Крупный широкоплечий парень скакал зайчиком вокруг своей беременной жены, выражение лица которой было достойной иллюстрацией хрестоматийного раздела «Об изменении женской психики во время беременности не в лучшую сторону».
В общем и целом,
На границе, где, как известно с постоянной регулярностью «тучи ходят хмуро», скучали, боролись со сном и переминались с ноги на ногу,
Тогда,
В середине ноября-2012,
Попавшие в один нелепый и от этой своей нелепости совсем даже не смешной строй,
Странные попутчики,
По какому-то непонятному и необъяснимому стечению обстоятельств,
Разом собравшиеся в гости к Богу.
Египетско-израильская граница закончилась так же неожиданно, как и возникла.
Закончилась вместе с игрой в города, которой мы развлекали друг друга, коротая застывшее на границе время,
Закончилась вместе с выборочной проверкой нас израильскими барышнями-пограничниками. К моему глубокому удивлению, в первый раз меня не зачислили в группу риска (это когда тебя дополнительно проверяют, задают «хитроумные вопросы» и вдобавок ко всему берут на особый контроль твой выезд из страны).
Затем была еще дорога,
Был никак не удививший из-за только что прошедшей бессонной ночи своей неестественной, прямо киношной красотой, рассвет,
Что всех нас, прилетевших из начала зимы, как-то даже сбил с толку, ослепив ярким, обжигающим, выплывшим из-за горизонта солнцем.
Еще было купание в Мертвом море,
Где наши с ней попутчики так искренне,
А еще,
Так самозабвенно,
Увлеклись питием хренового придорожного кофе, поеданием своего гостиничного пайка и созерцанием «голубцов», что, без остановки фотографируя это фантастическое утро, соленое море и себя в нем, «красивых»,
Без устали лобзались и так же без устали вытирали друг другу спинку предусмотрительно взятыми с собой гостиничными полотенцами.
Мы все вместе, все разом,
Чуть не остались жить под полосатыми зонтиками, карикатурно торчавшими над доставшимися всем нам «во временное пользование» пластмассовыми столами,
Но призывный крик теперь уже израильского гида, ровно за минуту до этого сладко «впаривавшего» нам «целебную косметику» из морской грязи, отдаленно напомнивший мне армейское: «По машинам!»,
Вновь заставил ненавистную мне дорогу завертеться с новой силой,
Меняя за автобусным стеклом горы на пустыню,
Ровный морской горизонт, что вначале начал сливаться, а затем и вовсе стал невидимым - на бесконечные пальмовые плантации,
Автомобильные заправки, кричащие своей незатейливой рекламой - на все чаще и чаще встречающиеся новые и новые придорожные кафе.
Мы молча смотрели по сторонам.
Ее закружили все эти скачущие вокруг нас, плывущие пейзажи, неказистые строения и придорожные указатели, которые каждый раз всем своим видом выкрикивали нам, что дальше обязательно будет - Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим…
Она ждала его,
Ждала их первой встречи, их первого свидания.
Не замечая, не обращая внимания на мой прозрачный взгляд, она хмелела от крутящейся вокруг нее реальности, от каждого дорожного поворота, каждого проскользнувшего мимо километра, каждой прошедшей минуты,
Что приближали и приближали ее к городу Спасителя.
Да и могло ли ее тогда в принципе заинтересовать полулежащее рядом, со своими переходными, возрастными проблемами, полено,
В которое все больше и больше превращался еще совсем недавний Бу-ра-ти-но,
Что теперь неуклюже имитировало какие-то там слабые и в, общем-то, бесполезные и никчемные,
Совсем, совсем деревянные попытки,
Вновь вернуть себе, вновь почувствовать,
Ну хоть слабую, слабую толику,
Да хрен с ним, хотя бы услышать знакомое эхо,
Эхо дыхания города Господа.
Чихнув клубами черного дыма, автобус, наконец, остановился и вытолкнул нас всех на городскую мостовую, чтобы снова разбить на пары и, безразлично взглянув нам вслед, отпустить своих недавних пассажиров,
Неспешно уходящих от него по узким извилистым улочкам Старого города.
А вокруг шумел арабский базар, со всех сторон окрикивая нас горластыми зазывалами, дыша в наши лица ароматами восточных пряностей, разглядывая идущих по нему женщин своими похотливыми глазами.
И когда уже казалось, что эти бесконечные базарные улочки-туннели на Храмовой горе не закончатся никогда,
Он ударился о стены храма, вдруг, неожиданно захлебнулся, а затем и вовсе запнулся и затих,
Чтобы превратиться вначале в шепот иконных лавок, а затем совсем замолчать во внутреннем храмовом дворе.
Мы очутились у ворот Храма Воскресения, и я в который уж раз не мог в это поверить.
В очередной раз мой мозг отказывался принимать факт реальности происходящего: что именно с этого самого места,
Иисус смотрел на это небо, что прозрачной голубой дымкой висит здесь со дня сотворения мира.
И пока я пытался найти в своей голове остатки былого восторга,
Теснимые со всех сторон движущимся людским потоком, в компании своих попутчиков мы - нет, не вошли,
А скорее, затекли под храмовый свод,
И наши неловкие шаги слились с тысячелетним эхом от шуршания кожаных сандалий крестоносцев, глухого стука сапог жителей Средневековья и похрюкивающим подскуливанием спортивной обуви последних двадцати лет,
Что, в свою очередь, органично влилось в приглушенный, похожий на звучание работающего многоцилиндрового мотоциклетного двигателя, разбавляемого призывными выкриками экскурсоводов, невнятный, многоязычный людской гам.
Крутая каменная лестница увлекла нас вверх, к месту распятия Спасителя, и ступеньки такой же крутизны столкнули вниз, к камню его помазания.
И тогда,
Под щелканье сотен фотоаппаратов, что, бесконечное количество раз моргая своими вспышками-молниями, освещали храм своим неестественно-серебряным цветом,
Я стал невольным свидетелем того, как ее,
В самом начале увлекло,
А затем и вовсе закружило все, все вокруг происходящее.
И в этом людском потоке,
В этой, тогда только ее, действительности,
Переполнявшая ее реальность еще через секунду была готова хлынуть слезами счастья из огромных глаз.
Не отпуская моей руки, она летела в своих мыслях где-то между землей и небом, между большими и маленькими звездами,
Между Царствием небесным и городом, что носит название Иерусалим.
Я был с ней рядом.
Я был, был, был,
Всему этому свидетелем.
Свидетелем без чувств, без эмоций,
Свидетелем вне происходящей реальности.
Я смотрел на нее и обреченно ждал.
Ждал, когда же мне, наконец, станет не по себе.
Не по себе,
За себя, мудака,
Что на своем пути так и не заметил, не почувствовал, как в прохудившуюся от времени дырку в его правом нагрудном кармане по дороге к Храму взяла и выпала искра Божья.
Не по себе,
За мои идиотские, не к месту и не ко времени, какие-то там «возрастные сомнения».
За это мое безразличное лицо, этот мой тупой, безразличный взгляд, с которым я стою в центре вселенной.
И когда от обиды на себя самого я уже был готов захлебнуться от нехватки воздуха, чтобы перестать думать, смотреть, дышать,
Она взяла меня за руку,
И я вернулся.
Я вновь был тем самым семнадцатилетним парнем, который в один прекрасный день из динамика магнитофона услышал свой первый хард-роковый аккорд,
И затем почти тридцать лет шел по жизни под ударный ритм и гитарный скрежет размера 4/4.
Ну и пусть,
Что теперь рок в моей жизни должен был уступить место джазу.
В конце концов,
Когда-нибудь пора приглушить громкость своей стоваттной колонки,
И, положив в письменный стол как напоминание о прошлом, этот заезженный, а теперь еще и часто скачущий от полученных им борозд и царапин виниловый диск, поставив на его место другой, новый,
Теперь уже диск в CD-формате,
И все для того, чтобы,
Одинокая, тоскливо квакающая труба, вторя драйвовому вокалу, захрипела о безвременно и безвозвратно ушедшей молодости.
Очередь у Кувуклии (Часовни) Гроба Господнего почти замерла, но эта ее медлительность, еще секунду назад такая мне ненавистная,
Как впрочем, и всякая, любого рода медлительность,
Впервые за много лет совсем меня не раздражала.
Иерусалим, Храм Воскресения, Часовня Гроба Господнего - а что еще нужно, чтобы снесло голову?
Что еще нужно для потеряшки, чтобы прийти в себя, вернуться, раскаяться и обязательно вновь обрести?
И пока мой недавний «возрастной кризис» улетучивался окончательно и, как я теперь надеюсь, безвозвратно,
В оставшееся от него рядом со мной на полу храма «мокрое место», в котором все еще, теперь уже неуклюже, пыталось плескаться безразличие, неожиданно угодила чужая «спортивная» нога.
Кроссовок «Made in China» хлюпал по остаткам моей «кризисной жидкости», беспардонно брызгая во все стороны монологом его хозяйки, образ которой уже отложился в моей памяти «лидером-заводилой» группы теток с ночной границы.
Что обычно говорят в храме?
Нет не так,
О чем говорят в храме?
Нет,
Все равно не так!
Что и как говорят в главной православной святыне, Храме Гроба Господня?
Да и говорят ли вообще?
Так вот, вновь томясь, теперь уже в очереди в Часовню, место, где Иисус был погребен,
А затем воскрес,
Невозмутимая в своей прагматичности тетка громко объявляла своим попутчицам, а заодно и всем присутствующим, о том, сколько она заплатила за себя и за своих «подружек» американских денег за свечи и записки за здравие и упокой,
А еще - сколько и кто ей по этому поводу должен,
И пока невольно услышанная мной информация ложилась на только что «ожившую» кору моего головного мозга,
Я, наконец,
Обратил внимание на то, что основная масса стоящих рядом либо держат в руках те самые американские деньги, либо прячут их в кошельки и карманы.
Но это была только первая часть моего «прозрения».
Вторая настала,
Хотя нет, не так, - скорее, настигла меня тогда,
Когда,
Мой взгляд уперся в странное строение.
Мало того что это был натянутый шатер из брезента защитного цвета, недвусмысленно напоминающий всем торговую палатку.
О, ужас!
Он был пристроен к Часовне Гроба Господнего, со стороны коптской церкви.
Так вот,
Именно в этом строении «малой архитектурной формы» мужичок в рясе вел бойкую торговлю свечами, светлой памятью, не забывая в своем прейскуранте, за здравие.
И пока я пытался переварить или хотя бы как-то систематизировать мною увиденное,
Из полумрака шатра брезентового цвета вдруг вынырнул еще один наш попутчик.
Его голову украшал сидящий на ней контрацептивом, теперь уже знакомый нам,
Белый, белый,
Белый блайзер.
Впасть в ступор в Храме Воскресения.
А что может быть еще трогательнее и забавнее потерявшегося во времени человека, когда он вдруг начинает понимать, что выстроенное им за много лет, только его, личное пространство, вдруг исчезло в окружающей реальности?
Что может быть трогательнее в один миг ставшего одухотворенным, его лица,
Что может быть притягательнее его глаз, через которые куда-то вдаль смотрит его душа?
И что может быть отвратительнее наступившего шока,
Когда ты стоишь в святом храме в окружении людей, только что отоварившихся у рыночного зазывалы и размахивающих деньгами?
Непроизвольно я крутил головой во все стороны и пытался зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, что вернуло бы меня в совсем еще недавнее исцеление,
Но,
В очереди, скучая, томились такие разные и такие одинаковые люди.
И когда мои шансы на новую, другую жизнь начали превращаться в ничто, освобождая место лишь несколько минут назад отступившей хандре,
Она легко потянула меня за руку,
И я вернулся.
Вернулся, для того чтобы посмотреть вверх,
И еще раз увидеть купол храма над головой, в витражи которого смотрит небо, что висит здесь и висело тогда над головой Иисуса прозрачной голубой дымкой,
Со дня сотворения мира.
Ненавистный мне экскурсионный автобус опять зарычал и медленно тронулся с места, теперь для того, чтобы отвезти нас в Вифлеем и оставить на ночь.
Утро следующего дня опять обещало нам новые впечатления, теперь уже с приставкой «еще», мои настоящие, новые впечатления, и вновь,
Дорогу, дорогу, дорогу,
Что, помноженная на бесконечное суточное бдение, становится похожей на самоистязание,
Даже если пролегает эта дорога по Святой земле.
А из-за гор в Иерусалим осторожно крался вечер,
Вечер, что вместе со сказкой медленно падающего за город солнца должен был отдать нам остро-вожделенный номер в вифлеемском отеле.
С упоением мечтая о гостиничной постели с все равно каким видом из окна, я складывал в своей памяти картинки неторопливо уходящего дня, итогом которого был Христос, она и мое сегодняшнее возвращение.
А она, не в силах оторваться от автобусного окна, чтобы задержать на лишние секунды улицы, дома, стены Старого города, без остановки щелкала, щелкала и щелкала фотоаппаратом.
Эти улицы и дома города,
Что, забавляясь ее фотовспышкой, скользили и плыли рядом с ней миражами, чтобы, в конце концов, став этим самым миражом, раствориться и совсем исчезнуть за очередным уличным поворотом.
Когда нам неожиданно объявили, что наша экскурсия продлится только сутки, и Вифлеема не будет, я в самом начале даже не сообразил, что происходит.
Вскоре должен был настать вечер,
И я уже бродил с ней в своих мыслях по вечерним улицам Вифлеема, мы пили крепкий восточный кофе в его кофейнях, закуривая чуть слышный вкус корицы ароматом кальяна,
Но в самом, самом начале,
Отодвигая совсем на чуть-чуть еще одну скорую арабскую ночь,
В моих ушах уже отчетливо звучал звук душа, вода из которого,
Ну, вот такая, такая, вода,
Вода нехолодная и негорячая,
Вода в самый, самый, раз,
Накрывая меня с головы до пят, смывала пот и грязь вместе с дорожной усталостью.
Вдоволь наплескавшись в своем воображении, я уже тянулся к белоснежному полотенцу,
И вот когда пальцы рук в мыслях уже коснулись его первозданной чистоты, подошедший экскурсовод просто ошарашил нас «радостным» известием,
Причем, претензии по этому поводу нужно было предъявить, разумеется, египетской стороне.
Я пришел в себя только тогда, когда автобус уже колесил по пригороду, и требовать, чтобы он немедленно остановился,
Выпустил нас,
И оставил один на один с дорогой к месту рождения Спасителя,
Уже не было никакого смысла.
Пытаясь ухватить сыплющийся между пальцев второй день в Израиле, я даже позвонил в экскурсионное бюро в Египте.
Но пока Египет выяснял что происходит, а Израиль делал вид, что ничего не случилось, Иерусалим уже скрылся за горизонтом,
Оставив мне вместо нашего с ним прощания,
Только тоску.
А еще,
Скверное чувство, что эти принимающие и отправляющие стороны,
Все эти вместе взятые сраные барыги,
Отобрали у нас с ней Вифлеем, а еще утро в доме Иисуса, в Назарете.
Но роптать уже было поздно, а материться вслух - как-то неприлично.
И тогда, неожиданно для самих себя,
Мы уже бесповоротно, а значит, окончательно-окончательно,
Очутились в общей группе экстремалов,
Экскурсантов на сутки,
Ставшими за эти уже прошедшие с ними двадцать часов такими родными,
Такими родными и близкими,
Близкими,
Аж до моих совсем еще недавних желудочных колик.
И опять дорога через половину Израиля погнала нас назад к границе, наехав на меня, так и не научившегося во всех этих автобусных странствиях спать сидя, своей безальтернативностью.
Она тихо посапывала у меня на плече.
А мне больше ничего не оставалось, как, борясь и снова проигрывая желанию залиться протяжным раскатистым храпом, растеряв под гул мотора все мысли и оставив себе только никуда не девающееся, неизбежное чувство усталости,
Снова и снова глазеть на мирно дремлющих попутчиков.
А они, попутчики, поголовно спали и видели сны.
«Голубцы» - в своих голубцовых объятиях. «Спортивные пары» - смешно разбросав свои телеса, развалившись в креслах. Уткнувшись в плечо спящего соседа, мирно похрапывала обладательница литовского паспорта. Слился с креслом незаметный «Адидас-вертухай». И только блайзер, что теперь уже не мог претендовать на звание ослепительно белого, зиял своей недвусмысленной формой на покрытой им голове, уткнувшейся в переднее сиденье.
А потом пришли сумерки.
Сумерки, что застали нас на израильско-египетской границе.
Но в самом начале все мы, укачанные и измученные дорогой, вдруг неожиданно для себя очнулись на границе с Иорданией.
Есть и такая граница в израильском городе Эйлат.
И пока, зевая и сладко потягиваясь, автобус приходил в себя, из ночного мрака в салон настойчиво шагнула знакомая нам по прошлой ночи экскурсовод с израильской стороны, с соответствующим экскурсии именем Яна.
Громко объявив о том, что нам нужно вернуть розданные ею же бумажки, чем-то похожие на билеты или талоны, она, легко порхая, потащила свой массивный зад между рядов кресел.
Нисколько не смущаясь своим фотографическим сходством с «пчелкой Майей».
Цепляясь своими огромными бедрами за автобусные сиденья,
Преданно заглядывая каждому из нас в глаза,
«Девушка Яна» жужжала и проталкивала себя по узкому автобусному проходу,
Хватая своими пухлыми пальцами небольшого размера белые бумажки с цифрами и надписями на незнакомом всем языке,
При этом не забывая каждый раз прибавлять,
Что вот точно такие же,
Всем нам прямо сейчас,
Вручит ее коллега на границе.
То же самое она проделала и с нами,
Дополнительно и, как мне тогда показалось даже, как-то еще искреннее проговорив свой текст о том, что сокращение нашей экскурсии наполовину - это точно не ее вина,
И все наши претензии точно не к ней, а к отправляющей стороне.
Позади была дорога длиной почти в сутки. Вокруг, кряхтя и поскрипывая, висел полудрем. На улице огнями светилась чужая ночь.
В общем, никто из попутчиков, и я в том числе, не придали всему произошедшему никакого значения.
Тем более что «пчелка Яна» при нашей первой встрече почти сутки назад эти карточки-талоны нам торжественно раздала.
Только тогда так же,
Хотя нет,
Еще более искренне и неподдельно,
Она просила всех нас эти карточки ни в коем случае не потерять.
Совсем не жалея своих челюстей,
В сладком и до неприличия продолжительном зевке,
В наших, теперь уже общих, приторможенных мыслях мы уже были на приграничном пропускном пункте с Египтом, чтобы, наконец, поменять транспорт и опять отправиться теперь уже в египетскую дорогу.
Автобус вновь знакомо зарычал и уже через полчаса уперся в приграничный шлагбаум, затихнув в этом своем моторном рыке,
В такой долгожданный и теперь уже последний раз выгнав всех нас на воздух,
На воздух, к границе.
Навьюченные пакетами с сувенирами, с нескрываемым удовольствием ступая по твердой почве, мы устало побрели к пропускному пункту.
Дорога и усталость совершенно доконали всех нас, вместе взятых, окончательно,
И только она, все еще не потеряв интереса к вокруг происходящему, не переставала глазеть во все стороны.
Ах, молодость, молодость!
Хотя, что это я?
Ведь каких-нибудь семь часов назад она в свой первый раз увидела город,
Город,
По улицам которого она сделала свои непохожие, совсем другие шаги,
Шаги к Спасителю.
Город,
Что утешил ее и утвердил в вере,
В конце концов, тот самый город,
Что избавил меня от этого странного синдрома неизбежности, гордыни и безразличия,
И теперь уже звучал в моей голове любимой мелодией джаза.
Что это я?
Ведь всего семь часов назад он был в нашей жизни,
Был, этот город,
Город Иерусалим.
Писклявый, почти фальцетный мужской крик неожиданно ворвался в мой свинг, моментально разбив джазовую идиллию на маленькие острые осколки.
«Кто здесь?» -
Осторожно вскрикивал пионер из старого мультфильма, услышав звуки Барабашки, хозяйничавшего в квартире.
«Какого красного?» -
Непроизвольно и довольно громко вырвалось у меня.
И действительно, какого красного,
Какой-то клоун с внешностью Весельчака У из советского мультика «Тайна третей планеты», постоянно одергивая свою несвежую рубашку с трещавшими, готовыми в любой момент разлететься во все стороны пуговицами на его огромном брюхе,
Подражая бабушке-вахтерше из женского общежития,
На весь пропускной пункт что-то визжит в сторону моих попутчиков?
Какого красного,
Этот пузырь на ножках разинул свою харю на граждан другой страны?
Да… Какого красного?
А Весельчак У был в ударе.
На его маленьком лобике выступила испарина,
А обвисшие щеки каждый раз, когда он, на секунду прерываясь на новый глоток воздуха, чтобы выдохнуть на пике своего очередного визга, тревожно волновались, двигаясь по его бульдожьей морде бризом легкой морской волны.
Нужно было вмешиваться,
Но выйти на первый план со своим моментально сложившимся экспромтом,
Экспромтом непродолжительным,
Экспромтом оптимально, аргументированно-веским,
Который, как мне тогда показалось, должен был стать «всеобщим встречным заявлением»,
Мне так и не удалось.
Как только я начал свое движение в направлении «громкоговорителя», стоящий впереди наш с нею попутчик,
Тот самый высокий парень с беременной женой, резко прервал раздухарившегося оратора,
А затем,
Пообщавшись с ним несколько минут на английском языке, просветил всех нас, потерявших свой парный строй и так непривычно сбившихся в одну кучу-малу,
Что ларчик,
Как ему, по его сущности, и свойственно, открывался до неприличия просто.
Собранные полчаса назад «пчелкой Майей», она же большебедрая директор экскурсионной фирмы по имени Яна, на границе с Иорданией, те самые талоно-билеты,
Были всего-навсего подтверждением нашей уплаты обязательного тридцатидолларового сбора с человека при пешем переходе через границу.
А вставший на нашем пути - не кто иной, как скромный еврейский патриот-пограничник,
Не стесняющий себя в выражениях в своем сокровенном желании наполнить бюджет страны,
Заслонил от нас,
Своим никак не напоминающим ни широкую грудь, ни, тем более, атлетическую фигуру,
Рыхлым шарообразным телом,
Свою государственную гра-ни-цу.
Обстановка на пропускном пункте в одно мгновение перестала быть напряженной, уступив место положенной в таких случаях панике.
Вспомнив учебник математики за третий класс, теперь уже ставшие друзьями по несчастью, окружившие нас люди с такими знакомыми, знакомыми, почти родными лицами,
Стали лихорадочно подсчитывать в своих кошельках, застегнутых на молнии и булавки карманах и в «тайных нычках» в уже давно потерявшем свежесть нижнем белье,
Оставшуюся наличность.
А затем поголовная паника уступила место всеобщему возмущению, что вначале ответным водопадом выплеснулось на стоящего рядом, с чувством недавно выполненного долга натиравшего до перламутрового блеска несвежим носовым платком свою рыхлую мордашку, Весельчака У.
И пока Весельчак метался в принятии своего следующего решения, что лихорадочно скакало между заманчивым «продолжить быть героем»,
И еще более заманчивым -
«Немедленно слиться со вторым планом», пустив впереди себя барышень-пограничников,
На первый план вышел небольшого роста худощавый мужичок лет сорока пяти, назвавшийся Эдуардом.
В самом начале готовящихся совершить словесный самосуд над сдувшимся толстяком он никак не впечатлил.
И действительно,
По весовой категории сто двадцать килограммов намного предпочтительнее, чем пятьдесят пять.
Но Эдуард был настойчив,
И, повторив несколько раз никак и никем не услышанную просьбу снять блокаду израильского КПП, он прибегнул к своему последнему козырю.
Когда этот маленький щуплый еврей произнес имя своей жены - Яна,
Весельчак У был спасен.
А вот сам Эдик,
Хотя и мгновенно разблокировал приграничный проход, сразу же прочувствовал на своей сутулой фигуре,
Что такое пулеметная очередь в упор из танкового пулемета.
Но прежде чем начался расстрел, он успел сказать короткую речь, в которой пытался объяснить происходящее. Суть ее была в том, что…
Вся эта карусель с раздачей и забиванием талонов об уплате сбора при пересечении границы,
Что, кстати, всех нас, заплативших за свои путевки, в принципе волновать не должна,
Не что иное,
Как выяснение отношений между египетскими и израильскими туристическими перевозчиками.
Барыги, которым на всех, кроме них самих, традиционно наплевать, по инерции пытаясь наеб*ть друг друга, в конечном итоге кинули всех нас.
И если для других, топтавшихся здесь на приграничном переходе, суть «кидка» измерялась в тридцати долларах,
То нас с ней и еще одного нашего попутчика,
Они обокрали на целые сутки на Святой земле.
А счастливый половой собственник далеко выпирающих выпуклых достоинств вначале властно повелевал,
Затем настоятельно советовал,
А в конце концов просто «по-человечески» просил наших кипевших от возмущения попутчиков заплатить по тридцать долларов, пройти границу и получить у египетского перевозчика компенсацию.
Но нужно было знать наших,
Которых, кстати, в течение часа стало больше аж на три автобуса,
Ведь вездесущая «пчелка Яна» проделала свой фокус изымания талонов, не моргнув глазом, еще и с ними, -
Так вот,
Больше сотни возмущенных, ведомых моментально образовавшейся инициативной группой, в которой со скоростью в тысячу слов в минуту, помноженных на громкий фальцет, блистала все та же беспардонная «лидер-заводила»,
Медленно наступали на Эдика-заместителя, который своим барыжьим умом, подпитываемым тревожной еврейской кровью, вначале понял,
Что этих людей не обманешь,
Вывод, между прочим, для барыги хотя и страшный, но далеко не фатальный,
А затем, прокручивая в своем воспаленном уме все до одного варианты последствий,
Однозначно остановился,
На перспективе тогда ему самой близкой и понятной,
И от этого наиболее для него реальной:
Еще пару минут - и его ждал циничный мордобой.
На границу опустилась прохладная ночь, что, вторя толпе тревожных экскурсантов, предусмотрительно отрезавших ему путь для бегства в сторону вызванного им такси,
Продолжала наседать на виновника злоключения.
И когда уже казалось, что Эдик с воплем «По-мо-ги-те!» бросится бежать сломя голову,
На его защиту встала пограничная служба Израиля.
Два лохматых парня в форме, экипированные словно игрушечными, небольшого размера автоматами, вышли из здания КПП.
Один из них, с явно славянским лицом, чтобы разрядить обстановку, на чистом русском языке начал нести какую-то чушь о терроризме,
Другой, по помятой физиономии которого было видно, что его только что разбудили, стоял молча и вообще всем своим видом показывал, что ему все происходящее, мягко говоря, параллельно.
Был у Эдика еще и защитник под номером три:
Весельчак У сверкал в открытой двери пропускного пункта своей уже натертой до блеска мордашкой.
В общем,
Всем нам, толпящимся на израильской границе, теперь уже потерпевшим, тогда явилось непостижимое, непонятное нам, славянам, «еврейское чудо»:
Брат таки спас брата.
Но русские, украинские, а еще белорусские, как известно, не отступают.
И пусть это будет Корея, Вьетнам или Северный полюс.
И пока Эдик в своих мыслях уже получал удовольствие от скорой перспективы осторожного, медленного извлечения превратившихся в стринги и намертво застрявших между его худыми ягодицами трусов-боксерок,
Беременная жена нашего автобусного попутчика уже звонила в полицию.
И вот тут меня в первый раз за все это время обуяла гордость за всех, всех, всех,
Всех без исключения,
Смеющихся у себя на родине навзрыд при виде вывесок:
«Милиция», «Прокуратура» и «Правосудие»,
Уже два с половиной часа здесь, за много тысяч километров от дома, терпеливо ждущих своей тридцатидолларовой справедливости.
Полиция Эйлата не торопилась, дав возможность охладить всеобщую клокочущую страсть в пришедшей ночной прохладе.
Легкий пронизывающий ветер вначале прогнал из моих попутчиков накопившийся пар справедливого гнева, а затем и вовсе заставил лихорадочно кутаться в теплые вещи.
Отыскав в себе остатки терпения, они разбрелись по группам и, обмениваясь шаблонными безадресными фразами возмущения, терпеливо ждали своей справедливости,
Дав нам с ней возможность прижаться друг к другу и победить захватившую нас легкую дрожь, что вместе с этой странной ночью на другом конце света свалилась тогда на наши, просветленные городом Спасителя и все еще кружащиеся от него, головы.
И когда временное перемирие уже начало вязнуть во все решительнее и решительнее наступающем холоде, со стороны города протяжно заскрипели тормоза,
Затем ночь приняла на себя уверенный хлопок двери полицейской машины,
И наконец,
На освещенное ярким приграничным фонарем пятно на асфальте уверенно шагнул из темноты мужичок лет сорока в довольно странном, на мой взгляд, как для полицейского, одеянии.
На его полнеющую тушку выше среднего роста была надета непонятного цвета футболка, что скрывалась под украшенной десятком накладных карманов, такого же непонятного цвета безрукавкой. Похожие карманы были и на его штанах-милитари болотного цвета.
Два серых пятна на его ногах выдавали при внимательном рассмотрении двое кроссовок.
К такому вот странному внешнему виду этого родного брата Родиона Бородача* прилагалось еще и обрюзгшее лицо,
По лбу которого на всех языках мира «бегущей строкой» во все стороны границы неслось,
Хотя нет, не неслось,
А скорее, гортанно пело,
Что его обладатель не просто себя безмерно любит - он собой гордится.
Не обращая никакого внимания на сотни глядящих на него с надеждой глаз, кра-са-вец направился к еще больше разволновавшемуся Эдику.
А уже через пять минут он, гордо расправив плечи,
Во всей своей красе,
Предстал перед сплотившимися в едином порыве поиска справедливости нашими с ней соотечественниками.
Яркий электрический свет слепил оратору глаза.
И вот тогда, для придания своему образу еще большей помпезности, он широко расставил ноги и неспешно засунул руки в карманы брюк,
А затем,
Вначале, как бы невзначай,
Скользнув взглядом по дугам торчащих в стороны рук,
После бросив пристальный взгляд на свою тень на асфальте и, судя по блеснувшему свету большой луны по его физии, получив от увиденного несказанное удовольствие,
Кра-са-вец, наконец, представился соответствующим кра-сав-цу образом.
Как оказалось, Аркадий был из убойного отдела Эйлата.
Когда он произнес эти магические для него слова «Убойный отдел», то еще глубже вонзил свои руки в брючные карманы и, без всякого сомнения, наконец добравшись до своих яиц, провел-таки пару ударов «от борта».
Ни на секунду не останавливаясь и даже не думая прекращать этот свой «карманный бильярд»,
В который уж раз гордо, с высоты орлиного полета взглянув на внимающих каждому его жесту, моментально сбившихся вокруг него в плотный полукруг человеческих тел и глаз,
Аркаша, как и положено всем мо-лод-цам в мире, продолжил свое повествование собственной биографией.
«Я из Литвы», - многозначительно произнес он.
И вторично выстрелил в окружающих магическое для себя, любимого, словосочетание про свой сраный убойный отдел,
После чего его руки опять заволновались в брючных карманах.
Затем Аркаша продолжил свою речь,
Которая в конечном итоге вначале как-то стушевалась, потом потеряла свою ритмичность, а затем и вовсе превратилась в несуразное блеяние.
И всем тем, кто тогда его на границе слушал, мерз, надеялся, а еще скучал из солидарности, стало ясно, что этот «оратор» решений не принимает.
Закончив на фразе: «Идите в Египет, и у вас там все будет», Аркаша замолчал.
Потом был беспорядочный, бессмысленный шквал вопросов инициативной группы,
Какое-то там его блеяние о превратностях жизни,
А еще была его недовольная гримаса, выражающая явное отвращение к оторвавшим его от поедания жареной сочной курочки гоям, что приехали за столько сотен километров, чтобы покланяться какому-то там своему Богу.
И вот тогда я вдруг подумал об этой странной, не поддающейся здравому смыслу, сложившейся ситуации,
Когда граждане огромной, сильной страны,
Страны,
Один десантно-штурмовой батальон которой за каких-нибудь десять часов до основания, до пепла может смести в море,
Всю вместе взятую здесь государственность,
Забыв чувство национального и собственного достоинства,
Забыв, кто они,
Зачем они здесь,
Почему они здесь и сейчас,
Только сегодня днем переступившие порог храма, что должен был сделать и, без всякого сомнения, сделал их чище, светлее, а еще сильнее,
Ведут себя, как торговцы, у которых не было и нет родины, непобедимой армии и своей великой истории,
Нет прошлого и поэтому не может быть будущего.
И вот тогда мой интерес стороннего наблюдателя превратился в неловкость.
В неловкость, а еще в стыд за свое молчаливое потакание всему здесь происходящему.
Я выпустил ее из своих объятий, чтобы сказать о том, что пора заканчивать этот балаган, как вдруг из темноты, прямо ко входу на контрольно-пропускной пункт, без преувеличения, просто выпрыгнула еще одна полицейская машина.
Никто меня не переубедит, что есть,
Ну, вот точно есть,
Выражение лица принимающего решения, настоящего руководителя.
Вот именно с таким выражением лица, в хорошо сидящем полицейском мундире, значимость погон на котором подчеркивала руководящая осанка, на границу прибыл настоящий начальник.
И тогда искушение досмотреть шоу до конца взяло надо мной верх.
Не размениваясь на мелочи, вновь прибывший по очереди выслушал доклады Аркаши, дрожащего Эдика и возникшего из ниоткуда Весельчака У и остался ими глубоко удовлетворенным.
А затем без промедления «обратился к собравшимся».
«Убойный Аркаша» выпрямился по стойке смирно и начал делать то, ради чего его сюда и прислали: переводить.
Если быть лаконичным, то государство Израиль, глубоко не вникая в тонкости,
Ничуть и ни капельки не парясь,
Между уплатившими полную стоимость за предоставляемые им туристические услуги гражданами других стран,
И,
Дрожащим на холодном ветру и все равно не хотящим до конца выполнять бизнес-обязательства перед своими клиентами барыгой,
Остановилось на стороне своего гражданина.
В общем и целом, праздник поиска тридцатидолларовой справедливости себя исчерпал,
И полторы сотни совсем еще недавних его участников, что провели семь часов на холоде и ветру, послушно выстроились в очередь для уплаты.
Уставшие и голодные, мы с ней последовали их примеру.
И пока мои попутчики «шуршали капустой», меня не покидала мысль о том, что Спаситель,
Любя нас всех,
Всех до одного, всех без исключения,
Умных, глупых, разных,
Искренне верующих, и тех, кто просто так,
С улыбкой, по-отцовски журя,
Вновь потряс нас за холку,
И все только для того, чтобы мы, наконец, пришли в сознание,
И поняли,
Кто мы есть в действительности.
Не оставляющие своих попыток спрятаться от его ветра,
Дрожащие от его холода,
Находясь в прострации от этой странной ночи,
От этих вооруженных людей,
На вот этой границе,
Проведенной по его земле.
До смерти перепуганная египетская сторона в лице все того же «Саши с Уралмаша» встретила всех нас широкой арабской улыбкой.
Ставшие почти родственниками, почти родными и близкими в этом своем приграничном бдении, злые и хмурые наши с ней попутчики вновь увлеклись с процедурой рассаживания.
Юркие «голубцы», женщина с прибалтийским паспортом, «лидер-заводила» со своей группой поддержки, парень-молодожен с очень бледной беременной женой, какой-то поникший «Адидас» и ставшие еще более похожими друг на друга «спортивные» семейные пары с вездесущим грязно-белым блайзером брели по автобусному проходу и устало плюхались на свои насиженные места.
Я последовал их примеру и теперь уже с нескрываемым удовольствием растянулся на впервые показавшемся мне таким удобным и родным, автобусном кресле.
Мы, не в силах больше говорить, смотрели друг на друга.
Я - взглядом измученного кокер-спаниеля,
Она - своими огромными бездонными глазами любопытной девчонки, вокруг которой крутится-вертится такая интересная, а еще такая нескучная жизнь.
А затем автобус зарычал и рванул с места, но это меня уже никак не трогало,
То ли потому, что мой организм уже отказывался бороться с какими-то там моими забобонами,
А может, еще и потому, что все мы, теперь уже ставшие точно попутчиками,
Ровно за пять минут,
Коллегиально,
Хотя нет, тогда уже все-таки по-братски,
Опустошившими ставший вмиг коллективным, купленный мной в «дьюти-фри» литр виски.
Сквозь наступающий сон я с улыбкой наблюдал за бегающим по автобусному салону, ставшему таким бодрым и общительным, «Адидасом».
За обо всем позабывшей и без остановки пьющей виски из бутылочной пробки женщины с прибалтийским паспортом,
За закусывающей арабскими конфетами «лидером-заводилой» с ее группой поддержки,
За без остановки жестикулирующим и делящимся своими впечатлениями от поездки,
Причем делящимся со всеми без исключения, уже давно непонятного цвета блайзером.
А затем обстановка всеобщего единения начала проваливаться куда-то в темноту, и я с удивлением для себя плюхнулся головой на ее коленки.
Остатки моего уходящего сознания перестали хвататься за происходящее вокруг, и прежде чем дать мне, наконец, уснуть,
Каким-то неподражаемым эхом, то ли все тем же вопросом, а то ли уже готовым ответом, ухнули в моей голове ее имя.
Была ли это любовь?
Хороший вопрос для только что воскресшего.
Хороший вопрос самому себе, все еще мечущемуся,
Самому себе, проблемному.
Наверное, впервые за много лет,
Не хотящему о чем-то там думать,
Да что там,
До сих пор не умеющему членораздельно говорить,
Когда она смеялась. Когда грустила. Когда рассыпала на меня синие брызги своих больших бездонных глаз.
Она вновь была рядом и, наверное, если и есть на земле счастье, то я тогда испытал что-то подобное,
На этом темном шоссе,
В автобусе,
Что ехал на Шарм-эль-Шейх.
Одна из заученных фраз из советского кино, что в Египте у гидов считается вершиной остроумия.
Персонаж из скетч-сериала «Наша Russia».
Нет комментариев. Ваш будет первым!

