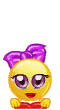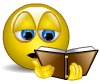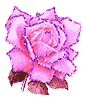Вопреки всему (Роман о Суини Тодде)
18 февраля 2019 -
Нелли Тодд


Мой фотоколлаж "Он вернулся оттуда, откуда нет возврата..."
(Все остальные фотоколлажи - тоже выполнены автором)
Предисловие автора:
Основная идея произведения – умение человека не только противостоять невзгодам, но и победить в себе внутренних демонов, способных озлобить и разрушить раненую душу. Главное – трезво выбрать правильный путь, который в награду приведет тебя к цели ВОПРЕКИ ВСЕМУ.
Это роман о любви во всех смыслах и о жертвах во имя любви, потому что самое ценное в жизни для человека – ЛЮБОВЬ! Как бытие определяет сознание, так любовь определяет, насколько ты человек! Она одна - превыше всех страстей и жажды мести.
Автор заметно изменил характеры героев и сюжет известного канона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Он заглянул в такие места далекой Австралии и викторианского Лондона, где вряд ли кто-нибудь из вас бывал, и сам был поражен увиденным до глубины души. Ведь с целью придания реалистичности повествованию, пришлось изучить немало документальной литературы. Фантазия лишь дорисовывает картину.
Это даже скорее ориджинал, чем фанфик.
«Почему бы не создать что-то исключительно свое?» – спросит читатель. И автор искренне ответит с загадочной улыбкой: «Так захотело мое сердце». А сердцу не прикажешь…
Дорогие читатели, если данная тема заинтересовала Вас, я с интересом буду ждать Ваших писем – подбросьте угольки в очаг моего творческого вдохновения. Это придаст мне силы!
Глава 1. БЕНДЖАМИН БАРКЕР
– Сильнее!
Плеть с резким свистом рассекает обнаженную спину осужденного, разбрызгивая капли крови по сухой пыли.
– Семьдесят пять! Семьдесят шесть! – отрывисто отсчитывает надзиратель.
Из-под навеса раздается зычный голос коменданта:
– Он попадается уже не в первый раз! Давай же, проучи его как следует!
Тонкое, но сильное тело изгибается, содрогаясь от дикой, отчаянной боли. Рослый солдат наносит удары так, словно хочет разрезать его пополам.
– Держись, Бен! – доносится из толпы заключенных. Властный окрик, короткая возня, и ропот затихает.
Еще удар, мучительно-жестокий, но Бен не издает ни звука. Когда тебя травят эти сторожевые псы, стоны разжигают их ярость сильнее крови. Застонать, пусть даже раз – значит поцеловать перед ними пол. Насмешки палачей унизительнее наказания. Здесь, в каторжной колонии, в забытом Богом уголке Австралии, существует лишь один закон – беззаконность угнетения, и те, кто носит форму и оружие, считают себя полными хозяевами тех, кто носит цепи. Виновны или невиновны – все осужденные равны. Страдания порой так велики, что совесть вряд ли мучает сильнее, чем голод, унижения и страх. А если ты не совершал никакого преступления?! Если загнан в этот жуткий ад на краю земли не за что-то, а для того, чтобы?.. Тогда, страшнее всяких пыток, тебя сжигает изнутри слепая горечь, не дающая дышать – месяцы, годы – и, наконец, перерастает в невыносимую жажду мести!
Прошло почти пятнадцать лет. Звучит, как намогильная надпись, прочтенная вслух…
Пятнадцать лет назад у Бенджамина было все. И это не богатство, власть, могущество, не титул короля. Но он был счастливее тех, кто имел только власть – потому что у него было все! Маленькая уютная комнатка на чердаке, большие планы на будущее. Он жил здесь вместе с красавицей-женой и дочерью-младенцем. Наивный молодой цирюльник и его жена в крохотном тихом мирке…
Предисловие автора:
Основная идея произведения – умение человека не только противостоять невзгодам, но и победить в себе внутренних демонов, способных озлобить и разрушить раненую душу. Главное – трезво выбрать правильный путь, который в награду приведет тебя к цели ВОПРЕКИ ВСЕМУ.
Это роман о любви во всех смыслах и о жертвах во имя любви, потому что самое ценное в жизни для человека – ЛЮБОВЬ! Как бытие определяет сознание, так любовь определяет, насколько ты человек! Она одна - превыше всех страстей и жажды мести.
Автор заметно изменил характеры героев и сюжет известного канона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Он заглянул в такие места далекой Австралии и викторианского Лондона, где вряд ли кто-нибудь из вас бывал, и сам был поражен увиденным до глубины души. Ведь с целью придания реалистичности повествованию, пришлось изучить немало документальной литературы. Фантазия лишь дорисовывает картину.
Это даже скорее ориджинал, чем фанфик.
«Почему бы не создать что-то исключительно свое?» – спросит читатель. И автор искренне ответит с загадочной улыбкой: «Так захотело мое сердце». А сердцу не прикажешь…
Дорогие читатели, если данная тема заинтересовала Вас, я с интересом буду ждать Ваших писем – подбросьте угольки в очаг моего творческого вдохновения. Это придаст мне силы!
Глава 1. БЕНДЖАМИН БАРКЕР
– Сильнее!
Плеть с резким свистом рассекает обнаженную спину осужденного, разбрызгивая капли крови по сухой пыли.
– Семьдесят пять! Семьдесят шесть! – отрывисто отсчитывает надзиратель.
Из-под навеса раздается зычный голос коменданта:
– Он попадается уже не в первый раз! Давай же, проучи его как следует!
Тонкое, но сильное тело изгибается, содрогаясь от дикой, отчаянной боли. Рослый солдат наносит удары так, словно хочет разрезать его пополам.
– Держись, Бен! – доносится из толпы заключенных. Властный окрик, короткая возня, и ропот затихает.
Еще удар, мучительно-жестокий, но Бен не издает ни звука. Когда тебя травят эти сторожевые псы, стоны разжигают их ярость сильнее крови. Застонать, пусть даже раз – значит поцеловать перед ними пол. Насмешки палачей унизительнее наказания. Здесь, в каторжной колонии, в забытом Богом уголке Австралии, существует лишь один закон – беззаконность угнетения, и те, кто носит форму и оружие, считают себя полными хозяевами тех, кто носит цепи. Виновны или невиновны – все осужденные равны. Страдания порой так велики, что совесть вряд ли мучает сильнее, чем голод, унижения и страх. А если ты не совершал никакого преступления?! Если загнан в этот жуткий ад на краю земли не за что-то, а для того, чтобы?.. Тогда, страшнее всяких пыток, тебя сжигает изнутри слепая горечь, не дающая дышать – месяцы, годы – и, наконец, перерастает в невыносимую жажду мести!
Прошло почти пятнадцать лет. Звучит, как намогильная надпись, прочтенная вслух…
Пятнадцать лет назад у Бенджамина было все. И это не богатство, власть, могущество, не титул короля. Но он был счастливее тех, кто имел только власть – потому что у него было все! Маленькая уютная комнатка на чердаке, большие планы на будущее. Он жил здесь вместе с красавицей-женой и дочерью-младенцем. Наивный молодой цирюльник и его жена в крохотном тихом мирке…
.jpg)
И вот однажды все разбилось – мгновенно, как разбивается хрусталь.
На свете, как ни странно, есть люди, способные доказать, что правда лжет, а снег – чернее сажи. Это люди со связями – пауки в центре огромной паутины, которую для своего удобства они зовут законом.
Обрывки фраз, казалось бы, не предвещающих беды, все до единого засели в его сердце, как осколки, и эхом отдавались в памяти даже спустя пятнадцать лет.
– Дорогой мистер Баркер, – любезным тоном обращается к Бену лондонский судья, как-то странно поглядывая на Люси, его жену, и та смущенно отводит в сторону глаза, укачивая ребенка. – Вы прекрасный человек и достойны блестящего будущего. Я хотел бы… – Он делает многозначительную паузу, – поручить вам миссию, которая изменит вашу жизнь!
Высокий гость, один их постоянных клиентов искусного цирюльника, всегда изысканно галантен и нередко выказывает ему свое благоволение, однако это неожиданное предложение заметно превышает меру обычной благодарности.
– Что нужно сделать? – настороженно спрашивает его Баркер.
– Вы поедете в Бристоль – завтра вечером! Вот документы, рекомендательные письма… Дело займет всего лишь… несколько месяцев, – изрекает судья Торпин, словно речь идет о безделице.
– Я не могу оставить так надолго жену и дочь! – горячо восклицает Бенджамин.
– Но это необходимо! – Короткая фраза звучит, как приказ.
Бен не подчинился приказу. Каким бы наивным не был юный цирюльник, у него возникло подозрение, что судья положил глаз на его жену. Ему тогда не приходило в голову, насколько далеко способна зайти несправедливость, как просто власть имущим убрать препятствие с пути. Но вскоре первые удары сбили его с ног: по нелепому обвинению в краже он попал за решетку. Бенджамин до последнего не верил в свою гибель, пока не выслушал чудовищный приговор в суде.
– Пожизненная каторга в британской колонии в Австралии! – прозвучало, точно выстрел, и в сердце ему врезались беззвучные отчаянные слезы Люси, громкий плач маленькой Джоанны на руках у матери… и короткий отрывистый стук молотка.
Свершилось. Его бесчестно обвинили в том, чего он не совершал, и отправили туда, откуда не вернуться назад. Австралия – неизвестный дикий мир на другом конце земли, Австралия – значит смерть!..
– Отвязывай! – раздается короткий приказ. Сабля со свистом разрубает веревку, и Бенджамин без сил соскальзывает наземь, падая на колени в пыль. Еще секунда – и его израненное тело скатится под ноги палачу. Но прежде осужденный успевает вскинуть голову, и пронзительный взгляд окруженных красноватыми тенями черных глаз заставляет ненароком вздрогнуть самого коменданта…
– Выпей немного. – Чья-то рука настойчиво треплет Бена по щеке, и в его пересохшие губы упирается край глиняной миски. С усилием он отрывает голову от земляного пола, делает несколько глотков, вдыхает тухлую сырость барака и срывается на кашель.
– Завидую твоему мужеству, если тут вообще есть чему позавидовать! – подбадривает Бена старый негр. Кто, как не он, приносит ему воду после порки. Они прибыли сюда в одном трюме, скованные одной цепью. Черный и белый. Оба отверженные, все равно, что казненные, вычеркнутые из списка живых. А с ними – еще сотни. Многие уже по-настоящему мертвы... Последние бесспорно счастливее.
– Спасибо, Том… – Бенджамин тяжело опускается на подстилку из гнилой соломы. До странности бледный, с черными волосами и серебристо-белой прядью над правым виском, тонкими чертами лица, истощенного лишениями, он похож скорее на призрака, чем на живого.
– В следующий раз сбежишь – тебе точно не выжить. Я бы ни за что больше не рискнул! – Оставив Бену миску, Том с тяжелым вздохом ложится рядом у стены. Тело его, выносливое, закаленное, все еще верно служит своему хозяину, только теперь хозяин не прикажет ему лишнего: довольно вытерпел. Что толку попусту зарабатывать удары? Свободы за них не купишь. На воле, было время, трудился не покладая рук, а в награду – жалкие гроши; сроду не был вором, а украл… Да стоит ли об этом вспоминать? Веки Тома утомленно смыкаются, и его суровое неподвижное лицо словно становится частью полумрака. Иногда нужно закрыть глаза, чтобы увидеть свет. Хотя бы ненадолго – слабый проблеск, тлеющую искру, пусть даже не наяву.
Вскоре двери барака крепко заперли, барабаны пробили отбой. Ночи здесь порой чересчур коротки. А дни… О, лучше б вовсе не рассветало!..
Двое суток промелькнули для Бенджамина в полубеспамятстве. Лихорадочный бред, пробуждение, бессилие, боль и снова тьма – перед открытыми глазами… По утрам и поздно вечером Том приносил ему пить и немного еды – скудную пищу, приготовленную заключенными, или нечто на нее похожее. Прикладывал к израненной спине товарища пропитанные мазью полоски ткани, – немногое, чем мог помочь тюремный доктор, – но это не облегчало страданий Бена: все его тело горело как в огне.
Ночами в потемках душного барака, наполненного тяжким дыханьем спящих заключенных, его преследовали странные видения. Вот она снова перед ним – та самая дорога между скал, по которой арестантов под конвоем сопровождают каждый день на угольные копи и обратно. Все остальные пути закрыты. Значит ли это, что их не существует?.. Пыль, рыжеватая в свете вечернего солнца еще не остыла, ветер вздымает ее и порывисто дует в лицо. Мерные шаги вперед без цели, слепо, подневольно, по приказу, монотонное бряцанье цепей…
«Эй, номер тридцать восемь! Встать немедленно!» – Свист плети, приглушенный стон и снова гневный окрик: «Я проучу тебя, ленивая собака! Встать, кому сказал!» Упавший силится подняться, но грубые удары отбрасывают его наземь. И вдруг две или три пары рук оттаскивают надзирателя от жертвы. Брань, торжествующие, яростные крики; с десяток заключенных окружает его тугим кольцом… «Стоять!» – Лязг оружия и, один за другим, несколько выстрелов в воздух. Бен замирает, словно пуля пронзила его насквозь – лихорадочно-стремительная мысль искрой вспыхивает у него в мозгу: «Сейчас!» Рядом, справа от него между скал вьется узкая тропинка. В его распоряжении короткий промежуток времени между щелчком затвора и вторым предупреждением… Охрана с ружьями на изготовке не увидит, как позади них убегает арестант. Еще секунда – и потасовка прекратится!..
Некогда раздумывать и сомневаться! Беззвучно, словно тень, Баркер метнулся под прикрытие скалы. Никто не решился бы, а он это сделал! Зачем?! Как вообще он очутился в самом конце колонны? В своем безумном, отчаянном порыве Бен даже не заметил, что бросился в сторону моря вместо того, чтобы добраться до диких труднопроходимых джунглей и затеряться в зарослях. Что на него нашло? Нет, это бред, кошмары воспаленного сознания!
Две ночи напролет ему мерещились извивы бесконечной, убегающей из-под ног тропы, расщелины, уступы, отвесные обрывы. За плечами сухо щелкали ружейные затворы, где-то в тумане беспокойно шумело море… Сдаваться рано! Еще усилие… Он выберется! Он уверен – ему есть ради кого бороться и выжить вопреки всему!..
Только к утру, очнувшись от мучительного сна, Бенджамин понимал, что самое ужасное произошло с ним наяву, а призраком оказалась лишь свобода. Случаи для побегов предоставлялись довольно часто. Для неудачных побегов. Уж лучше бы он был закован в кандалы! В который раз его схватили и вернули...

Впервые Бен пытался вырваться на волю, не отбыв и года заключения. Отбросы человеческого общества, окружавшие его, бесчеловечная жестокость надзирателей, растаптывающая в прах достоинство и личность, толкали Баркера на самые безумные поступки. Чудовищная обстановка, немыслимая цивилизованных людей, и впрямь кого угодно могла лишить рассудка. Еще неопытный и одинокий среди всей этой пестрой братии воришек и авантюристов, Бен вызывал их дружный смех своими тщетными попытками добиться справедливости. Значение этого слова здесь искажалось до неузнаваемости. Дерзкие порывы пробиться сквозь барьер запретов и затворов снова и снова приводили его в тупик. Только смерть могла открыть ему все двери, взломать решетки и разрушить стены. Но Бен упорно искал не смерти, а спасения. Свободные, не скованные и не связанные, не огражденные препятствиями камня и железа, люди даже не подозревают, какой прекрасный дар – принадлежать лишь самому себе и тем, кто тебя любит, бежать навстречу ветру, дышать, не думая, насколько хватит воздуха. Для каторжника каждый ломоть хлеба – это день, украденный у смерти, а каждый вдох во тьме сырого карцера украден у других несчастных, заточенных вместе с ним. И как бы не старались вы представить себя на месте обреченных на цепи и нечеловеческие муки, вам не привидятся в самом ужасном, лихорадочном бреду те испытания, что довелось им вынести лицом к лицу с реальностью. Первая порка за попытку бегства была для Бенджамина самой жуткой за все время заключения. Последующие, порою более жестокие, уже не вызывали в нем такого ужаса. Физические наказания назначались за малейшую провинность, а бегство с каторги каралось особенно сурово. Бенджамин был приговорен к пятидесяти ударам плетью и месяцу тюрьмы, где пищи выдавали ровно столько, чтобы продлить страдания, но не спасти от них. Во сне ему порой казалось, что его измученное голодом и болью тело умирает, освобождая истомившуюся, израненную душу. Тогда он ощущал неописуемое облегчение, почти блаженство – и тут же судорожно цеплялся за свою загубленную жизнь: она нужна была ему, чтобы вернуться.
Второй попыткой Бена был дерзкий план пробраться вместе с Томом на корабль, доставивший в колонию продовольствие из Сиднея. Но боцман вдруг перед отплытием надумал спуститься в трюм и обнаружил беглецов. Обоим полагались порка и тюрьма. Со временем упорство Баркера вызвало симпатию и одобрение среди преступников, которые в неволе больше всех на свете презирали плакс и слабаков, считая эти качества самыми низкими пороками.
Прошло почти шесть лет, а Бен уже два раза бросил вызов смерти и гнету заключения. А что давал ему такой суровый опыт? Ничего, кроме шрамов от плетки и двойных кандалов. Но заключенные теперь уже не смели над ним смеяться, хоть и не признавали его вполне «своим». Бенджамин Баркер был каким-то странным, как будто из другого теста. Его незыблемые принципы и убеждения считались неуместными в среде, где грубое понятие о превосходстве диктовало совсем иные правила. И первое из них гласило: «либо ты охотник, либо – дичь». То был неписаный закон любой тюрьмы. Бенджамин оставался вне игры, не угождая сильным и не подчиняя себе слабых. Он был неразговорчив и доверял свои секреты только Тому. Никто не слышал, чтобы он смеялся, никто не видел его слез. Он научился молча выносить удары плети и говорить, когда считал необходимым. Надежда обрести свободу была единственным стремлением, которое поддерживало в нем отвагу. Однажды ночью он воспользовался тем, что надзиратель ненадолго отлучился, и в третий раз попробовал сбежать и переплыть залив, после чего был снова схвачен и приговорен к жестокой порке, карцеру и ряду штрафных работ. Он греб на шлюпках, строил мол по грудь в воде, молол кайенский перец. Последнее считалось самым страшным наказанием: едкая пыль разъедала глаза, а легкие жгло, как в огне. Что еще можно было придумать, чтобы сломить его дух? После четвертой попытки побега с тем же верным товарищем, негром по имени Том, оба отправлены были туда, где безграничное небо и вечно зовущее море больше не будут их искушать – на угольный рудник*. Четыре года в тяжелых кандалах ушли для них на долгую дорогу в самые недра этой прóклятой земли, вглубь темного тоннеля и обратно – в барак для заключенных. Дни медленно ползли по замкнутому кругу. Море шумело где-то далеко, за каменной грядой, а небо словно отвернулось от них. Тогда два друга притворились покоренными, усердно выполняя свою работу, и вскоре за терпение и послушание с них сняли кандалы…
– Комендант распорядился, чтобы этот заключенный снова был закован в цепи и заперт в карцер на две недели! – раздался гневный голос надзирателя. – Следовало посадить его еще два дня назад вместе с теми бунтарями, что учинили драку.
Бенджамин вздрогнул. Приоткрыв глаза, он разглядел в потемках опустевшего барака две пары башмаков на уровне своего лица. Все остальные заключенные, по-видимому, находились на руднике.
– Но мистер Бейс, он еще слишком слаб. Это убьет его! – вежливо, но твердо возразил его спутник.
– Вы каждый раз так говорите, доктор Браун, когда кого-то надо наказать! – довольно резко бросил ему Бейс. – Все эти плуты превосходно притворяются! Держу пари, что он поднимется мгновенно, если я высыплю ему на спину жменю соли!
– Не забывайте, что я – доктор, и меня не так-то просто обмануть! – повысил голос Браун, возмущенный этой грубостью. – За что вы ненавидите своих товарищей? Ведь вы не так давно таскали бревна вместе с ними!
– И если не исполню приказа коменданта, то снова буду их таскать, – отрезал Бейс. – Я, как вы сами говорите, – такой же каторжник, а потому получше вашего знаком с их фокусами и уловками. Когда нам надо притвориться мертвыми, то мы умеем даже не дышать! – с вызовом прибавил он.
Спорить с ним дальше не имело смысла. Не считая личной антипатии к Бенджамину Баркеру, Бейс был звеном искусно продуманного механизма – такие звенья приводил в движение один большой рычаг. Заключенный, назначенный надзирателем, был избавлен от тяжелого труда и издевательств, но прежние товарищи по ссылке видели в нем своего злейшего врага, что отрезало ему путь назад. Стараясь удержаться на посту и неуклонно выполняя предписания начальства, надзиратель поневоле становился столь же беспощадным, как солдаты. А их отряды, набираемые для службы в каторжных колониях, состояли из людей отнюдь не лучших…
Так, несмотря на доводы доктора Брауна, Бенджамин Баркер в то же утро под охраной был препровожден в тюрьму, которая располагалась на берегу залива.
Уже пять раз он безуспешно пытался вернуть себе свободу, и в пятый раз его надежды разбивались в прах. Сейчас, после жестокой порки, запертый в карцере, одно упоминанье о котором внушало страх даже законченным преступникам, какой еще, более суровой меры наказания мог он ожидать? Есть ли место глубже и чернее, чем подземные угольные копи? Разве только ад…

Каторжная тюрьма, построенная на скалистом берегу, стояла к северо-востоку от барака, обнесенного высоким частоколом, где жили заключенные. Ее угрюмо-серые приземистые стены казались высеченными из скалы самой природой. Но то была иллюзия: на дикой, до сих пор еще неизведанной людьми земле эта тюрьма была построена руками каторжников. Чуть поодаль помещались лазарет и солдатские казармы. Рудник располагался южнее частокола. Добраться туда можно было по извилистой каменистой дороге между скалами. На западе, за каменной грядой, тянулись густые, непроходимые леса.
В этом мире, отрезанном от цивилизации, с его дикими джунглями, неприступными скалами, и рокочущим морем, самым жутким, поистине прóклятым местом являлась тюрьма. В ее подземных карцерах, так называемых «крысиных норах» с низкими каменными сводами, запирали по пять или даже по шесть арестантов и держали там неделю-две, а то и дольше, в кромешной темноте. Единственной отдушиной было зарешеченное окошко в железной двери. Через него, не чаще, чем раз в сутки, приоткрыв решетку, в камеру бросали малопригодные для пищи черствые отбросы, которые вслепую «делились» между заключенными. Само собою, доли не бывали равными: пользуясь темнотой, самые сильные старались отобрать себе как можно больше.
Название «крысиная нора» имело смысл куда более ужасный и отвратительный, чем замкнутое, тесное пространство. Те, кто хоть однажды попадал туда, клялись, что лучше вытерпеть три порки сряду, чем заключение в подобном карцере. Говорят, что крысы, запертые в клетке без еды, вскоре начинают пожирать друг друга, и в итоге остается лишь одна – «крысиный волк». Теряя человеческие качества, люди становятся во многом схожи с крысами и волками. Нередко при обходе часовые находили кого-то из заключенных умершими, якобы от истощения или от недостатка кислорода, во что легко было поверить, исключив такие обстоятельства, как яростные драки за жалкие куски сухого хлеба и жилистого мяса. Поскольку в камере сидела сразу группа узников, и все происходило в полной темноте, виновных даже не пытались отыскать.
В одном из этих жутких тупиков, где зрение бессильно перед непроницаемой могильной чернотой, а тело живет лишь осязанием и обостренным слухом, был заточен сейчас Бенджамин Баркер. Спертый воздух, пропитанный сыростью подземелья, был настолько тяжел, что дыхание походило скорее на затяжное удушье. Только, если прижаться лицом к самой решетке, можно было вдохнуть слабый сквозняк, но и это едва уловимое дуновение подбадривало лишь тех, кто сидел у двери. Временами в камере раздавались ругань, сдавленные стоны и гулкие удары о железо – это зажатые между стеной и телами своих соседей заключенные прорывались к спасительной отдушине. Им, в свою очередь, не без усилий, удавалось продержаться у окошка несколько минут, буквально ощущая затылком горячее дыхание остальных.
Так продолжалось днем и ночью; дни были беспросветно-темными, ничем не отличаясь от ночей. Но были ежедневно две или три минуты, по которым арестанты безошибочно определяли время суток – вечер, когда тюремщики приносили им воду и «еду».
Однажды, вскоре после привычного обхода, в коридоре снова раздались шаги.
– Сколько заключенных в этом карцере? – прогудел чей-то властный голос.
– Шестеро, – последовал ответ.
– Отпирай!
– Но… ведь их уже шестеро, – озадаченно повторил подчиненный.
– Надо их проучить! Отпирай, говорю!
В скважине со скрежетом повернулся ключ, дверь приоткрылась, и вместе с потоком сырого воздуха в душную камеру, согнувшись, влетел худой, высокий юноша в разорванной рубашке. Перед ослепленными светом фонаря арестантами промелькнуло его бледное, искаженное ужасом лицо.
– А, это ты, Цыпленок! – ухмыльнулся один из узников. В его басистом голосе, похожем на звериное рычанье, сквозили жадность изголодавшегося хищника и глубочайшее человеческое презрение. – А я уж думал, что ты так и будешь прохлаждаться на кухне в комендантском доме, пока мы тут грызем сырую землю на руднике! Недолго же тебя держали на господском хлебе!
Отбросив с разбитого лба пряди слипшихся светлых волос, юноша замер, уставившись на лысого круглоголового гиганта, похожего на крупную гориллу из африканских дебрей.
– Джим Траверс! – выговорил он дрожащими губами.
В ту же секунду дверь захлопнулась. Камера погрузилась в темноту. Пока за поворотом коридора не затихли удаляющиеся шаги тюремщиков, в карцере слышны были только хриплое короткое дыхание и приглушенное бряцанье цепей.
– И как теперь нам всемером ютиться в этой собачьей конуре? – угрюмо бросил кто-то, крепко выругавшись.
– Вот что, Цыпленок, – прошипел с угрозой Траверс из своего угла. – В этой гостинице места заказывают наперед. Но мы уступим тебе самое почетное: все сидят, согнувшись в три погибели, а ты будешь лежать! А ну топчи его, ребята! Подстелем его под низ! – И говоривший что есть силы ударил новобранца подкованным железом каблуком.
– Не-е-е-ет! Помогите! – Каменные своды содрогнулись от истошных криков, которые тюремный сторож принял бы за звериный вой, окажись он среди леса.
Огромное, со множеством цепких, как щупальца, рук и железных копыт, чудовище с утробным рычаньем заворочалось в своей берлоге, оплетая тело своей жертвы, как змея тугими кольцами обхватывает мелкую добычу, чтобы задушить.
– Выпустите! – Придавленный неимоверной тяжестью, юноша снова закричал, на этот раз уже слабее, и хриплый стон заглох, так и не вырвавшись из зарешеченной отдушины. – О Боже!..
Его безжалостно топтали, как топчут виноград на винодельне.
– Эй, выпустите господина! – раздался издевательский смешок. – Его апартаменты наверху: там спальня с видом на залив, роскошная кровать под балдахином… и мраморная ванная!
Раскатистый злорадный хохот, одобрительная брань… Снаружи никто не отозвался. Еще немного, и от юноши осталось бы сплошное месиво. Внезапно резкий, напористый толчок – случайно или намеренно? – отбросил грузно наседающую плоть с его лица, и чья-то скованная цепью твердая рука нащупала его плечо, как будто подавая знак подняться. Со свистом жадно втягивая воздух, юноша из последних сил вцепился в эту руку израненными пальцами, как утопающий хватается за весло гребца, и вынырнул из удушающего вязкого болота сплетенных тел.
Его преследователи вслепую расталкивали друг друга.
– Он ускользнул как угорь!
– Где он?..
– Это что еще такое! – яростно взревел Джим Траверс, шаря вокруг себя огромными вспотевшими ручищами.
– Оставь его в покое, Людоед! – Негромкий, но звучный голос прорезал темноту. Он требовал настойчиво и непреклонно, хоть и не угрожал, и тот, кого с презрительной насмешкой назвали попросту Цыпленком, почувствовал, как человек, прикрывший его собой, напрягся всем своим упругим, мускулистым телом, приготовившись к удару.
Остальные, затаив дыханье, ожидали, что же перевесит в этой схватке: грубая сила или мужество? Закон в тюрьме таков же, как и за ее стенами: повелевает победитель, а те, что послабее, присоединяются к нему.
– Какого черта! – Людоед резко выбросил руку навстречу противнику, точно собираясь зажать ему рот, но его кулак с размаху обрушился на стену. – Держись подальше от меня, защитник слабовольных: я в порошок тебя сотру!
– Не забывай, что мы не звери, хоть и в клетке, – осадил его все тот же голос, и в камере повисла тишина. Слышно было только бряцанье железной цепи.
Траверс язвительно хмыкнул, но его мощная рука больше не поднялась, как будто энергия гиганта, наконец, иссякла. А может эти сказанные с достоинством слова внезапно отрезвили его помутившийся от ярости рассудок? Порою не оружие и не физическое превосходство заставляют подчиняться дикие натуры. Джим Траверс мог бороться насмерть с себе подобными и мучить слабых, но этот неизвестный, противоречивший ему, единственным оружием которого в кромешной тьме был его голос, не поддавался власти грубой силы. Так тигра укрощает воля, чуждая жестокости. Вместо ответного удара кто-то вдруг без тени страха напомнил Людоеду, что он – человек.
– Если жалеешь этого мальчишку, так посади его к себе на плечи! – огрызнулся Траверс, прекрасно сознавая, что высота их камеры не позволяла подобной роскоши.
Остальные вздохнули свободнее, как будто кто-то отвел горящий факел от бочки с порохом. Двое или трое отозвались на шутку Людоеда услужливым смехом и притихли – на время. Те, кому посчастливилось оказаться возле двери, жадно потянулись к решетке.
Зажатый в самый угол карцера, уткнувшись в спину своего спасителя, Цыпленок так и не осмеливался пошевелиться. Его щека и руки касались грубой ткани, насквозь пропитанной какой-то липкой влагой, а ноздри щекотал солоновато-металлический соленый запах крови.
– Что это? – прошептал он бессознательно.
По телу под его ладонями пробежала болезненная дрожь. Можно было только догадываться, какие муки терпел при каждом толчке сокамерников этот человек с израненной спиной, вдобавок ко всему закованный в железо.
– Осторожнее, – сказал он только и слегка, насколько позволяло место, отодвинулся вперед.
Цыпленок силился припомнить, кому принадлежал этот глубокий, твердый голос, в звучании которого заключался упорный и непреклонный характер говорившего, но не мог. Мужество, перед которым отступил даже такой отъявленный преступник, как Джим Траверс, переполняло его сердце горячей благодарностью. Но он боялся произнести хоть слово: остальные узники с обострившимся во мраке слухом уловили бы даже легкий шепот. Однако темнота скрывала его движения. Юноша отыскал наощупь руку, с которой свешивалась цепь, и крепко пожал ее.
Чернота тупика представлялась бесконечностью, поглотившей чудовище, совсем недавно бесновавшееся здесь… Но внезапно, разрушив иллюзию, где-то рядом послышалось угрожающее бормотание Людоеда:
– Сегодня я уступил тебе, но знай: это в последний раз… Бенджамин Баркер!
* До XX века рудниками называли также угольные шахты.
Глава 2. МИЛОСЕРДИЕ ДЛЯ ПРОКЛЯТЫХ
Порою существуют скрытые угрозы, которые непросто распознать. Они преследуют, подстерегают, окружая нас кольцом при свете дня, прозрачные, как воздух, неуловимые, как призраки. И самое опасное в них – непредсказуемость. А есть угрозы, которые ты ясно видишь, даже не раскрывая глаз.
Баркер приготовился к еще одной атаке. Часами напролет он кожей чувствовал во мраке хищный взгляд изголодавшегося волка. И этим волком был Джим Траверс. Бенджамин знал наверняка: он выжидает. Временами у дверной решетки вспыхивали потасовки. Между кем – дерущимся было совершенно безразлично. Такие вспышки быстро угасали. И ярость, и отчаяние узников разбивались о каменные стены, как одни и те же волны мощного прилива.
Но был один из них, чьи злоба и досада, не находя пути наружу, точно пули, засели глубоко внутри. Он сам не мог понять, что же мешало ему выплеснуть наружу весь накопившийся в нем гнев. Его прозвали Людоедом и боялись не только простые арестанты, но и надзиратели из их числа. И по какой причине он вдруг спасовал перед каким-то Баркером, которого без кандалов буквально ветром сносит?! Джиму ничего не стоило впечатать его в стену, раз и навсегда дав понять товарищам, кто здесь главный! Почему же он вдруг отступил? Неужели пощадил этого упрямца лишь потому, что на его спине живого места не было? Полно, жалость к слабакам – не его порок. Только на самом деле Баркер, даже изможденный муками и голодом, не был слабаком, и Траверс поневоле признавал: в этом человеке сидело нечто, чего не сокрушить ударом кулака. Бен умел за себя постоять и нередко, когда его втягивали в драку, побеждал своих обидчиков, но то было другое. Сила, непостижимая для ограниченных умов, уже не в первый раз каким-то чудом заставляла каторжников подчиняться Бену. И мало кто из них подозревал, что эта сила на самом деле спрятана у них внутри…
Траверс по-прежнему преобладал над заключенными, но лишь физически: он нагло отбирал у них еду, грубо расталкивал, чтобы пробраться к вожделенному окошку, срывая зло на тех, кто не ответит. Казалось, его, как никого другого, душила ненависть к каждому камню и каждому дюйму живой человеческой плоти, зажатой в одном капкане вместе с ним. Он знал, что Баркер каждую секунду ожидает его мести, и мысленно злорадствовал, испытывая терпение своего врага. Пусть подождет… Пока. У Джима Траверса скоро созреет план похитрее: он уничтожит эту силу, подорвавшую его авторитет. И сделает это при всех!
Еще два раза в камеру бросали пищу – прошло два дня. Бенджамин считал эти обходы с самого начала: ему осталась еще неделя. Следующим вечером шестеро заключенных вздохнули с облегчением: Людоеда выпустили.
– Счастливо, крысиный волк, – пробормотал один из них, когда тюремщик с грохотом захлопнул дверь за Траверсом.
Дьявол отправился наверх – остался только ад…
Закончилась вторая неделя заключения, но Бена не выпускали из тюрьмы. Из карцера в подвале его перевели наверх – теперь ночами он мог свободно лежать на нарах в одной из одиночных камер, которые в тюрьме, заполненной сверх меры, обычно делили двое или трое арестантов. А днем дробил на щебень глыбы камня во дворе под неусыпным оком надзирателей. К счастью, на этот раз его соседом по заключению был безобидный старый каторжник по имени Мэттью, познавший все тяжелые работы и варварские наказания, какие только может придумать человек, чтобы истязать себе подобных.
Для осужденных, сосланных на каторгу существовало несколько лазеек, которыми они могли воспользоваться, чтобы, не нарушая приговора, хоть немного облегчить свою судьбу. Первой, как уже упоминалось выше, была возможность занять пост надзирателя. На эту привилегию, впрочем, весьма опасную, могли рассчитывать лишь арестанты «отличного поведения». Само собою, «трудные» и «буйные», работавшие в кандалах, такого поощрения не заслуживали.
Второй лазейкой было жениться на свободной женщине, к которой ссыльный арестант мог быть приписан, как слуга. При этом, в случае необходимости, жена могла подать на мужа жалобу и засадить его в тюрьму или даже потребовать, чтобы его выпороли. Давным-давно, в самом начале своей ссылки, Мэттью женился таким образом на женщине, которая, не испугавшись тягот колониальной жизни, отважно последовала за ним в Австралию. Только та, что любит искренне и бескорыстно, способна устремиться в неизвестность, не оборачиваясь и не соизмеряя с силой духа телесных сил. В итоге их нелегкое счастье продлилось недолго. Всего через два года Мэттью лишился своего единственного ангела-хранителя – его жена внезапно умерла от лихорадки, и каторга, подобно топкому болоту, снова засосала свою жертву.
Третий способ, схожий с предыдущим, заключался в том, чтобы поступить на службу в чей-нибудь богатый дом, хоть это и противоречило идее продуктивного труда на благо общества и ради искупления вины. Однако же портной, дворецкий или повар вряд ли отправится в Австралию в поисках работы, а богачи и привилегированные, состоятельные люди вроде местных судей, чиновников и комендантов без них пока не научились обходиться. Поэтому на арестантов, обученных каким-либо ремеслам существовал особый спрос. На фоне мелких, в основном, безграмотных воришек, здесь попадались даже банковские клерки, осужденные за подделку векселей. Но воры, как ни странно, тоже пользовались спросом. Из них зажиточные австралийцы набирали себе охрану: грабителю виднее, как обезопасить дом от кражи. Кроме того, немало фермеров нуждались в дешевой рабочей силе: ведь каторжников надо было лишь кормить и одевать, а жалованье им не полагалось.
И эта третья спасительная возможность представилась однажды молодому ссыльному по имени Билли Кэрол, которого за хрупкое сложение и робкий, застенчивый характер на каторге с пренебрежением прозвали попросту Цыпленком. Он появился здесь совсем недавно. Извращенные и низменные нравы, с которыми он сталкивался ежедневно в общем бараке и на руднике, приводили его в ужас едва ли не сильнее, чем жестокость надзирателей. На воле Билли Кэрол работал поваром в доме богатого банкира, и, каким бы суровым и придирчивым ни был его господин, юноше никогда не приходилось слышать от него отборной брани на каторжном жаргоне. Все преступление несчастного заключалось в том, что он влюбился в дочку своего хозяина, который, узнав об этом, самым бесцеремонным образом обвинил его в воровстве. На каторге полезная профессия довольно скоро сослужила службу Кэролу: комендант устроил его поваром к себе на кухню. Юноша был спасен… на неопределенный срок. Но через несколько недель все сорвалось. Нетрудно объяснить причину лютой ненависти и злорадства, с которыми набросились на него в тюрьме Джим Траверс и ему подобные.
Цыпленок вышел из карцера понурый и изможденный, как будто он провел там целый год. Тюремщик вытолкал его во двор и жестом повелительно, без лишних слов указал ему на груду камней и молоток. Утро приоткрыло арестантам краешек бронзового неба, заключенный в продолговатый каменный прямоугольник. Их было около пятидесяти – в серых и желтых куртках. Последние считались особенно опасными, они работали в цепях. Такую же одежду каторжника из категории «неисправимых» носил теперь Бенджамин Баркер. Сидя напротив Билли Кэрола, он украдкой бросил взгляд на его осунувшееся бледное лицо и ссутулившуюся фигуру. Перед юношей лежали огромные глыбы камня, а он с трудом удерживал в руках тяжелый молоток…
Бен пытался представить, во что превратит его каторга через несколько лет… если он выживет. Кругом звенело и стучало опостылевшее железо, монотонно сотрясая знойный воздух. В этих звуках тонули приглушенные вскрики арестантов. Их озлобленность походила на какое-то странное исступленное рвение. За годы непрерывного усердного труда они могли бы искрошить на щебень целую тюрьму. В действительности все то же несокрушимое железо подтачивало силы, веру и волю в них самих.
Мелкие нарушители закона, затерянные в общей массе цивилизованного общества, не представляли для него существенной угрозы, но настоящими преступниками их делала именно каторга. Злоба этих затравленных существ была сильна настолько, что просто не оставляла места для раскаяния. И если даже самая тяжелая работа в редких случаях могла кого-то перевоспитать, то обращение тюремщиков стирало в осужденных личность и скудные задатки человеческого, еще не до конца загубленные пороками. А наравне с мошенниками и бандитами все эти издевательства порой терпел бедняк, укравший пару башмаков! Что говорить о невиновных?
– Ах ты, собака! – резкий окрик надзирателя внезапно перекрыл удары молотков. – Ты яйцо очищаешь или камень долбишь?
Оторвавшись от работы, Бен увидел, как отброшенный увесистым ударом Билли вылетел на середину тюремного двора. В двух шагах от него, точно столб, возвышалась фигура в черной сутане.
По рядам заключенных прокатился неприязненный ропот.
– И чего это долгополого сюда принесло? Отпевать-то пока вроде некого, – криво усмехнувшись, проворчал Мэттью.
По-видимому, пастор обладал хорошим слухом. Горькая, в чем-то справедливая ирония, прозвучавшая в замечании старого каторжника, явно задела его: здесь слишком часто пригодилось молиться об усопших, которым даже не хватало времени покаяться в своих грехах.
– Я пришел наставить вас, потому, что находясь в тюрьме, вы не можете послушать проповедь вместе с остальными, – нахмурившись, ответил пастор. – Мое предназначение, в первую очередь – заботиться о душах живых людей!
Нагнувшись, он помог подняться Билли, который, широко раскрыв глаза, смотрел на него снизу вверх, точно на ангела, сошедшего с небес. По команде надзирателя молотки замолкли, и последние слова священника отчетливо, как удары колокола, прозвучали в наступившей тишине.
Он снова выпрямился и окинул взглядом длинные ряды своей угрюмой паствы, которой собирался пообещать прощение и рай в награду за христианское смирение. Увы, он был похож на одинокую гранитную скалу посреди расступившегося моря. Он поднял к небу светлые глаза, с виду спокойные, но озаренные внутренней энергией и произнес:
– Прости им, Отче! Ибо не ведают, что творят*.
– Мы не слышим ваших проповедей: мы оглохли от стука молотка и кирки! – хмуро пробормотал в ответ еще не старый, но сгорбленный и исхудавший арестант. Должно быть, он хотел с пренебреженьем плюнуть под ноги пастору, но вовремя сдержался. – Вы, как вас… ваше преподобие…
Гладкий лоб священника прорезала тонкая морщинка, губы непроизвольно сжались, но взгляд остался невозмутимым.
– Мое имя – Джефри Левен, – с достоинством ответил он. – Отец Левен.
– Так вот, мы верим лишь тому, что видим – в преисподнюю. А вы ее не видите, пастор Левен? – прибавил с вызовом все тот же каторжник.
Священник предостерегающе остановил его движением руки. Он считал своим призванием вразумлять, а не выслушивать упреки заключенных.
– Милосердие и прощение Божье существуют для всех – даже из пропасти душа, открытая Ему, может подняться на небеса!
В голосе Левена звучала столь горячая и непоколебимая уверенность, что Бенджамин, сидевший прямо перед ним, непроизвольно горько усмехнулся. Ему, как и другим, заброшенным судьбой на дно этой глубокой пропасти, было слишком хорошо известно, что отсюда лишь одна дорога – на небеса. Ища лекарство от болезни, врачи порою проверяют их на себе. Чтобы прочувствовать по-настоящему, какая мука, подобно червю, точит вверенные ему души, пастору следовало хотя бы пару дней с утра до ночи потаскать булыжники под ударами кнута. Но Левен, еще молодой, законопослушный и благочестивый, проведя почти два года в каторжной колонии, до сих пор был убежден в справедливости всего там происходящего. Руки его не держали предмета тяжелее распятия, а глаза, обращенные к небу, поверх недостойной земли, способны были видеть ясно только ангелов… Что говорить о чопорных, надменных законодателях, которые ни разу даже не были в Австралии?!
Пастор по-своему истолковал горькую улыбку Бена.
– Мне кажется, вы так и не смирились со своей участью, – сказал он, подойдя поближе к разделявшей их куче щебня. – Это мешает вам искупить вину перед Всевышним.
Бенджамин молча посмотрел на Левена с тем самым выражением, с которым тот минуты две назад оглядывал ряды притихших арестантов. Что знает этот человек о его вине? Умудренный опытом, Бен давно перестал говорить о причине своего заключения. Скажи он, что осужден невинно, пастор с презрением назвал бы его лжецом, а каторжники подняли бы на смех. Но он молчал, и его прошлое в глазах товарищей по несчастью, было окутано непроницаемым ореолом тайны, в которой они склонны были видеть скорее нечто устрашающее, чем обыденное. Каждый воображал себе не бог весть что в силу своей порочности или фантазии. Ходили слухи, что Бена приговорили к смерти через повешенье, которое впоследствии заменили на пожизненную каторгу. Одни считали его ловким аферистом или искусным карманным вором, случайно попавшемся на деле, а кое-кто – грабителем с большой дороги. Возможно, это создавало Бенджамину Баркеру особый авторитет: в среде преступников тоже существуют свои ранги. Истинная его история была известна только Тому.
– Здесь все вменяется в вину, даже то, что ты дышишь, – заговорил он наконец. – Поверьте, я не жалуюсь вам, отец Левен. Я знаю, нам положено смириться и терпеть, но я давно хотел спросить у вас: к чему вы призываете здешних так называемых «блюстителей закона»? Неужто, к любви и милосердию? Верите ли вы сами проповедям, которые читаете по воскресениям? Вы произносите их так пылко и благоговейно, а в остальные дни не слышите ни звона кандалов, ни свиста плети.
Услышав этот голос, Билли вздрогнул и невольно приподнялся с места. Тот самый голос, непреклонная уверенность которого внезапно усмирила разбушевавшегося монстра в подземной клетке! Без тени грубого и оскорбительного вызова сейчас он вопрошал, как вопрошает человека собственная совесть. Бенджамин Баркер! Его лицо при свете дня поразило Кэрола еще сильнее, чем его голос. В нем было столько же мужества и твердости, сколько глубокой невысказанной боли…
Но пастор Левен видел перед собой лишь непокорного, заносчивого бунтаря, цвет одежды и цепи которого лишний раз доказывали это.
– Закон вверяет человека исправительной системе, чтобы искоренить его пороки, и без страданий невозможно заслужить прощение, – сдержанно и сурово ответил он.
Бенджамин прямо посмотрел в глаза священнику.
– Мне не нужно прощение за чужие грехи, – сорвалось с его губ, но он тут же оборвал себя: – Дело не в этом, – и, уже громче, продолжал: – Как можно сделать из преступников добропорядочных людей, обращаясь с ними хуже, чем со зверями, пробуждая в них первобытные инстинкты? Да будь они виновны во всех смертных грехах – неужели их нужно травить, точно крыс, ежедневно подвергая самым гнусным унижениям? А ведь среди них даже нет убийц, которых вешают, не вывозя из Англии! Вы призываете нас подчиниться угнетателям, свирепая жестокость которых превышает все преступления, которые только способен совершить последний негодяй! Как вы не замечаете того, что происходит вокруг вас?!..
Левен отступил на шаг, точно, развеяв знойную завесу, порыв тугого ветра ударил ему в лицо. На короткое мгновение его маска набожной торжественности улетучилась, приоткрыв тревогу, почти смятение. Должно быть, раньше Левену не приходилось выслушивать подобные аргументированные обвинительные речи. Недовольство заключенных часто выражалось сбивчивой, бессвязной бранью, грубыми выкриками, которые благочестивый пастор немедля прерывал цитатами из Библии и крестными знамениями. Возможно, мысленно он был почти готов признать, что заявления этого каторжника – чистая правда, но не вслух!.. Это послужит, – не дай бог! – причиной бунта. Смущенный и одновременно раздосадованный, он попытался успокоить собеседника:
– Послушайте, я понимаю ваше возмущение, но каковы бы ни были ниспосланные на вашу долю испытания, я советую вам по-христиански покориться и принять их, как вполне заслуженную кару. Доверьтесь воле провидения, и оно выведет вас к свету! – Пастор произнес последние слова, возвысив голос, так, что они эхом прокатились по двору над рядами осужденных.
Что он имел в виду, считая их закоренелыми преступниками? Во всяком случае, не избавление от мук. Он, кажется, пообещал прощение и только. Терпкий, навязчиво-дурманящий запах ладана исходил от его банальных изречений, заученных до автоматизма, приевшихся до тошноты.
Спорить с этим человеком было бесполезно. Все равно, что одними разговорами попытаться расколоть на щебень глыбу камня. Глухая, непреодолимая преграда возвышалась между ним и существами, безвозвратно погибшими для общества. Но подступающее к горлу жгучее негодование упорно побуждало Бена сотрясать ее, точно тюремную решетку.
– Вы видите лишь то, во что в итоге превратила этих несчастных каторга! – с горечью ответил он. – Ваша хваленая система виновата в окончательном падении этих людей: отчаянье перерастает в ярость, вор становится убийцей или сумасшедшим, умоляющим о смерти, так и не выйдя на путь истины, о котором говорите вы.
– Будьте мужественны, сын мой! Иисус тоже страдал, – с упреком воскликнул Левен, как будто не улавливая истинной сути разговора.
– Тогда, кто здесь, по-вашему, Иисус Христос, а кто – Ирод?
– Вы все переиначили! – Пастор возмущенно поднял руки к небесам, словно призывая незримого свидетеля.
– Не буду с вами спорить. – В тоне Бенджамина прозвучало столько же презрения, сколько сдержанной почтительности. Левен так и не понял, удалось ли ему укротить этот мятежный дух или осужденный просто насмехается над ним.
Уже собираясь проследовать дальше вдоль шеренги угрюмо притихших арестантов, пастор вдруг обернулся и, еще раз внимательно всмотревшись в лицо человека, чья душа представлялась ему черной зияющей бездной, спросил его:
– Вы хоть верите в Бога?
– Да, – последовал твердый ответ. – Но он бесконечно далек от Австралии… Как, впрочем, и от всей нашей грешной земли, – с горькой иронией прибавил Баркер. – А потому мне остается надеяться лишь на счастливый поворот судьбы.
– Что вы имеете в виду? – насторожился Левен. – Разве судьбы грешников не в руках Создателя, как и судьбы праведников?.. Да образумьтесь же, пока не поздно!
Темные глаза с укором встретили боязливый взгляд светло-серых. Бенджамин глубоко вздохнул: перед ним было живое существо, наделенное разумом и даром речи, а по сути, он говорил с самим собой. Как же недалек и ограничен был этот служитель церкви, для которого слово «осужденный» безапелляционно означало «грешный» и «виновный», а «правосудие» – неизменно «справедливость». На его глазах закон подменялся произволом и прихотью тюремщиков, он же упорно отказывался это признавать. А может, малодушие удерживало пастора в узде?..
Довольно! Глупая, бесполезная борьба! Подняв тяжелый молот, Бен с размаху обрушил его на камень. Мелкие осколки брызгами разлетелись в стороны.
– Знаете, что вы сделаете, выбравшись отсюда? – тихо, но отчетливо сказал он напоследок. – Я тоже знаю: вы проверите, не поцарапаны ли ваши новые ботинки и аккуратно оботрете с них пыль.
Левен отвернулся. Грудь его часто и порывисто вздымались, но он не проронил ни слова и с достоинством двинулся дальше. Когда он отошел, освободив проход, Баркер увидел напротив, над грудой нерасколотого камня, бледное, озаренное страдальческой улыбкой, лицо Кэрола.
– Из пропасти – на небеса!.. – с благоговением шептали губы юноши.
Пастор мог торжествовать победу: одна душа узрела свет в тумане его речей.
* «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят!» – слова распятого Иисуса о своих мучителях.
Глава 3. ТЕРПЕТЬ И ВЫЖИВАТЬ!
Бенджамин молча смотрел на желтоватый, пересеченный черными штрихами, прямоугольник света на потрескавшемся каменном полу. Ночь была почти безоблачной и лунной. В незастекленное тюремное окно дышал соленый морской ветер. Сидя неподвижно в темноте, Бен пристально, не отрывая глаз, вглядывался в это тусклое пятно, словно оно могло пролить внезапный свет на далекие события прошлого…
«Поступил донос о том, что вы обкрадываете своих клиентов! – гремит на всю цирюльню голос полицейского. – Констебли*, начинайте обыск!»
«Обыскивайте! – бледный от волнения, сдержанно отвечает Баркер, заслоняя собой жену. – Мне нечего скрывать».
Что они надеются найти между аккуратно сложенных платков и простыней? По полу с дребезгом рассыпается содержимое комода: миска для пены, бритвы, гребни…
«А это что?!» – Констебль резко поворачивается к цирюльнику. В руке его поблескивает перстень с изумрудом.
Дрожа от возмущения, Бенджамин выпускает руку Люси. Крупный, граненый драгоценный камень ярко вспыхивает зеленоватым светом, и у него темнеет перед глазами. Возглас негодования замирает на его губах. Непостижимо и стремительно, все происходит, как в кошмарном сне.
«Взять его!» – раздается короткий приказ.
«Как он попал сюда?.. Откуда?..» – в исступлении вырывается у Бена, в то время как четыре сильные руки грубо тащат его к дверям. У самого порога он успевает обернуться, и сердце сжимается у него в груди: во взгляде Люси столько ужаса, боли и вины! Словно всего лишь несколько минут назад она могла его спасти!
Они увидели друг друга снова только раз, в последний раз – в суде.
Бен так и не узнал, что же случилось часом раньше, до прихода полицейских…
Светлое пятно накрыла чья-то тень, видение пропало, и Бенджамина вывел из задумчивости негромкий голос Кэрола.
Теперь они делили камеру втроем. С трудом переставляя ноги, юноша кое-как добрался до окна, чтобы увидеть залитое серебристым лунным светом ночное небо и далекий горизонт.
– Правда ли, что где-то существует рай? – с тоскою прошептал он, словно обращаясь к самому себе.
– К чему ты это? – проворчал Мэттью из своего угла. – А-а-а, понимаю, куда ты клонишь, – протянул он, с шумом втягивая воздух, точно понюшку табаку. – Я носом чую, что ты задумал. Жить надоело, так?
– Да разве это жизнь?! – с горечью воскликнул Билли, резко отвернувшись от окна. Он замахнулся было, словно хотел ударить кулаком о стену, но его ладони горели, стертые до крови рукоятью тяжелого молотка. Короткое, как выстрел, эхо его голоса глухо замерло под низким потолком. Прерывисто дыша, Билли настороженно прислушался, как будто ожидал ответа.
Лицо Мэттью с глубокими тенями вместо глаз призрачно белело в полумраке, напоминая собою череп мертвеца.
Найдется ли на свете хоть один живой, который, будучи в здравом уме и трезвой памяти, ответит утвердительно на этот риторический вопрос? Молчание, невыносимое, гнетущее, как воздух в комнате больного, заполнило собою камеру.
– Мне дали двадцать лет! – исступленно крикнул Билли в темноту. – Двадцать лет!
Голос его сорвался на самой высокой ноте, так и не долетев до неба, от которого он с трепетом ожидал спасения. Вместо сочувствия и утешения до него донесся вдруг приглушенный смех – так мертвые в своих могилах смеялись бы над муками живых… если б могли.
– Не больно-то много, – с завистью заметил Мэттью. – Будь у меня такой же срок, я бы давно уже вышел на свободу!
Ошеломленный, Билли пошатнулся и присел на нары. Но его не особо утешили откровения старого каторжника.
– На родине я мало что имел, но все же принадлежал себе. А здесь… Даже в доме коменданта – это сущий ад! – угрюмо пробормотал он, глядя перед собою в пол.
– Молчи! – сурово оборвал его Мэттью. – Ты еще не видел ада! Кстати, за что тебя прогнали?
Юноша медленно поднял голову, и его глаза сверкнули в темноте:
– За то, что однажды позволил себе вспомнить, что я человек, – вымолвил он с усилием.
– Напрасно! Теперь придется пахать, как вьючное животное, – резонно рассудил Мэттью и лег.
Билли снова согнулся, обхватив руками свои длинные худые ноги. Тело его, словно придавленное тишиной и мраком, уже не содрогалось, только пальцы время от времени нервно сжимались, выдавая внутреннюю борьбу.
Даже после изнурительной работы, находясь в сознании, человек поневоле продолжает размышлять, как и не может не дышать, пока живет. Бенджамину была знакома каждая из этих мыслей, что в лихорадочном смятении неудержимо мечутся в мозгу, порой до самого утра, минута за минутой, отнимая у заключенного его недолгий отдых. Днем их обычно заглушают окрики и удары надзирателей, а ночью, обретая силу, они сталкиваются в неистовом, безумном поединке, и в итоге их остается только две: «бежать» и «умереть». Не перерастая в действие, ограниченные тесным пространством разума, они и впрямь способны довести до сумасшествия.
Бен видел в Кэроле себя – неопытного, юного, наивного, словно ребенок, без единой раны на теле и душе впервые брошенного на растерзание каторжной жизни. Сколько раз его пытались уничтожить – растоптать, стереть, как личность, укротить, как зверя, даже не подозревая, что удары только закаляют его стойкость, которая впоследствии послужит ему оружием. Плеть опускалась на его спину более тысячи раз, не считая ежедневных понуканий, но он остался человеком. Это казалось мифом, вымыслом, но было правдой, потому что Баркер ни на миг не переставал любить. В то время, как реальность беспощадно убивала, не оставляя шанса на спасение, воспоминания, незамутненно-чистые и светлые, многоголосым эхом призывали его жить. Люси, прекрасный золотоволосый ангел с ясными глазами, полными тоски и нежности, стояла перед ним с ребенком на руках. Два самых дорогих ему, хрупких и беззащитных существа – Бенджамин никогда не смог бы их предать! Что стало бы с ним, будь он совершенно одинок на этом свете?..
Рядом скрипнули нары, и в темноте чуть слышно прошелестело: «Умереть!»
Бенджамин приподнялся и всем телом повернулся в сторону, откуда доносился звук.
– В карцере ты сопротивлялся до последнего и звал на помощь, – напомнил он. – Тогда ты показался мне умнее!
– Я буду благодарен тебе всю жизнь! – встрепенувшись, воскликнул Билли, но его последние слова прозвучали как-то вяло, неопределенно.
– Всегда есть кто-то, кто ждет тебя. Там, по ту сторону океана. Помни об этом. – Обычно твердый, суровый голос Баркера внезапно выдал его глубокую печаль.
– Я сирота, – ответил юноша. – Меня никто не ждет.
– Послушай, – Бенджамин всмотрелся в темноту, стараясь разглядеть его лицо. – Я защитил тебя не для того, чтобы сейчас позволить умереть. Твой срок немалый, но все же у него есть конец.
– А твой? – Голос Кэрола невольно дрогнул, словно он заранее предчувствовал ответ.
Бенджамин крайне редко рассказывал о приговоре, который роковым клеймом впечатался в его сознание. Он знал, что кроме жизни ему больше нечего терять, и ясно помнил слово, произнести которое было нелегко. Иные с гордостью его выкрикивали, похваляясь перед товарищами – у Бена их бахвальство вызывало отвращение.
– Пожизненно, – тихо, без жалобы, без злобы сказал он и замолчал.
– Но неужели отсюда невозможно убежать? – не унимался Билли.
– Я верю, что возможно. Но это не так просто: я пытался пять раз – и не смог!
Кэрол был окончательно обезоружен, сдавленный, протяжный стон вырвался из его груди. Неподвижно глядя в пустоту, он судорожно искал последнюю лазейку, через которую неуловимо сможет выскользнуть на волю, если не тело, то душа.
– А если… – зашептал он вдруг, придвинувшись как можно ближе к Баркеру. – А если я сделаю вид, что убегаю? – Его глаза сверкали в темноте каким-то странным нездоровым блеском, а в голосе звучала дикая, отчаянная решимость обреченного.
– Тебя застрелят! – быстро ответил Бенджамин, схватив его за руку.
– Эй, Билли, может, хватит уже без толку трещать? – не выдержал, в конце концов, Мэттью, который поневоле слушал весь их разговор. – Я повидал немало таких героев, что вешались на собственных цепях и разбивали себе головы о стену – только чаще на словах. Думаешь, это так просто – взять да умереть по своей воле? Поверь моему опыту: смерть просто омерзительна, когда смотришь на нее в упор. Люди, страдавшие побольше твоего, отступали, едва завидев ее костлявый лик. И это не трусость, а прозрение!
– Разве не легче сразу умереть, чем продолжать такую жизнь? – с досадой спросил его Билли.
– Лучше, – пожав плечами, согласился Мэттью, – но не легче. Нет, человек устроен так, чтобы терпеть и выживать – назло врагам. С природой не поспоришь! Осужденные на смерть – другое дело, им ничего не остается, кроме как мужественно встретить свой конец. Но если от тебя, хотя б на йоту, зависит выжить, ты не сдашься. Ты будешь до последнего зубами и когтями сопротивляться смерти, и неважно, чего при этом хочет разум. Послушай, мальчик, если тебя не приучили засыпать без сказки на ночь, так и быть, я расскажу тебе одну историю, после которой ты надолго присмиреешь, не будь я Мэттью Гроу!
Устроившись на нарах поудобнее, старик немного помолчал, прокашлялся и начал:
– Это было двадцать пять лет назад, на Земле Ван-Димена**, в Макуори-Харбор… В самом ужасном месте ссылки из всех, где довелось мне побывать. Каторжники шли на любой риск, только бы удрать оттуда. И вот однажды ночью мне удалось бежать. Я оторвался от погони, скрывшись в зарослях густого дождевого леса, и около недели блуждал по бушу, сам не ведая, куда иду. Я продирался через колючие кустарники, едва не утонул в болоте… а впереди были все новые преграды, ямы, пропасти – суровая, бесплодная земля, где выживают лишь змеи и гиены, где даже дьявол – сумчатый***! Я ел только, когда не мог подняться, стараясь как можно дольше растянуть запасы пищи, которую захватил с собой. На пятый день еда закончилась. Я был один среди непроходимых дебрей – изможденный, голодный, но свободный! Упорно продолжая путь, я убеждал себя, что смерть не самое ужасное, что может произойти со мной... Через два дня меня поймали. Тогда я, как безумный, почти обрадовался этому!
Разумеется, по возвращении обратно меня ждали все заслуженные почести: плети, тюрьма и кандалы. Я оказался в камере с таким же беглецом, которому опостылело это жалкое, бессмысленное существование. Мы жили так же, как работали – из-под палки. Однажды в порыве отчаяния мой товарищ предложил мне легкий способ избавления: бросить жребий смертников. Мы оба были к этому готовы: он – молодой и крепкий, обреченный провести лучшие годы своей жизни в цепях, как раб, и я – вечник, отмотавший восемнадцать лет, выпоротый снаружи и внутри, вдовец, без родины и без родных. Мы начали игру, в которой не бывает проигравших. Все было продуманно и просто, без осечки: один из нас поможет умереть другому, а убийцу – вздернут. Я разделил соломинку на две неравных части и зажал их в кулаке… Жребий смертника достался моему товарищу. «Давай!» – сказал он и вытянулся на полу, даже не помолившись. Смерть, казалось, вызывала в нем презрение, вдвое большее, чем жизнь. Веревки у нас не было, я должен был душить его голыми руками. Действовать нужно было быстро, но какая-то неведомая сила удерживала меня на месте. «Господи, помоги мне!» – прошептал я, не сознавая, что кощунствую. «Чего ты ждешь?!» – нетерпеливо крикнул обреченный. Я шагнул к нему… «Скорее!» – исступленно позвал он вдруг так, словно мужество вот-вот его покинет. Странно и жутко было смотреть на этого мужчину, полного сил, в расцвете лет, который умолял себя убить. Мои колени подогнулись, и я всем телом навалился на товарища. Его могучие мышцы напряглись, точно для борьбы. Зажмурившись, я крепко стиснул ему горло. Руки у меня тряслись как в лихорадке, я задыхался, слыша его хрипы… Вскоре его короткое дыхание сорвалось на свист, потом совсем пропало. И в этот миг я заглянул ему в глаза… и разжал пальцы.
Гроу внезапно прервал свой рассказ. Казалось, отголоски его слов еще дрожали в полумраке камеры, словно раскаты затихающей грозы. Но чуть погодя негромкий скрип нарушил тишину: напряженно, молчаливо от него ожидали продолжения.
– Я не убил его не потому, что струсил! – снова заговорил Мэттью и глубоко вздохнул, как будто приходя в себя. – В этот момент моя душа переселилась в его тело – я словно стал им! Я понял, что он ощутил, когда глаза его вот-вот должны были закрыться навсегда, и выполнил его немую просьбу: за шаг до смерти он сильнее, чем когда-либо, во что бы то ни стало, стремился жить! То же самое почувствовал бы и я. Этого невозможно описать словами – нужно увидеть, как внутри себя, молниеносно, чтобы никогда не забывать... Бывали случаи, – задумчиво прибавил он, – что каторжники сами бросались в море со скалы в тяжелых кандалах. Их самоубийство начиналось на вершине, сразу после шага в пропасть, отрезая все пути назад. Но между небом и землей они успели пережить целую вечность – за несколько секунд! А я не стал бы! Глупо гоняться самому за смертью, когда она повсюду, но та – полегче. Вот какой урок извлек я для себя. Так мы с товарищем остались жить, и до сих пор не знаю, было ли то милосердие или наказанье Божье! – торжественно закончил Гроу и с чувством выполненного долга растянулся на своем убогом ложе.
Добавить было нечего и не с чем спорить. Кто осмелится назвать трусом человека, мужественно выбравшего жизнь?
– А тот, другой?.. – робко спросил вдруг Билли, потрясенный рассказом старика. – Где он теперь?
– Другой? – пожав плечами, повторил Мэттью. – Другой был Траверс.
Молния, сверкнувшая посреди камеры, поразила бы его слушателей куда слабее, чем это имя, произнесенное невозмутимо спокойным тоном. Траверс! Тот самый, что готов был, не глядя, любого разорвать на части за корку хлеба, за полфута лишнего пространства, когда-то умолял отнять у него самое ценное, что есть у человека? Тот, кто с презрением безжалостно топтал живую плоть, однажды почти прошел через ворота вечности и повернул назад? Если он ненавидел, то сильнее, чем кто-либо, но мог ли он еще любить?.. Траверс был лишним подтверждением тому, что каторга способна превратить людей во что угодно, как штормовые волны разбивают или стачивают камень. Мало осталось тех, кто помнил Джима молодым, как старый Мэттью. Никто не знал, каким он был на самом деле. Но Бенджамину показалось, что теперь он лучше знает своего врага: Траверс пережил самую гнетущую, губительную муку, от которой Бена спасала только любовь.
– Джима Траверса прозвали Людоедом… Почему? – вполголоса спросил у него Кэрол, не смея больше беспокоить старика.
– Это легенда, – начал было Бенджамин, – история без доказательств…
– Легенда, каждое слово которой – правда! – вставил Мэттью, который чутко слышал каждый шорох. Распаленный проснувшимся красноречием, он уже не мог остановиться. – Понятно, что для обвинения суду нужны улики, да где их взять, когда свидетели все съедены?
Билли нервно сглотнул, точно в горле у него пересохло, а Гроу вновь заговорил все более напористо и угрожающе:
– После злосчастного жребия смертников, кое-чему научившего нас, мы с товарищем стали вести себя тише – притаились на время, ожидая удачного случая. Только случай подвернулся Траверсу, а не мне. И слава Богу!.. Каждый день заключенных доставляли в лодках с острова Сара на восточный берег залива Макуори. Там мы с утра до темноты валили лес, обтесывали бревна, стоя по пояс в холодной воде. Однажды, возвращаясь после окончания работ, на полпути до острова я услышал выстрелы: восемь гребцов бежали в одной лодке с надзирателем, таким же каторжником, как они. В их числе был Траверс. Выслали погоню, но беглецы как в воду канули. Джима поймали только через четыре месяца. Добравшись до населенных мест, он вместе с пастухом из бывших заключенных воровал овец на фермах. В суде он клялся, что его товарищей захватили дикари, ему же чудом удалось спастись. Но ни один из каторжников не поверил в эту басню. Как может выжить человек среди глуши, где кроме дерева и камня нет, ровным счетом, ничего? Еды они с собой не захватили… Их было девять человек: восьми вполне достаточно, чтобы до цели дошел один. – Руки рассказчика вздымались, напряженно хватая воздух, как будто раздвигая заросли невидимых ветвей. – Потенциальная провизия не только не гнила, но даже пробивалась через чащу, расчищая себе путь навстречу гибели. Временами в их мешках появлялась ноша, от которой надрывалась совесть. А они упрямо шли и шли вперед: никто не верил, что его съедят!.. Не стану утверждать, что Траверс убил их всех, но последнего – точно. Иначе бы ему – конец!
Мэттью окинул своих слушателей грозным взглядом:
– Не спешите судить обреченных и проклятых, не зарекайтесь!.. Голод сильнее разума, а у всякого безумия – своя причина. Тот, кто хоть раз увидит дьявола, поймет, перед чем бессилен человек, – заключил он, пророчески подняв палец, и уже спокойнее прибавил: – Траверса не повесили. Он скрыл свою вину перед лицом суда, но гордо принял прозвище, которым нарекли его товарищи – Джим-Людоед. После вторичного побега он заработал себе пожизненное… А позже нам, если так можно выразиться, повезло: сначала нас определи матросами на судно, потом отправили сюда, в Новый Южный Уэльс. Но никогда мне не забыть Земли Ван-Димена – сумрачно-мертвой, окруженной бешеными штормами земли!
Голос рассказчика затих. Луна исчезла, словно ее внезапно поглотила тропическая ночь. Трое узников потеряли друг друга из виду, но в этот миг иное зрелище отчетливо предстало их глазам: там, во тьме, далеко за пределами взгляда, простирались каменистые кряжи, овраги, болота и чащи, над которыми дымом клубился туман. Призрачная надежда с уступа на уступ вела живых по следу мертвецов...
– Ну что, Цыпленок, – шутливо усмехнулся Гроу, – довольно тебе сказок на ночь?
Билли ответил тяжким, вымученным вздохом: с него было действительно довольно. В его сердце глубоко засела щемящая тревога, но он боялся уже не за себя.
– Людоед не простит тебе! – с ужасом прошептал юноша на ухо Бену. – Теперь я знаю точно: он отомстит за свою слабость!
Казалось, Билли ни на минуту не забывал о той жуткой ночи в карцере. Бенджамин тоже часто вспоминал о ней. Джим Траверс пользовался безраздельной властью главаря, а подчинение другому каторжнику, пускай даже разумное и добровольное, опасно подрывало его авторитет. Баркер был уверен: сейчас его противник выжидает случая, чтобы взять реванш…
– Не бойся, – спокойно сказал он вслух, – в Траверсе еще не до конца убили человека, иначе он бы не послушался меня. Ты прав: он отыграется. Но это уже не в первый раз… и думаю, что не в последний!
Однако подсознание подсказывало Билли: чем острее Бен предчувствовал беду, тем более старался убедить его в обратном. Кэрол презирал свое ничтожество, жалкое бессилие затравленного мелкого зверька, не способного самостоятельно защитить себя. Кто он? Цыпленок, готовый забиться в щель, едва появится орел! Как называют человека, что боится не только за товарища – который всего боится?!
– Я трус, последний трус! – пробормотал он с горечью, сжав голову руками. – Из-за меня ты подвергаешься опасности!
– Тебя назвали цыпленком, а не червем, – заметил Бенджамин. – И если ты слабее своего врага, это еще не значит, что ты трус.
– А тот, кто ищет смерти сам?..
В настойчивом вопросе юноши слепо боролись два противоречивых чувства, упорно побуждая его допытываться правды. Казалось, разум все же восторжествовал над суетой страстей, стыд и раскаяние заглушили дерзкий, безумный вызов, и жажда гибели на время притупилась… Но надолго ли? Опыт, увы, приходит к нам ценою новых ран, порою слишком глубоких, чтобы выжить.
– Для этого необходимо мужество, – честно ответил Баркер. – В равной степени, как и для того, чтоб жить.
И в тот же миг в мозгу его внезапно промелькнула мысль, что отчаяние – куда более опасное оружие, чем храбрость. Все дело в том, в какую сторону его направить…
* Констебль — низший полицейский чин в Британской империи.
** Земля Ван-Димена – первоначальное название, использовавшееся европейскими исследователями и поселенцами для определения острова Тасмания, расположенного к югу от Австралии.
***Имеется ввиду тасманийский дьявол – самый крупный из современных сумчатых хищников, водится только на острове Тасмания (Земля Ван-Димена). Его прозвали дьяволом за жуткие пронзительные крики, которые слышны на несколько километров.
Глава 4. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
– Рад снова тебя видеть при свете дня! – Траверс, прищурившись, смерил насмешливым взглядом фигуру Бенджамина Баркера, появившегося на пороге общего барака. Перекличка только что закончилась, и арестанты понемногу устраивались, каждый на своем убогом ложе, чтобы отдохнуть. Джим выдержал многозначительную паузу, краем глаза наблюдая, как они, насторожившись, приподнялись и повернули головы к выходу при его словах, и торжествующе закончил: – Снова в желтой куртке и цепях! Поздравляю: костюм и украшения тебе к лицу. Теперь ты точно не сбежишь, если, конечно, не найдешь напильник на дороге!
По бараку рокотом прокатился смех. Однако чуткое ухо Джима уловило в нем какую-то принужденную, натянутую ноту. Хохот походил на громовой раскат, который по закону бушующей стихии неминуемо следует за молнией. Многие каторжники питали к Бенджамину уважение за его стойкость и несгибаемый характер, а мужество, с которым он не так давно вытерпел сотню ударов плетью на глазах у всех, лишний раз укрепило это чувство. В душе никто не радовался тяготам товарища, даже в угоду главарю. От Людоеда не укрылся этот холодок, и в его сознании искрой промелькнула мысль, что его авторитет заметно пошатнулся.
В ответ Бен молча кивнул противнику и, в свою очередь, понял: это начало. Зверь, как говорится, устремился на ловца. Желтая куртка, на самом видном месте которой было четко проштамповано «Преступник» – нелепое напоминание для тех, кто никогда не забывает о своей участи, – притягивала и раздражала Людоеда, как быка – красное полотно. Сам он был в сером и без кандалов. Руки Бенджамина тоже были свободны, но лодыжки по-прежнему скованны прочной, довольно толстой цепью, подхваченной посередине кожаным ремнем, который крепился к поясу. В таких оковах можно было передвигаться лишь короткими шагами, и весили они не меньше двенадцати фунтов*.
Переступив порог, Баркер огляделся. Рыжеватые вечерние лучи выхватили из сумеречно-тусклой темноты барака длинные ряды двухэтажных нар, на которых, прижимаясь к стенам, ютились заключенные. Нар хватало не на всех, а его три прогнувшихся от времени узкие доски уже больше месяца были заняты другим арестантом. Бедняга поостерегся уступить их ему при Траверсе, и Бенджамин присел на землю у стены.
– Дурная шутка, Джим. Ты перегибаешь палку, – раздался низкий, густой голос.
Сжав кулаки, Людоед резко обернулся, ожидая нападения:
– Эй, ты! Выйди вперед: я что-то не вижу твоего лица!
– И не увидишь: оно черное, – угрюмо отрезал тот же голос, а из темноты угрожающе блеснула пара глаз.
– А-а-а, Том!.. Тогда тебе простительно, старик! – снисходительно усмехнувшись, отпарировал гигант. Приятель Бена был для него мелкой дичью, не стоящей внимания: Людоед преследовал сейчас иную цель.
Он знал, что Баркер никогда не нападает первым. Что ж, если среди каторжников есть те, кто уважает его за это, сегодня он, Джим Траверс, заставит его первым нанести удар, а после растопчет в прах! И все поддержат и одобрят Людоеда, своего единственного главаря – на этот раз без лицемерия и страха, потому что он на самом деле прав!
Но вскоре Траверс убедился, что Баркера не так-то просто заставить играть по чужим правилам. Все его грубоватые шутки, уловки и уколы Бен встречал молчанием с невозмутимым хладнокровием, как умственно нормальный человек не станет отвечать на лай собаки. С каждой новой неудачей Траверс распалялся, точно пламя, которое раздувает кузнечный мех. Кое-кто услужливо посмеивался, но сейчас ему трудно было разобрать, что забавляет арестантов: его насмешки или же он сам. И даже этот Баркер, на лице которого нет даже тени иронической улыбки, наверняка, смеется над ним в душе! Его – гиганта-Людоеда, грозу всей братии! – воспринимали, как паяца. Все, чего он добился!
Доказать физическую силу просто, но когда противник превосходит тебя силой духа, не лучше ли стать ему другом, признав его достоинства? Однако такой исход борьбы для Траверса был неприемлемым. В его огромной голове вполне хватало места, чтобы вместить внушительных размеров мозг, но отказаться от привычной власти в пользу того, кто уместился бы в его зажатом кулаке, было для него непостижимо.
Внезапно Людоед смекнул, что ему даже на руку это упорное молчание Баркера. Теперь он может с полным правом высмеять своего врага!
– Я в жизни не видал такого труса, как ты! – с презрением плюнув на землю, заявил ему Траверс.
Но Бен был неприступен, как скала под шумными ударами прибоя.
– Я никуда не убегаю от тебя, а значит, не боюсь! – холодно ответил он.
– Тогда вставай! – яростно крикнул ему Траверс, окончательно утративший самообладание. Ноздри его возбужденно раздувались, как у хищника, почуявшего запах крови. Выставив свою массивную нижнюю челюсть, он все еще надеялся, что Баркер ударит его первым, но этого не произошло.
Бенджамин медленно поднялся на ноги и шагнул вперед.
– Предлагаешь помериться силами – так и скажи! – произнес он с расстановкой, прямо глядя ему в глаза.
– Давай же, раз и навсегда разберемся, кто здесь главный! – прорычал сквозь зубы Людоед. Наступая на противника, он навис над ним всем своим огромным, мускулистым телом. Рядом со стройным, изящным Баркером Траверс выглядел настоящим великаном, который обнаружил у себя в пещере непрошеного гостя и собирается сожрать его на ужин.
Том попытался было вмешаться, но каторжники тут же оттеснили его, плотным кольцом столпившись вокруг воображаемой арены, на которой должна была произойти решающая битва.
– Приляг, а то споткнешься! – крикнули Тому, а через секунду все забыли о старом негре.
Как и всегда в подобных случаях, мысленно каждый делал ставку на своего борца, не разглашая ее вслух. А после поединка мнение нетрудно поменять – в зависимости от того, кто победит. Многие заранее сочувствовали Баркеру: в драке с таким противником, как Людоед, шансов у него было маловато. Но Бенджамин не собирался сдаваться раньше времени. Заняв оборонительную позицию, зорко следя за каждым движением врага, он напряженно ожидал его броска, готовый ловко уклониться от удара. Он знал, что слабые места есть у любого, а самым слабым местом Траверса была его самоуверенность. Бену нередко приходилось защищаться не только от тяжелых кулаков, но и от острого, короткого ножа. Жизнь научила его использовать быстроту и ловкость в борьбе с превосходящей его силой, хоть этот опыт и обошелся ему недешево. Главное, не торопиться с нападением.
Осторожность Баркера поначалу забавляла Людоеда, но после нескольких шагов по кругу под приглушенный ропот окружившей их толпы, он стал терять терпение. Ему не нужно было долго изучать противника, чтобы скрутить его, и, разъяренный затянувшимся началом схватки, он стремительно бросился вперед. В ту же секунду пальцы Баркера стальным кольцом сжали его правое запястье. Удивленный столь решительным отпором, Траверс однако недоумевал, чего пытается добиться этот муравей, повиснув на его руке? Шумно хрипя, так, что слюна его буквально брызнула Баркеру в лицо, он резко замахнулся и, в свою очередь, свободной левой рукой схватил его за правую. Затем как следует нажал, так что Бен вынужден был отступить к стене и упереться в нее всем телом. Иначе быть и не могло, но Траверсу вдруг показалось, что его противник именно этого и ждал. Что он еще задумал?.. Оба в упор пронизывали друг друга взглядом, но только Бенджамин из них двоих угадывал каждую мысль своего врага.
– Я сотру тебя в порошок! – проревел Людоед, налегая все сильнее.
Бен не ответил. До боли напрягая мышцы, нечеловеческим усилием он оттеснил от себя правую руку Траверса, которую сжимал в своей, и, убедившись, что теперь под ее натиском не выдержит и буйвол, внезапно что есть силы дернул ее на себя. Расчет был более чем точным: в то время, когда Баркер ловко уклонился вправо, Людоед со всего размаху врезался головой в широкое бревно. Будь стена потоньше, он бы непременно проломил ее насквозь. Траверс рухнул, как подкошенный, даже не успев сообразить, как все произошло. Зрители замерли, не веря собственным глазам: недюжинная сила этого гиганта сегодня послужила не ему! Восторженные возгласы прокатились по бараку:
– Ты видел?!
– Никогда бы не поверил!
– Одним ударом! Наповал!
– И по заслугам!..
– Эй, что здесь происходит? – крикнул с порога солдат охраны, перекрывая гвалт.
Угроза в его голосе заставила притихнуть арестантов, но на вопрос мгновенно нашлось, кому ответить:
– Верзила Джим споткнулся и налетел башкой на стену!
Солдат недоверчиво осмотрелся, ища подтверждения этих слов, и вскоре отыскал его – на земляном полу. По-видимому, зрелище понравилось ему не меньше, чем заключенным.
– Отлично! – не скрывая удовольствия, заключил он и с шумом захлопнул дверь.
Оставшиеся в бараке очутились в полной темноте, лишенные возможности лицезреть, как победителя, так и поверженного великана. Спектакль был окончен, зрители понемногу расползались по своим углам. Ночь наступала для арестантов сразу после того, как запирали дверь. А по ночам порою происходят странные вещи…
– Бен, это ты? – услышал Баркер голос Тома, наощупь пробиравшегося между нар.
– Да, – тяжело дыша, ответил он.
– Идем отсюда.
Вместе они пробрались в противоположный конец барака. Сраженный охватившей его усталостью, не меньше, чем Траверс ударом о стену, Бенджамин буквально повалился на солому. И вдруг ужасное предположение стрелой пронзило его мозг.
– А если я убил его? – почти беззвучным шепотом спросил он Тома.
– Он жив: я видел, как он пошевелился, – успокоил его товарищ. – Но теперь тебе надо быть настороже! Слава Богу, охранника порадовало это происшествие, и он не стал искать виновных, иначе… – Том предпочел оставить фразу незаконченной.
Баркер с облегчением вздохнул: виселица, во всяком случае, не грозит ему! Однако радоваться было рано. Не строя утешительных иллюзий, он ясно сознавал, в каком опасном положении оказался. Очень скоро победа могла обернуться для него поражением, если не смертью. Мудрым решением было бы дождаться утра, не смыкая глаз, но Бен, измученный тюремными лишениями и этой яростной, хоть и короткой, схваткой, не продержался бы и часа. Зная, что Людоеду при всем желании не найти его в кромешной темноте, он мог позволить себе отдых – до рассвета. А в случае угрозы Том предупредит его…
Бенджамин был уверен, что Траверс подстережет его на руднике, за одним из поворотов темного тоннеля, где можно без помех подстроить быструю, вполне естественную смерть. Неудачное падение с ударом головой о камень, внезапно рухнувшая балка, осыпи породы – такие случаи происходили и без посторонней «помощи»… Но день прошел, а Людоед ни разу не напомнил о себе. Казалось, он нарочно избегает встречи со своим врагом. И это утвердило Бена в мысли, что Траверс намерен расквитаться с ним позднее, когда об их вчерашней драке подзабудут – так он останется вне подозрений.
Вечером, после переклички, они почти столкнулись у дверей в барак. Стычка была неминуема, но… ничего не случилось! Людоед ограничился лишь ехидной миной и с подчеркнутым пренебрежением отвернулся. Он явно наслаждался, играя с Бенджамином, точно кошка с мышью. Так продолжалось около недели. Пристально следя за Траверсом, Баркер начал замечать в его поступках осторожность, совершенно чуждую характеру этого громилы, привыкшего без церемоний отбрасывать все, что ему мешает на пути. Людоед как будто был всецело поглощен другим, более серьезным делом, или вернее, тайной целью.
Когда тюремный срок Мэттью и Билли подошел к концу, их под конвоем препроводили обратно в лагерь. Теперь им снова, вместе с остальными каторжниками, предстоял тяжелый труд на руднике. Несчастный Кэрол стал, казалось, еще тоньше: серая куртка из грубой ткани висела на нем, как на шесте. Он с жадностью набрасывался на пищу и никак не мог прийти в себя после заключения на урезанном пайке. Только в сравнении с гораздо большими лишениями познается цена маисовой похлебки, которой наполняют миску до краев… Но как-то вечером его спасительная порция попала в чужие руки: едва лишь Билли потянулся за своей миской, как ее перехватили.
– Сегодня можешь отдохнуть, я выполню эту работу за тебя! – великодушно заявил басистый голос, и вся партия неудержимо грохнула от хохота.
Растерянный и оглушенный, Билли испуганно обернулся: позади него возвышался ухмыляющийся Траверс.
– Ну что, поделишься со мной, Цыпленок? – нарочито любезно осведомился он.
Каторжники захохотали еще пуще, но тут один из них предупредительно дернул Джима за рукав, показывая пальцем в сторону. В двух шагах, молча глядя на него, стоял Бенджамин Баркер.
– На что ты пялишься? – огрызнулся Траверс. – Может, хочешь проповедь прочесть?
– Скажи, ты смог бы драться за еду, которую отобрал? – не повышая голоса, ответил Бен вопросом на вопрос.
– Ты в этом сомневаешься? – язвительно усмехнулся Людоед. – Ешь свою, а то остынет!
– Так вот, я отдам тебе свою порцию, когда ты не сможешь поднять руки, – отпарировал Баркер.
Эта неожиданная фраза, в которой наравне с упреком вместо объявления войны прозвучало твердое обещание поддержки, застала Траверса врасплох. Слова и поведение этого человека всегда сбивали его с толку, вынуждая совершать поступки, которым после не находилось объяснения. Невольные приливы воодушевления, порывы непривычного великодушия, благодаря которым Траверс будто бы поднимался выше на ступень, довольно быстро проходили, оставляя в нем лишь злобу и досаду, точно он вдруг очнулся в грязной луже на глазах у всех. Нет, уж лучше он останется самим собой!
– Тогда отдай ему, раз такой сердобольный! – глухо буркнул Людоед, махнув рукой на Билли и молча удалился, пережевывая на ходу лепешку. Потасовка, которую многие с нетерпением ожидали, так и не вспыхнула.
– Странный он стал, – заметил Том, провожая его взглядом. – Боюсь, что скоро это выяснится.
– Да, скоро… – нахмурившись, согласился Бенджамин и поделился к Кэролом своей похлебкой.
Несколько позже действительно все выяснилось…
Утро в общем бараке начиналось с раскатистых криков надзирателей:
– Эй, ленивые крысы, поднимайтесь, кто не хочет отведать плетей! На работу, собаки, на работу!
Дверь, которую на ночь крепко запирали, сейчас под охраной пехотинцев с ружьями наготове, была распахнута настежь. Свежий воздух, еще не накаленный зноем, ворвался в помещение, пропахшее пронизывающе резким духом сырости и человеческих страданий.
Пробираясь к выходу вместе с другими арестантами, Баркер случайно заглянул под нары справа от себя. Жуткое зрелище заставило его невольно содрогнуться и замедлить шаг: из-под грубо сколоченных досок на него бессмысленно глядели неподвижные тусклые глаза. Несколько заключенных уже переступили через вытянутую поперек прохода руку, конвульсивно сжатую в кулак.
– В чем дело! – раздался недовольный окрик Бейса. – Эй, Баркер, хочешь вернуться и поспать еще?
Бенджамин молча указал ему на распростертое под нарами безжизненное тело и отошел.
Бейс недоверчиво пихнул лежавшего ногой, но тот не шевельнулся. Стиснутые пальцы не разжались – уставившись застывшим взглядом в потолок, покойный словно угрожал своим тюремщикам.
– Плут! – выругался было надзиратель, но грубое, вошедшее в привычку слово как-то неловко оборвалось. – Отмучился, – пробормотал он, перекрестившись.
– Это я! – Оттолкнув с дороги Бена, полуодетый арестант с криком бросился на землю, жадно вцепившись в тело умершего, точно голодная собака в кость. – Это я его убил! Я! Я!..
Он в исступлении бил себя в грудь, с какой-то безумной гордостью показывая собравшимся труп своего товарища. Его глаза горели лихорадочным огнем, но Бенджамин заметил, как во взгляде его сверкнула искра отчаянной надежды.
– Я – убийца! – яростно прорычал он на весь барак, видя, что надзиратель и подбежавшие солдаты молча, с недоверием смотрят на него.
– Странно: я не вижу на теле следов насильственной смерти, – наклонившись, заметил Бейс. – А ну-ка отвечай, как ты его убил?
Арестант в замешательстве уставился на него.
– Я убил его. Я! – повторял он упорно. – В темноте, этой ночью…
– Врешь! – Бейс круто развернул его и, схватив рукой за горло, поднял на ноги. – Убийца не признался бы! Я знаю, что ты задумал! Мечтаешь отдать концы? Боишься сам себя убить и хочешь, чтоб тебя повесили, хитрая бестия?! – крикнул он, сверля беднягу взглядом. – Я прав?
Арестант не отвечал, и надзиратель с силой ударил его головой о перегородку:
– Молчишь? Значит, я прав, черт бы тебя побрал! Я всех вас насквозь вижу!
– Не издевайся над ним, Бейс, – вступился за товарища Мэттью. – Ты же видишь: у него не в порядке с головой!
– Вижу, не слепой! – Надзиратель отбросил свою жертву, как тряпичную куклу. – Таких тут – полбарака, если не больше, – с досадой прибавил он. – Заразная причуда!
– Здесь очаг этой эпидемии, – со вздохом пробормотал старик и угрюмо опустил седую голову, припомнив кое-что из собственного опыта.
– Эй, вы! – возвысив голос, пригрозил Бейс, обращаясь к заключенным. – Запомните, кто еще выкинет подобный фокус, будет наказан, как за попытку самоубийства! А теперь – все во двор!
Мертвое тело унесли, и инцидент был исчерпан. Через несколько часов покойный будет под землей, но каторжники позабудут о нем гораздо раньше: их муки не дают им передышки.
По дороге на рудник Бенджамин заметил, как укоризненно, с безмолвной горечью Билли исподлобья погладывает в сторону Мэттью. Казалось, юноша беспрестанно повторяет про себя вопрос, на который ему, как наивному или слепому ребенку, однажды ответили ложью.
– Ну чего ты все смотришь? – не выдержал Гроу, встряхнув головой. – Ладно, можешь не говорить: я знаю!
– Ты не ответил, существует ли на самом деле рай, – вырвалось у Билли, точно в груди его не оставалось места для вдоха, – просто сказал, что я еще не видел ада. Неправда: я его вижу! С первого дня, как оказался за решеткой! Ты утверждал, что смерти ищут чаще на словах и пристыдил меня за то, что совершает каждый! А потом сказал, что человек должен терпеть и выживать… Зачем?
Тонкие, высохшие губы старика невольно дрогнули, а редкие седые брови хмуро сошлись на переносице.
– Я хотел подбодрить тебя, уберечь от безумия… Но оно здесь повсюду, как и смерть. К сожалению, двадцать лет каторги могут окончиться намного раньше, чем ты думаешь. А может, это к счастью… – Гроу замолчал и отвернулся. Его худые плечи едва заметно передернулись под серой курткой, сношенной до дыр. Больше он не проронил ни слова.
В толпе бредущих по пыльной, каменистой дороге арестантов Билли остался наедине со своими мыслями. Бенджамин то и дело оглядывался на него, следя, не бросится ли юноша бежать в порыве охватившего его отчаяния. Но тот понуро двигался вперед, не поднимая головы, устало волоча худые ноги. Надзиратели время от времени подгоняли его, понукая ударами плетей. Кэрол выглядел изнуренным, еще не добравшись до рудника. Пустая водянистая похлебка, которую любой нормальный человек, не знакомый с тюремным бытом, принял бы за помои, а изголодавшиеся каторжники с жадностью отбирали друг у друга, не возвращала ему силы. Для тяжелого труда необходимо закаленное, выносливое тело – у Билли его не было. Некто назвал петлю искусно продуманным изобретением для укрощения диких лошадей: она затягивается все туже оттого, что жертва барахтается в ней, а жертва бьется потому, что задыхается. Жизнь каторжников похожа на агонию в петле: чем хуже они работают – тем чаще их наказывают, но от невыносимых наказаний они работают все хуже. Билли перестал говорить о смерти, он почти не жаловался вслух на свои страдания. Однако это и настораживало Бена: тот, кто не говорит, способен совершить...
Подавленный тоской и одиночеством, ища поддержки и сочувствия, еще в тюрьме Кэрол однажды поведал ему свою историю. Горькая, изувеченная несправедливостью судьба поразила Баркера сходством с его собственной: у них обоих подло украли будущее, без вины осудив за воровство. Билли был слишком слаб и уязвим, чтобы испытания укрепили его дух, и Бенджамин поклялся себе защищать и наставлять его, как родного брата. Когда-нибудь это поможет им, если ни один из них не сдастся…
Билли ответил тяжким, вымученным вздохом: с него было действительно довольно. В его сердце глубоко засела щемящая тревога, но он боялся уже не за себя.
– Людоед не простит тебе! – с ужасом прошептал юноша на ухо Бену. – Теперь я знаю точно: он отомстит за свою слабость!
Казалось, Билли ни на минуту не забывал о той жуткой ночи в карцере. Бенджамин тоже часто вспоминал о ней. Джим Траверс пользовался безраздельной властью главаря, а подчинение другому каторжнику, пускай даже разумное и добровольное, опасно подрывало его авторитет. Баркер был уверен: сейчас его противник выжидает случая, чтобы взять реванш…
– Не бойся, – спокойно сказал он вслух, – в Траверсе еще не до конца убили человека, иначе он бы не послушался меня. Ты прав: он отыграется. Но это уже не в первый раз… и думаю, что не в последний!
Однако подсознание подсказывало Билли: чем острее Бен предчувствовал беду, тем более старался убедить его в обратном. Кэрол презирал свое ничтожество, жалкое бессилие затравленного мелкого зверька, не способного самостоятельно защитить себя. Кто он? Цыпленок, готовый забиться в щель, едва появится орел! Как называют человека, что боится не только за товарища – который всего боится?!
– Я трус, последний трус! – пробормотал он с горечью, сжав голову руками. – Из-за меня ты подвергаешься опасности!
– Тебя назвали цыпленком, а не червем, – заметил Бенджамин. – И если ты слабее своего врага, это еще не значит, что ты трус.
– А тот, кто ищет смерти сам?..
В настойчивом вопросе юноши слепо боролись два противоречивых чувства, упорно побуждая его допытываться правды. Казалось, разум все же восторжествовал над суетой страстей, стыд и раскаяние заглушили дерзкий, безумный вызов, и жажда гибели на время притупилась… Но надолго ли? Опыт, увы, приходит к нам ценою новых ран, порою слишком глубоких, чтобы выжить.
– Для этого необходимо мужество, – честно ответил Баркер. – В равной степени, как и для того, чтоб жить.
И в тот же миг в мозгу его внезапно промелькнула мысль, что отчаяние – куда более опасное оружие, чем храбрость. Все дело в том, в какую сторону его направить…
* Констебль — низший полицейский чин в Британской империи.
** Земля Ван-Димена – первоначальное название, использовавшееся европейскими исследователями и поселенцами для определения острова Тасмания, расположенного к югу от Австралии.
***Имеется ввиду тасманийский дьявол – самый крупный из современных сумчатых хищников, водится только на острове Тасмания (Земля Ван-Димена). Его прозвали дьяволом за жуткие пронзительные крики, которые слышны на несколько километров.
Глава 4. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
– Рад снова тебя видеть при свете дня! – Траверс, прищурившись, смерил насмешливым взглядом фигуру Бенджамина Баркера, появившегося на пороге общего барака. Перекличка только что закончилась, и арестанты понемногу устраивались, каждый на своем убогом ложе, чтобы отдохнуть. Джим выдержал многозначительную паузу, краем глаза наблюдая, как они, насторожившись, приподнялись и повернули головы к выходу при его словах, и торжествующе закончил: – Снова в желтой куртке и цепях! Поздравляю: костюм и украшения тебе к лицу. Теперь ты точно не сбежишь, если, конечно, не найдешь напильник на дороге!
По бараку рокотом прокатился смех. Однако чуткое ухо Джима уловило в нем какую-то принужденную, натянутую ноту. Хохот походил на громовой раскат, который по закону бушующей стихии неминуемо следует за молнией. Многие каторжники питали к Бенджамину уважение за его стойкость и несгибаемый характер, а мужество, с которым он не так давно вытерпел сотню ударов плетью на глазах у всех, лишний раз укрепило это чувство. В душе никто не радовался тяготам товарища, даже в угоду главарю. От Людоеда не укрылся этот холодок, и в его сознании искрой промелькнула мысль, что его авторитет заметно пошатнулся.
В ответ Бен молча кивнул противнику и, в свою очередь, понял: это начало. Зверь, как говорится, устремился на ловца. Желтая куртка, на самом видном месте которой было четко проштамповано «Преступник» – нелепое напоминание для тех, кто никогда не забывает о своей участи, – притягивала и раздражала Людоеда, как быка – красное полотно. Сам он был в сером и без кандалов. Руки Бенджамина тоже были свободны, но лодыжки по-прежнему скованны прочной, довольно толстой цепью, подхваченной посередине кожаным ремнем, который крепился к поясу. В таких оковах можно было передвигаться лишь короткими шагами, и весили они не меньше двенадцати фунтов*.
Переступив порог, Баркер огляделся. Рыжеватые вечерние лучи выхватили из сумеречно-тусклой темноты барака длинные ряды двухэтажных нар, на которых, прижимаясь к стенам, ютились заключенные. Нар хватало не на всех, а его три прогнувшихся от времени узкие доски уже больше месяца были заняты другим арестантом. Бедняга поостерегся уступить их ему при Траверсе, и Бенджамин присел на землю у стены.
– Дурная шутка, Джим. Ты перегибаешь палку, – раздался низкий, густой голос.
Сжав кулаки, Людоед резко обернулся, ожидая нападения:
– Эй, ты! Выйди вперед: я что-то не вижу твоего лица!
– И не увидишь: оно черное, – угрюмо отрезал тот же голос, а из темноты угрожающе блеснула пара глаз.
– А-а-а, Том!.. Тогда тебе простительно, старик! – снисходительно усмехнувшись, отпарировал гигант. Приятель Бена был для него мелкой дичью, не стоящей внимания: Людоед преследовал сейчас иную цель.
Он знал, что Баркер никогда не нападает первым. Что ж, если среди каторжников есть те, кто уважает его за это, сегодня он, Джим Траверс, заставит его первым нанести удар, а после растопчет в прах! И все поддержат и одобрят Людоеда, своего единственного главаря – на этот раз без лицемерия и страха, потому что он на самом деле прав!
Но вскоре Траверс убедился, что Баркера не так-то просто заставить играть по чужим правилам. Все его грубоватые шутки, уловки и уколы Бен встречал молчанием с невозмутимым хладнокровием, как умственно нормальный человек не станет отвечать на лай собаки. С каждой новой неудачей Траверс распалялся, точно пламя, которое раздувает кузнечный мех. Кое-кто услужливо посмеивался, но сейчас ему трудно было разобрать, что забавляет арестантов: его насмешки или же он сам. И даже этот Баркер, на лице которого нет даже тени иронической улыбки, наверняка, смеется над ним в душе! Его – гиганта-Людоеда, грозу всей братии! – воспринимали, как паяца. Все, чего он добился!
Доказать физическую силу просто, но когда противник превосходит тебя силой духа, не лучше ли стать ему другом, признав его достоинства? Однако такой исход борьбы для Траверса был неприемлемым. В его огромной голове вполне хватало места, чтобы вместить внушительных размеров мозг, но отказаться от привычной власти в пользу того, кто уместился бы в его зажатом кулаке, было для него непостижимо.
Внезапно Людоед смекнул, что ему даже на руку это упорное молчание Баркера. Теперь он может с полным правом высмеять своего врага!
– Я в жизни не видал такого труса, как ты! – с презрением плюнув на землю, заявил ему Траверс.
Но Бен был неприступен, как скала под шумными ударами прибоя.
– Я никуда не убегаю от тебя, а значит, не боюсь! – холодно ответил он.
– Тогда вставай! – яростно крикнул ему Траверс, окончательно утративший самообладание. Ноздри его возбужденно раздувались, как у хищника, почуявшего запах крови. Выставив свою массивную нижнюю челюсть, он все еще надеялся, что Баркер ударит его первым, но этого не произошло.
Бенджамин медленно поднялся на ноги и шагнул вперед.
– Предлагаешь помериться силами – так и скажи! – произнес он с расстановкой, прямо глядя ему в глаза.
– Давай же, раз и навсегда разберемся, кто здесь главный! – прорычал сквозь зубы Людоед. Наступая на противника, он навис над ним всем своим огромным, мускулистым телом. Рядом со стройным, изящным Баркером Траверс выглядел настоящим великаном, который обнаружил у себя в пещере непрошеного гостя и собирается сожрать его на ужин.
Том попытался было вмешаться, но каторжники тут же оттеснили его, плотным кольцом столпившись вокруг воображаемой арены, на которой должна была произойти решающая битва.
– Приляг, а то споткнешься! – крикнули Тому, а через секунду все забыли о старом негре.
Как и всегда в подобных случаях, мысленно каждый делал ставку на своего борца, не разглашая ее вслух. А после поединка мнение нетрудно поменять – в зависимости от того, кто победит. Многие заранее сочувствовали Баркеру: в драке с таким противником, как Людоед, шансов у него было маловато. Но Бенджамин не собирался сдаваться раньше времени. Заняв оборонительную позицию, зорко следя за каждым движением врага, он напряженно ожидал его броска, готовый ловко уклониться от удара. Он знал, что слабые места есть у любого, а самым слабым местом Траверса была его самоуверенность. Бену нередко приходилось защищаться не только от тяжелых кулаков, но и от острого, короткого ножа. Жизнь научила его использовать быстроту и ловкость в борьбе с превосходящей его силой, хоть этот опыт и обошелся ему недешево. Главное, не торопиться с нападением.
Осторожность Баркера поначалу забавляла Людоеда, но после нескольких шагов по кругу под приглушенный ропот окружившей их толпы, он стал терять терпение. Ему не нужно было долго изучать противника, чтобы скрутить его, и, разъяренный затянувшимся началом схватки, он стремительно бросился вперед. В ту же секунду пальцы Баркера стальным кольцом сжали его правое запястье. Удивленный столь решительным отпором, Траверс однако недоумевал, чего пытается добиться этот муравей, повиснув на его руке? Шумно хрипя, так, что слюна его буквально брызнула Баркеру в лицо, он резко замахнулся и, в свою очередь, свободной левой рукой схватил его за правую. Затем как следует нажал, так что Бен вынужден был отступить к стене и упереться в нее всем телом. Иначе быть и не могло, но Траверсу вдруг показалось, что его противник именно этого и ждал. Что он еще задумал?.. Оба в упор пронизывали друг друга взглядом, но только Бенджамин из них двоих угадывал каждую мысль своего врага.
– Я сотру тебя в порошок! – проревел Людоед, налегая все сильнее.
Бен не ответил. До боли напрягая мышцы, нечеловеческим усилием он оттеснил от себя правую руку Траверса, которую сжимал в своей, и, убедившись, что теперь под ее натиском не выдержит и буйвол, внезапно что есть силы дернул ее на себя. Расчет был более чем точным: в то время, когда Баркер ловко уклонился вправо, Людоед со всего размаху врезался головой в широкое бревно. Будь стена потоньше, он бы непременно проломил ее насквозь. Траверс рухнул, как подкошенный, даже не успев сообразить, как все произошло. Зрители замерли, не веря собственным глазам: недюжинная сила этого гиганта сегодня послужила не ему! Восторженные возгласы прокатились по бараку:
– Ты видел?!
– Никогда бы не поверил!
– Одним ударом! Наповал!
– И по заслугам!..
– Эй, что здесь происходит? – крикнул с порога солдат охраны, перекрывая гвалт.
Угроза в его голосе заставила притихнуть арестантов, но на вопрос мгновенно нашлось, кому ответить:
– Верзила Джим споткнулся и налетел башкой на стену!
Солдат недоверчиво осмотрелся, ища подтверждения этих слов, и вскоре отыскал его – на земляном полу. По-видимому, зрелище понравилось ему не меньше, чем заключенным.
– Отлично! – не скрывая удовольствия, заключил он и с шумом захлопнул дверь.
Оставшиеся в бараке очутились в полной темноте, лишенные возможности лицезреть, как победителя, так и поверженного великана. Спектакль был окончен, зрители понемногу расползались по своим углам. Ночь наступала для арестантов сразу после того, как запирали дверь. А по ночам порою происходят странные вещи…
– Бен, это ты? – услышал Баркер голос Тома, наощупь пробиравшегося между нар.
– Да, – тяжело дыша, ответил он.
– Идем отсюда.
Вместе они пробрались в противоположный конец барака. Сраженный охватившей его усталостью, не меньше, чем Траверс ударом о стену, Бенджамин буквально повалился на солому. И вдруг ужасное предположение стрелой пронзило его мозг.
– А если я убил его? – почти беззвучным шепотом спросил он Тома.
– Он жив: я видел, как он пошевелился, – успокоил его товарищ. – Но теперь тебе надо быть настороже! Слава Богу, охранника порадовало это происшествие, и он не стал искать виновных, иначе… – Том предпочел оставить фразу незаконченной.
Баркер с облегчением вздохнул: виселица, во всяком случае, не грозит ему! Однако радоваться было рано. Не строя утешительных иллюзий, он ясно сознавал, в каком опасном положении оказался. Очень скоро победа могла обернуться для него поражением, если не смертью. Мудрым решением было бы дождаться утра, не смыкая глаз, но Бен, измученный тюремными лишениями и этой яростной, хоть и короткой, схваткой, не продержался бы и часа. Зная, что Людоеду при всем желании не найти его в кромешной темноте, он мог позволить себе отдых – до рассвета. А в случае угрозы Том предупредит его…
Бенджамин был уверен, что Траверс подстережет его на руднике, за одним из поворотов темного тоннеля, где можно без помех подстроить быструю, вполне естественную смерть. Неудачное падение с ударом головой о камень, внезапно рухнувшая балка, осыпи породы – такие случаи происходили и без посторонней «помощи»… Но день прошел, а Людоед ни разу не напомнил о себе. Казалось, он нарочно избегает встречи со своим врагом. И это утвердило Бена в мысли, что Траверс намерен расквитаться с ним позднее, когда об их вчерашней драке подзабудут – так он останется вне подозрений.
Вечером, после переклички, они почти столкнулись у дверей в барак. Стычка была неминуема, но… ничего не случилось! Людоед ограничился лишь ехидной миной и с подчеркнутым пренебрежением отвернулся. Он явно наслаждался, играя с Бенджамином, точно кошка с мышью. Так продолжалось около недели. Пристально следя за Траверсом, Баркер начал замечать в его поступках осторожность, совершенно чуждую характеру этого громилы, привыкшего без церемоний отбрасывать все, что ему мешает на пути. Людоед как будто был всецело поглощен другим, более серьезным делом, или вернее, тайной целью.
Когда тюремный срок Мэттью и Билли подошел к концу, их под конвоем препроводили обратно в лагерь. Теперь им снова, вместе с остальными каторжниками, предстоял тяжелый труд на руднике. Несчастный Кэрол стал, казалось, еще тоньше: серая куртка из грубой ткани висела на нем, как на шесте. Он с жадностью набрасывался на пищу и никак не мог прийти в себя после заключения на урезанном пайке. Только в сравнении с гораздо большими лишениями познается цена маисовой похлебки, которой наполняют миску до краев… Но как-то вечером его спасительная порция попала в чужие руки: едва лишь Билли потянулся за своей миской, как ее перехватили.
– Сегодня можешь отдохнуть, я выполню эту работу за тебя! – великодушно заявил басистый голос, и вся партия неудержимо грохнула от хохота.
Растерянный и оглушенный, Билли испуганно обернулся: позади него возвышался ухмыляющийся Траверс.
– Ну что, поделишься со мной, Цыпленок? – нарочито любезно осведомился он.
Каторжники захохотали еще пуще, но тут один из них предупредительно дернул Джима за рукав, показывая пальцем в сторону. В двух шагах, молча глядя на него, стоял Бенджамин Баркер.
– На что ты пялишься? – огрызнулся Траверс. – Может, хочешь проповедь прочесть?
– Скажи, ты смог бы драться за еду, которую отобрал? – не повышая голоса, ответил Бен вопросом на вопрос.
– Ты в этом сомневаешься? – язвительно усмехнулся Людоед. – Ешь свою, а то остынет!
– Так вот, я отдам тебе свою порцию, когда ты не сможешь поднять руки, – отпарировал Баркер.
Эта неожиданная фраза, в которой наравне с упреком вместо объявления войны прозвучало твердое обещание поддержки, застала Траверса врасплох. Слова и поведение этого человека всегда сбивали его с толку, вынуждая совершать поступки, которым после не находилось объяснения. Невольные приливы воодушевления, порывы непривычного великодушия, благодаря которым Траверс будто бы поднимался выше на ступень, довольно быстро проходили, оставляя в нем лишь злобу и досаду, точно он вдруг очнулся в грязной луже на глазах у всех. Нет, уж лучше он останется самим собой!
– Тогда отдай ему, раз такой сердобольный! – глухо буркнул Людоед, махнув рукой на Билли и молча удалился, пережевывая на ходу лепешку. Потасовка, которую многие с нетерпением ожидали, так и не вспыхнула.
– Странный он стал, – заметил Том, провожая его взглядом. – Боюсь, что скоро это выяснится.
– Да, скоро… – нахмурившись, согласился Бенджамин и поделился к Кэролом своей похлебкой.
Несколько позже действительно все выяснилось…
Утро в общем бараке начиналось с раскатистых криков надзирателей:
– Эй, ленивые крысы, поднимайтесь, кто не хочет отведать плетей! На работу, собаки, на работу!
Дверь, которую на ночь крепко запирали, сейчас под охраной пехотинцев с ружьями наготове, была распахнута настежь. Свежий воздух, еще не накаленный зноем, ворвался в помещение, пропахшее пронизывающе резким духом сырости и человеческих страданий.
Пробираясь к выходу вместе с другими арестантами, Баркер случайно заглянул под нары справа от себя. Жуткое зрелище заставило его невольно содрогнуться и замедлить шаг: из-под грубо сколоченных досок на него бессмысленно глядели неподвижные тусклые глаза. Несколько заключенных уже переступили через вытянутую поперек прохода руку, конвульсивно сжатую в кулак.
– В чем дело! – раздался недовольный окрик Бейса. – Эй, Баркер, хочешь вернуться и поспать еще?
Бенджамин молча указал ему на распростертое под нарами безжизненное тело и отошел.
Бейс недоверчиво пихнул лежавшего ногой, но тот не шевельнулся. Стиснутые пальцы не разжались – уставившись застывшим взглядом в потолок, покойный словно угрожал своим тюремщикам.
– Плут! – выругался было надзиратель, но грубое, вошедшее в привычку слово как-то неловко оборвалось. – Отмучился, – пробормотал он, перекрестившись.
– Это я! – Оттолкнув с дороги Бена, полуодетый арестант с криком бросился на землю, жадно вцепившись в тело умершего, точно голодная собака в кость. – Это я его убил! Я! Я!..
Он в исступлении бил себя в грудь, с какой-то безумной гордостью показывая собравшимся труп своего товарища. Его глаза горели лихорадочным огнем, но Бенджамин заметил, как во взгляде его сверкнула искра отчаянной надежды.
– Я – убийца! – яростно прорычал он на весь барак, видя, что надзиратель и подбежавшие солдаты молча, с недоверием смотрят на него.
– Странно: я не вижу на теле следов насильственной смерти, – наклонившись, заметил Бейс. – А ну-ка отвечай, как ты его убил?
Арестант в замешательстве уставился на него.
– Я убил его. Я! – повторял он упорно. – В темноте, этой ночью…
– Врешь! – Бейс круто развернул его и, схватив рукой за горло, поднял на ноги. – Убийца не признался бы! Я знаю, что ты задумал! Мечтаешь отдать концы? Боишься сам себя убить и хочешь, чтоб тебя повесили, хитрая бестия?! – крикнул он, сверля беднягу взглядом. – Я прав?
Арестант не отвечал, и надзиратель с силой ударил его головой о перегородку:
– Молчишь? Значит, я прав, черт бы тебя побрал! Я всех вас насквозь вижу!
– Не издевайся над ним, Бейс, – вступился за товарища Мэттью. – Ты же видишь: у него не в порядке с головой!
– Вижу, не слепой! – Надзиратель отбросил свою жертву, как тряпичную куклу. – Таких тут – полбарака, если не больше, – с досадой прибавил он. – Заразная причуда!
– Здесь очаг этой эпидемии, – со вздохом пробормотал старик и угрюмо опустил седую голову, припомнив кое-что из собственного опыта.
– Эй, вы! – возвысив голос, пригрозил Бейс, обращаясь к заключенным. – Запомните, кто еще выкинет подобный фокус, будет наказан, как за попытку самоубийства! А теперь – все во двор!
Мертвое тело унесли, и инцидент был исчерпан. Через несколько часов покойный будет под землей, но каторжники позабудут о нем гораздо раньше: их муки не дают им передышки.
По дороге на рудник Бенджамин заметил, как укоризненно, с безмолвной горечью Билли исподлобья погладывает в сторону Мэттью. Казалось, юноша беспрестанно повторяет про себя вопрос, на который ему, как наивному или слепому ребенку, однажды ответили ложью.
– Ну чего ты все смотришь? – не выдержал Гроу, встряхнув головой. – Ладно, можешь не говорить: я знаю!
– Ты не ответил, существует ли на самом деле рай, – вырвалось у Билли, точно в груди его не оставалось места для вдоха, – просто сказал, что я еще не видел ада. Неправда: я его вижу! С первого дня, как оказался за решеткой! Ты утверждал, что смерти ищут чаще на словах и пристыдил меня за то, что совершает каждый! А потом сказал, что человек должен терпеть и выживать… Зачем?
Тонкие, высохшие губы старика невольно дрогнули, а редкие седые брови хмуро сошлись на переносице.
– Я хотел подбодрить тебя, уберечь от безумия… Но оно здесь повсюду, как и смерть. К сожалению, двадцать лет каторги могут окончиться намного раньше, чем ты думаешь. А может, это к счастью… – Гроу замолчал и отвернулся. Его худые плечи едва заметно передернулись под серой курткой, сношенной до дыр. Больше он не проронил ни слова.
В толпе бредущих по пыльной, каменистой дороге арестантов Билли остался наедине со своими мыслями. Бенджамин то и дело оглядывался на него, следя, не бросится ли юноша бежать в порыве охватившего его отчаяния. Но тот понуро двигался вперед, не поднимая головы, устало волоча худые ноги. Надзиратели время от времени подгоняли его, понукая ударами плетей. Кэрол выглядел изнуренным, еще не добравшись до рудника. Пустая водянистая похлебка, которую любой нормальный человек, не знакомый с тюремным бытом, принял бы за помои, а изголодавшиеся каторжники с жадностью отбирали друг у друга, не возвращала ему силы. Для тяжелого труда необходимо закаленное, выносливое тело – у Билли его не было. Некто назвал петлю искусно продуманным изобретением для укрощения диких лошадей: она затягивается все туже оттого, что жертва барахтается в ней, а жертва бьется потому, что задыхается. Жизнь каторжников похожа на агонию в петле: чем хуже они работают – тем чаще их наказывают, но от невыносимых наказаний они работают все хуже. Билли перестал говорить о смерти, он почти не жаловался вслух на свои страдания. Однако это и настораживало Бена: тот, кто не говорит, способен совершить...
Подавленный тоской и одиночеством, ища поддержки и сочувствия, еще в тюрьме Кэрол однажды поведал ему свою историю. Горькая, изувеченная несправедливостью судьба поразила Баркера сходством с его собственной: у них обоих подло украли будущее, без вины осудив за воровство. Билли был слишком слаб и уязвим, чтобы испытания укрепили его дух, и Бенджамин поклялся себе защищать и наставлять его, как родного брата. Когда-нибудь это поможет им, если ни один из них не сдастся…
Постройки угольного рудника располагались на равнине, отгороженной от моря естественной стеной прибрежных скал. Свежее дыхание соленого морского ветра не доносилось до ее широкого пространства, и уже с утра каждый камень здесь накалялся под немилосердно палящим солнцем. Непосвященным может показаться, что работы под землей спасают углекопов от полуденного зноя, а в полумраке длинных, узких коридоров веет прохладой, как со дна глубокого колодца. На самом деле в некоторых уголках подземных лабиринтов царит невыносимая жара, точно в горниле адовой печи. Рудник – это еще одна тюрьма, где заключенные, как будто для того, чтоб выбраться на волю, целыми днями, не жалея сил, роют подкопы в самых недрах давящей на них земли.
Вратами в беспросветную зияющую пропасть, уводящую в разветвления обитых деревом тоннелей, служила башня, внутри которой помещалась подъемная машина. Ежедневно на рассвете шахта, как огромное, скрытое от глаз чудовище, с ненасытной жадностью заглатывала клети с каторжниками. Чрево ее, словно источенное множеством червей, насквозь пропитанное спертой селитряной сыростью, конвульсивно содрогалось от резких беспорядочных толчков, и с гулким лязгом изрыгало на поверхность груды черных, сверкающих обломков. Уголь грузили в вагонетки, которые катили по железным рельсам, проложенным в тоннелях штреков**. Местами своды были так низки, что приходилось ползти на четвереньках, пристегивая к поясу цепь от вагонетки. По некоторым штрекам впереди тележки свободно прошла бы лошадь, однако в колонии запрещено было иметь вьючных животных: в качестве тягловой силы использовали заключенных.
Самыми жуткими были тесные концы проходов, где рабочие, дробившие пласты угля при тусклом свете лампы, оказывались точно замурованными в невыносимо жарком, душном тупике между тремя стенами и кучей отбитой ими породы. Местами сквозь деревянную обшивку потолков тонкими ручейками просачивались грунтовые воды, а под ногами скользила размытая почва.
Рискуя быть затопленными, заживо погребенными в могиле глубиной в десятки метров, стать еще одним пластом среди угля, песчаника и глины, каторжники, в отличие от свободных тружеников, не могли ответить на вопрос: ради чего все это? Да разве подобный труд вообще может окупить какая-то цена?! Эта сырая, зыбкая, смешанная с кровью, омываемая грязными, мутными ручьями, земля вдали от солнечного света питала зерна гнетущей ненависти. Здесь ослепленные могильным мраком зорко видят внутри себя и ничего не забывают. Но разве мир там, наверху, меняется от этого? Жизнь арестантов была и остается дешевой безделушкой в чужих руках…
Добытый уголь дробили, просеивали и доставляли на склады, выстроенные неподалеку от башни; там же хранили бревна, из которых сооружались крепи подземных галерей.
Те, кто трудился под землей, поднимались на поверхность только на закате. Если бы день продлился дольше, яркое солнце непременно ослепило бы их после десяти часов сумеречной темноты. Немудрено, что после работ на руднике желтая роба «неисправимых преступников» также, как и серая, были одинаково черны, а сами арестанты походили на рабов-нигеров. Каждый из них получал ведро воды, чтобы кое-как смыть с себя угольную пыль. Вымыться по-настоящему им позволялось только в воскресенье – перед проповедью, которую неукоснительно полагалось посещать. Тогда же выдавали и чистую одежду. Так протекала, уходя сквозь пальцы, «жизнь» заключенных в каторжной колонии…
Захватив с собою лампу, Бенджамин вместе с группой углекопов вошел в одну из клетей, в которой помещалось одновременно по десять человек; вторая, на ярус ниже, была загружена досками и подпорочными бревнами. Барабаны спусковой машины, вращаясь, привели в движение два стальных каната, и клети, резко дрогнув, соскользнули в гулкую чернеющую пустоту. Эти, перемежающиеся толчками, головокружительные спуски напоминают странное падение в никуда – порою трудно разобрать, взлетаешь ты в беззвездное ночное небо или проваливаешься в колодец. Никто не вскрикнул, услыхав, как по железной крыше клети дробью хлещет настоящий ливень: то старая обшивка шахты кое-где пропускала воду, которую откачивали с помощью водоотливного насоса.
Канаты замерли, раздался грохот отворяемых задвижек, и каторжники разбрелись по узким коридорам штреков. Дойдя до поворота, за которым недавно начали долбить еще один проход, Бен собирался было войти в забой***, как вдруг, между ударами кирки по твердому угольному пласту, до него донесся приглушенный шепот. Быстро прикрыв ладонью лампу, он прижался спиной к сырой стене и затаил дыханье, напрягая слух. Слово, произнесенное арестантами вполголоса, нередко таило в себе угрозу – он должен был узнать, против кого.
– …А нечего больше откладывать, – решительно настаивал один из собеседников. – Разве тебе не хочется поскорей удрать отсюда? Роуд поправился и без труда уложит за раз не одного, а двух. Сегодня он сказал мне, что готов. Траверс уже неделю только и ждет сигнала. Этот верзила и вовсе сметет с пути кого угодно!
– Если противник не окажется умнее, – послышался в ответ иронический смешок. Каторжники до сих пор не могли забыть той злополучной драки, в которой «муравей» сразил гиганта.
– Притихни, Гарри! Если бы Джим тебя услышал – прихлопнул бы на месте!
Бенджамин в одно мгновение оценил положение вещей: четверо заключенных задумали побег, причем для этого им нужно будет расправиться с охраной. Те двое, что шептались за углом тоннеля, в прошлом были взломщиками из одной и той же шайки. Первый, – Баркер узнал его по визгливому, резкому голосу, – Джереми Блейд – являлся вожаком. Второго звали Гарри Кент, а Роуд, уличный воришка, был их общим приятелем по каторге. Чтобы исполнить свой опасный замысел, им не доставало лишь недюжинной силы Людоеда.
Все сразу встало на свои места: продуманная осторожность Траверса была коротким затишьем перед бурей. Но, как на самом деле оказалось, бороться с этой бурей предстояло не Бену, а солдатам, охранявшим заключенных.
– Не боишься бежать с Людоедом? – недоверчиво спросил у Блейда Кент, явно намекая на историю, связанную с этим грозным прозвищем.
– Может, и правда то, что о нем болтают. А я скажу одно: он моряк и умеет ориентироваться по солнцу и звездам. Кроме того – свирепый, как кабан, и во время побега поможет нам пробиться. С надзирателем особо возиться не придется: он не вооружен – разве что плеткой. Главное кокнуть в спину четырех солдат и отобрать у них оружие, порох и пули, потом свернем на узкую боковую тропку между скал и отстреляемся от остальных. В джунглях мы будем охотиться на дичь, а если Людоеду захочется отведать человечины, нас будет трое против него, – уверенно заявил Блейд и грохнул киркой по камню.
– Послушай, Джерри, – с опаской зашептал ему приятель, – а ты не думал, что когда мы побежим, другие каторжники могут увязаться вслед за нами?
– Я все продумал: они послужат нам прикрытием. Что еще тебя пугает?
– Любой побег опасен тем, что может привести в местечко более поганое, чем прежде, – мрачно усмехнулся Гарри Кент.
– Слушай, мне все время кажется, что ты колеблешься, – раздраженно бросил ему Блейд.
– Нет-нет! – поспешно, хоть и не очень убедительно, заверил его товарищ.
– Значит, завтра утром по дороге на рудник, возле той самой боковой тропинки, которую я показал тебе. И спрячь заточку**** понадежнее. Все наши пойдут в хвосте колонны, каждый поближе к «своему» солдату.
На этом разговор внезапно оборвался, и Бенджамин, боясь, как бы его не обнаружили, неслышно отступил обратно к выходу. В потемках штрека перед его глазами четко до мелочей предстала вся картина завтрашнего бегства. План был необычайно дерзкий, но, как ни странно, выполнимый. По дороге к руднику каторжников сопровождали пехотинцы, вооруженные ружьями и саблями, которые при быстром, заранее спланированном нападении можно было отобрать. В узком проходе между скалами, каждые двадцать заключенных окажутся, по сути, под охраной всего лишь четырех солдат и надзирателя, с которыми вполне по силам справиться таким как Роуд, Блейд и Кент, не говоря уже о Джиме Траверсе. Возможно, заговорщики приметили ту самую тропу, которая однажды ввела уже Бена в искушение. Но если он поддался спонтанному порыву, то эти четверо продумали все до конца. Беглецы укроются от пуль за каменной преградой скал и, если оторвавшись от погони, затеряются в труднопроходимых джунглях, будут спасены. Ценою жизни четырех людей. А может, даже больше…
Погруженный в размышления, Баркер простоял так около минуты, пока в колодец шахты, позади него, снова со скрежетом не опустилась клеть.
– Чего ты ждешь, забыл что делать? Иди в забой и кроши уголь! – возмущенно прикрикнул надзиратель, замахнувшись плеткой.
Ловко увернувшись от удара, Бен, не оборачиваясь, зашагал вглубь низкого тоннеля. За ним последовали еще несколько рабочих, катя перед собой пустую вагонетку.
Привычно беспросветный день закончился без новых происшествий: никто не пострадал от неожиданных обвалов, поток воды не хлынул в коридоры штреков, даже ни разу не заели механизмы спусковой машины.
Облачный вечер промелькнул подобно слабой вспышке пламени над затухающим костром. Часовые, как обычно, заперли барак и заняли свои посты. Казалось, кроме посвященных и Баркера, случайно раскрывшего их тайну, никто и не подозревал о том, что будет завтра, рано утром…
* Фунт = 0,453592 кг.
** Штрек – горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность.
***Забой – В шахте: постепенно продвигающийся в ходе работ конец горной выработки, являющийся рабочим местом горняка.
****Зато́чка — самодельное колющее, колюще-режущее или режущее холодное оружие, изготовленное по типу шила или стилета (чаще) или по типу ножа. Распространённое по всему миру оружие заключённых исправительных учреждений, тюремный нож.

Глава 5. ШАКАЛ СРЕДИ ВОЛКОВ
– Том… – Бенджамин осторожно приподнялся и наощупь отыскал плечо товарища.
Оба лежали на земле, собрав как можно больше соломы для подстилки. На нарах спать намного тверже, одно неловкое движение в тревожном сне – и можно скатиться на пол, так они узки. Предоставив свои три скрипучих доски захватившему их арестанту, Бен каждый раз устраивал себе постель на новом месте. Это давало особое преимущество: врагам непросто было бы найти его.
Том недовольно заворочался в полусне.
– Эй, что случилось? – промычал он, еле шевеля губами.
Не тратя лишних слов и времени, Бенджамин сразу сообщил ему все, что хотел сказать:
– Завтра по дороге на рудник трое заключенных вместе с Траверсом обезоружат четырех солдат и бросятся бежать. Начнется перестрелка. Возможно, вспыхнет настоящий бунт.
Черный Том встрепенулся и дернулся вверх, точно и впрямь услышал выстрелы. Сон его мгновенно улетучился, а усталость уступила место бурному волнению. Он словно воспарил как птица над непроглядно-вязким туманом душной темноты, наполненной тяжелым, хриплым дыханием спящих арестантов. Но незримые крылья ослабели так же быстро, как угасает вспышка молнии в грозу. Это было лишь коротким, хоть и неистовым, порывом… Том подавил его в себе и медленно прилег обратно. Бен угадал бы его внутреннюю борьбу даже при свете дня. Как часто его собственное сердце трепетало при словах «свобода» и «побег», когда их неожиданно произносили вслух! Теперь, для человека, в пятый раз обманутого призрачной надеждой, он стал уже достаточно сдержан и осторожен.
– Откуда ты узнал? – как можно тише спросил Том. В голосе его звучало лишь недоумение, все остальные чувства исчерпали себя за несколько секунд.
– Я случайно слышал разговор, спрятавшись за поворотом штрека.
– Даже если предположить, что их план удастся, я ни за что не побежал бы с этими четырьмя, – помолчав немного, отозвался Том и задумчиво прибавил: – Если беглецов поймают, их ждут самые ужасные последствия…
– Ужасно то, что завтра четыре человека будут убиты ударом в спину! – сурово заметил Баркер.
– Солдаты, – не скрывая отвращения, поправил Том.
– Это люди подневольные. – В тоне Бена явственно звучал внутренний протест.
– Ты что же – остановишь Людоеда и его дружков? – Насторожившись, Том с тревогой ожидал его ответа.
Бенджамин долго лежал без движения, глядя в чернильную темноту. Разум его загнан был в тупик, но совесть упорно требовала от него решения.
– Завтра на перекличке я затею драку хотя бы с двумя из них, – сказал он вдруг. – За это обычно сажают в карцер. Их побег оттянется на неделю-две, а потом, возможно, что-нибудь изменится. На каторге ежеминутно происходят перемены: никто даже не знает, доживет ли до утра!
– Ты с ума сошел: в карцере они тебя убьют! – зашипел на него Том.
– А что мне делать, скажи?.. Разве я могу подло донести на них?! – почти беззвучно воскликнул Бенджамин.
Старый Том был поражен до глубины души.
– Безумец! – повторил он с горечью.
– Постой… Ты слышал? – Бен привстал и напряженно замер: снаружи в навесном замке с лязгом повернулся ключ. Протяжно заскрипели несмазанные петли – и сноп красноватого света проник в проем распахнутой двери. Бен разглядел сутуловатую, широкую фигуру Бейса, за спиной которого блеснуло несколько штыков.
Солдаты – их было четверо – с ружьями наготове переступили порог барака. Эта немногочисленная группа походила на охотников, которые отважно забрели в самое логово волков… если не считать, что там, снаружи, храбрецов ожидало подкрепление. Заключенные настороженно зашевелились. Те, что лежали ближе к выходу, инстинктивно заслоняли руками глаза, потревоженные резким светом фонаря. Но в глубине барака, под покровом тьмы, угадывалось тайное движение, таившее ответную угрозу.
– Джереми Блейд, Джим Траверс и Генри Роуд! – выкрикнул Бейс, перекрывая недовольный ропот. – На выход!
Бенджамин вздрогнул. Когда ты постоянно под прицелом или под замком, достаточно короткого намека, чтобы распознать опасность. В сознании молниеносно выстраивается прямая связь событий, исключая случайность совпадений. Сомнений не было: заговор был раскрыт. Бен порывисто вскочил на ноги вслед за Томом, пораженным не меньше него.
– Это они! – непроизвольно, точно выдох, слетело с его губ. – Но почему он не назвал четвертого?..
– Четвертый?!.. Откуда ты узнал? – прорычал кто-то над самым его ухом. Обернувшись, Бен столкнулся с Людоедом, на лице которого застыли изумление и ярость. Как он вдруг оказался рядом, словно вырос из-под земли? Как он расслышал?..
– Значит, это ты настучал им, Баркер? – оглушительно рявкнул Джим, сделав резкое движение рукой в сторону солдат.
– НЕТ! – что есть силы крикнул Бенджамин. – Я не доносчик!
– А кто донес?!
– Спроси об этом у четвертого! Но я уверен, что его здесь уже нет!
Вывод напрашивался сам собой: пока три волка дожидались утра, чтобы вырваться из клетки, шакал успел предать их и трусливо скрыться. Среди затравленных, озлобленных и прóклятых притаился тот, кто подло обманул их последние надежды. Гари Кент колебался неспроста: он выбирал между рискованным побегом и гарантированной платой за донос. Выслужившись перед законом, заключенный мог заработать себе помилование или хотя бы сокращение срока ссылки.
– Кто – Гарри?.. – Траверс ошеломленно уставился на Бена, но тут же вскинул опустившиеся было руки. – Врешь! Я придушу тебя!
Еще немного, и потасовка затянула бы всех, кто мог добраться до дерущихся, если бы не грянул выстрел.
– Прекратить! – раздался властный окрик офицера. – Роуд, Блейд и Траверс, выходите! В третий раз я повторять не стану!
Сухо щелкнули ружейные затворы, и в бараке воцарилась тишина.
– Арестант Баркер, – прибавил офицер, – выходите вместе с ними!
Кольцо, сомкнувшееся вокруг Бена и его противника, распалось. Две темные фигуры медленно отделились от толпы и двинулись навстречу ожидавшей их охране – то были Блейд и Роуд. Нащупав у себя под курткой самодельный нож, Траверс переглянулся с заговорщиками. Если их замысел раскрыт, им нечего терять! Так или иначе, их осудят и повесят, как бунтовщиков. Быстрые взгляды, значение которых пленные и каторжники схватывают на лету, грозно, воинственно, отчаянно кричали одно: «Сейчас!». Такие взгляды, бегло брошенные исподлобья по сторонам, подобно кремню, высекают искры, от которых может вспыхнуть настоящий всепожирающий пожар. Следуя за Траверсом и его сообщниками, Баркер с каждым шагом ощущал, как в рядах притихших арестантов нарастает угрожающее напряжение, точно огонь бежал по фитилю к бочонку пороха.
– Заковать! – распорядился офицер, когда все четверо остановились у дверей.
– Давай же! – отозвался Людоед, с готовностью протягивая руки. В воздухе мелькнуло острие ножа, и офицер со сдавленным предсмертным хрипом повалился на пол. Но раньше Траверс вырвал у него ружье и, размахнувшись, увесистым ударом деревянного приклада оглушил солдата, готового прицелиться.
– Эй, ко мне! – бешено взревел он, обернувшись к арестантам. – Перебьем этих собак в красных мундирах! Нас больше! Вырвемся наружу и зададим им жару!
Когда ты слишком долго терпишь издевательства и муки, внутри однажды происходит перелом, и неожиданно ты сознаешь, что не было смысла терпеть, даже ради того, чтобы выжить. И в тот момент, когда ты обнаружил, что больше не боишься ни своих врагов, ни смерти, тебя уже ничто не остановит.
Вызов был брошен – с ответ раздался дружный отклик, похожий на громовой раскат. Заключенные так тесно сгрудились у дверей, что солдатам не хватало места, чтобы выставить штыки. Толпа зажала их, лишив возможности стрелять и оттеснив от выхода. Десятки рук железной хваткой вцепились в стволы их ружей и рукоятки сабель.
– На помощь! – что есть мочи заорал придавленный к стенке надзиратель.
– А, Бейс! Прости, я о тебе забыл! – хищно усмехнулся Роуд и от души впечатал его голову в широкое бревно.
– Во двор! – скомандовал Джереми Блейд, охваченный азартом битвы, и каторжники мощным, бушующим потоком хлынули наружу. Вооруженные неудержимой яростью, сжигающей их изнутри, сейчас они готовы были смести с пути целую армию тюремщиков.
Среди хаоса логика и осторожность не имеют голоса, мы не способны трезво оценить положение вещей. Это как опьянение: страх исчезает, разум теряет власть над телом, а тело повинуется течению, которое захлестывает нас с головой. Бенджамин Баркер, даже рассуждая здраво, не отступил бы перед лицом опасности. Эта живая бурлящая река несомненно увлекла бы его в самый центр беспощадной схватки, где в ярких вспышках выстрелов кроваво-красные мундиры смешались с пыльной от угля желто-серой массой… Но вдруг одна единственная, стремительная мысль пронзила его, как шальная пуля: если сейчас он присоединится к мятежу, то никогда уже не увидит жену и дочь! И в этот самый миг, как будто подтверждая предостережение, дверь взвизгнула на петлях и с грохотом захлопнулась: те, кто остался во дворе, были отрезаны от своих товарищей. Арестанты оказались в двух ловушках: одни в горячей, душной темноте барака, другие – под открытым небом.
Но это еще не было исходом. Снаружи сквозь отрывистые беспорядочные выстрелы долетало бряцанье клинков, цепей… неистовые крики, сдавленные стоны. Часть охраны и бунтовщики уже боролись врукопашную. Двери барака сотрясались под глухими толчками изнутри; трещали доски: заключенные ломали нары, чтобы воспользоваться ими, как тараном.
– Что вы делаете? Двери же под прицелом! – в ужасе воскликнул кто-то. Баркер узнал по-юношески звонкий голос Кэрола. Как в этой бурной суматохе он сохранил еще способность соображать? Он словно видел поверх смятения и мрака. Но грубый окрик тут же оборвал его:
– Заткнись и не мешай, сопляк!
Толпа, хрипя подобно раненому зверю, замерла, напряглась и с громогласным рыком налегла на свой таран. Дверные створки заскрипели под сокрушительным ударом. Казалось, еще немного, и они слетят с петель. Но что если все эти охваченные неуправляемым воинственным порывом люди вслепую рвались навстречу гибели? Что если там, снаружи, они споткнутся о мертвые тела своих товарищей?
Стрельба внезапно прекратилась, и наступило странное, зловещее затишье, как будто передышка перед решающим броском. Запертым в бараке арестантам оставалось лишь догадываться, что последует за этим…
Вырвавшись из всеобщей давки, Бен подобрался к узкому красноватому просвету между вертикально вбитых бревен, чтобы посмотреть во двор. На нарах под его коленом зашевелилось чье-то твердое, худое тело.
– Куда ты лезешь, олух! Ты же меня раздавишь! – застонал Мэттью.
– Пропусти, это я, – отозвался Баркер, припав щекой к стене.
Зрелище, открывшееся перед ним сквозь щель, подтвердило его самые худшие предчувствия: выстроившись в шеренгу, два десятка пехотинцев, двинулись к бараку с ружьями наперевес. Бен понял их намерения раньше, чем прозвучали резкие короткие команды:
– Готовься! Целься!..
Ружейный ствол коснулся узкого просвета…
– Ложись! – что есть мочи крикнул Баркер и, отпрянув от стены, стащил на землю Гроу.
Раздалась команда, которой он не разобрал. Воздух содрогнулся от мощного, оглушительного залпа, и пули градом застучали под потолком.
Толчки тарана мгновенно прекратились, оцепенение сковало даже самых смелых и отчаянных бунтовщиков.
– Сдавайтесь! Или следующий залп уже не будет предупреждением! – прогремел за дверью голос командира.
Томительную тишину, повисшую во тьме барака, нарушали лишь приглушенные проклятья заключенных – это в мучительной агонии умирала их последняя надежда. Хоть и сознавая, что все рухнуло, они не отвечали, теряясь в слепых догадках, что стало с Траверсом и остальными, успевшими выскочить во двор.
Офицер не счел необходимым дожидаться, пока мятежники соберутся с мыслями.
– Готовьсь! – последовала новая команда.
– Нет! Не стреляйте, мы сдаемся! – вскричали несколько несчастных.
– Держите ружья наготове! – послышалось снаружи. – Принесите кандалы!
Вскоре стук молотков за стеной возвестил, что не все из восставших перебиты в схватке с охраной. Только что предстояло им впереди? Тюрьма, откуда они прямиком оправятся на виселицу? Они поставили на карту свои жизни, которые уже не стоили ни гроша – и проиграли… Что ж, так или иначе, эта дерзкая попытка обрести свободу, привела к тому, что каторга закончится для них до срока! Пара дней заключения, и тюремщики сами снимут с них кандалы, которые с таким усердием заколачивают сейчас.
Несколько человек, израненных, озлобленных и укрощенных, ожидали своей очереди.
– Ну же! – прикрикнул пехотинец, исполнявший обязанности кузнеца, вытолкнув Траверса вперед. – Став ногу на наковальню, паршивый пес!
Людоед повернул к нему лицо, искаженное отчаянием и ненавистью. В разодранной рубахе, залитой кровью убитых им солдат, с горящим взглядом, стоя под прицелом десятка ружей, он походил на древнего циклопа, жаждущего впиться зубами в человеческую плоть. Сомкнувшись плотным строем, охрана настороженно смотрела на него, словно на зверя, которого стоило огромного труда загнать в ловушку, но никогда не приручить. Чопорным, надменным судьям и бесчувственным тюремщикам не понять, что это дикое чудовище – творение их собственной жестокости! Но было еще нечто, не видимое невооруженным оком, не постижимое уму: он был рожден таким же человеком, как они. Различны оказались только судьбы.
У Джима оставался еще козырь в рукаве – та самая заточка, с которой начался мятеж. Короткий бесполезный кусок железа. Ему он уже не поможет, но это неважно… Семь бед – один ответ!
– Пошел ты! – задыхаясь от ярости, выкрикнул Траверс и с ненавистью плюнул в лицо солдату. Тот вскинул руки и с проклятьем замахнулся молотком. В ту же секунду острие ножа точно змеиным жалом вонзилось ему в грудь. Кандалы упали наземь.
Стиснув зубы, Людоед испустил свирепое рычание – это был его последний смех. Ружейный выстрел оборвал его, как ржавую струну. Выставив штыки, солдаты подступили ближе. Траверс лежал навзничь рядом с трупом одного из своих мучителей. На лице его застыло отвращение: смерть просто омерзительна, но широко-раскрытыми глазами он с вызовом смотрел на нее в упор…
Когда закованные в цепи мятежники под конвоем были отправлены в тюрьму, двери барака на минуту отворили, чтобы вынести убитых и раненных солдат, а вместе с ними злополучного надзирателя.
Свет фонаря, скользнувший по бараку, выхватил из темноты съежившиеся фигуры подавленных и присмиревших арестантов. Баркер огляделся и заметил Гроу, неподвижно припавшего лицом к стене, у самой щели. Поначалу он подумал было, что старика зацепило пулей. Бен осторожно прикоснулся к его плечу. Мэттью едва заметно вздрогнул, но не обернулся.
– Эх, Джим! – пробормотал он только. Из груди его вырвался приглушенный стон, похожий на рыдание. В нем прозвучали сожаление, тоска и… зависть, исполненная горького, угрюмого восхищения. Давний друг, который, задыхаясь в его руках, когда-то отважно выбрал жизнь, отправился в иной, далекий мир свободы, а Гроу так и остался здесь.
Баркер не видел смерти Джима Траверса, но слышал его крик, затем, как эхо – грохот выстрела, и понял все. Однако вид застывшего, подобно каменному изваянию, безутешного Мэттью поразил его до глубины души: старик как будто осиротел.
Бену тогда не приходило в голову, что где-то, в нескольких шагах от них, прильнув к просвету между бревен, Билли Кэрол также стал свидетелем этой страшной гибели. Баркер не мог подозревать, какую роль сыграют в судьбе бедного юноши слова, с благоговением произнесенные пастором в тюрьме, и этот роковой пример…
Лагерь затих, словно затерянный во мраке безлунной глубокой ночи. Ночи, которая не принесет ни сна, ни отдыха. Не только арестанты, но и часовые напряженно ожидали утра. По бараку, как змея в траве, полз настороженный, враждебный шепот.
– Ну попадись он мне – мокрого места не оставлю, – бросил кто-то точно камень в темноту.
– Кто?
– Баркер, черт бы его побрал!
– Думаешь, он – стукач?
– Не сомневаюсь!
– Я был о нем другого мнения…
– Я тоже. До сегодняшнего дня.
– В какой угол он забился, под какие нары?! – присоединился чей-то сиплый голос.
– Я здесь! – внезапно прозвучал ответ. – Вам не придется меня искать.
– Ах ты, шакал паршивый! – пронзительно прошипел кто-то сверху. Под потолком послышалась возня, что-то тяжелое упало вниз, и Бенджамин почувствовал, как на него грозно надвинулась невидимая тень.
– А я готов поклясться на стопке библий, что Баркер – не доносчик! – возмущенно заявил Мэттью. Его непримиримая уверенность могла обезоружить кого угодно. Бен с облегчением заметил, что старик уже вполне оправился от потрясения. Жизненный опыт Гроу вызывал у заключенных уважение не меньше, чем сокрушительная сила Траверса, но Баркер приготовился сам защищать себя.
– Я невиновен, – произнес он тоном человека, который не боится нападения. – И я это докажу. Четверо из нас задумали побег. Когда об этом говорили Блейд и Роуд, я оказался неподалеку, и случайно раскрыл их планы. Но хоть я и не собирался присоединяться к ним – во всяком случае, не стал бы доносить! Все вы слышали, как Бейс назвал только троих, но мне известно точно, что их было четверо. И Траверс это подтвердил. Но если я, по-вашему, предатель, то почему я не донес на них на всех? Сделайте вывод. Их предал тот четвертый, чье имя не назвали!
– Да какая ему выгода с того? – рявкнул кто-то. – Он что – полоумный?
– Нет, просто осторожный, очень хитрый и бесчестный, – не повышая голоса, твердо ответил Баркер. – Побег был сопряжен с огромным риском: по дороге на рудник нужно было убить и обезоружить четырех солдат, потом отстреливаться, убегая на глазах у всех. Предатель рассудил, что выгоднее будет заработать на доносе. Мы все прекрасно знаем, что этим он может заслужить себе помилование или облегчить свою участь.
– Да, так бывало, – заметил один из арестантов, – я слышал о подобных случаях. Только место на более легких работах или пост надзирателя не спасут его от расплаты!
– А если его переведут подальше? – язвительно возразил другой.
– Все равно не отвертится. Рано или поздно мы его найдем!
– А может быть, уже нашли…
Не видя лиц, Баркер внимательно прислушивался к разговору. Недвусмысленный намек последней фразы ясно дал понять, что его доводам поверили не все. Необходимо было доказательство, полностью и безоговорочно опровергающее обвинение, но он его не находил… Неужто даже здесь, среди отверженных, приговоренных к неволе и забвению, его опять осудят без вины?
– Это тебя, должно быть, собирались отвести в безопасное местечко, Бен! После того, как Траверс назвал тебя доносчиком, – издевательски сострил самый недоверчивый.
– Да хоть бы у тебя язык отсох! – в негодовании взорвался Том.
– Послушай, Баркер, если хочешь жить, скажи: кто был четвертым? – спросил вдруг суровый голос, и все затихли, превратившись в слух.
– Гарри Кент, – отчетливо ответил Бенджамин. Арестантам он без колебаний мог его назвать.
Хмурый ропот прокатился по бараку, в нем сквозило смутное сомнение.
– Шельма еще та, – подтвердили двое-или трое.
– А кто здесь праведник? – последовал иронический вопрос.
– Эй, Гарри!
На зов никто не отозвался.
– А если он убит?..
Слепая неопределенность не выпускала арестантов из тупика, как эта непроглядная, колючая темнота вокруг. Всего за несколько минут в их головах вспыхнуло уже с десяток мыслей, среди которых одна противоречила другой…
Обвинениям и спорам положил конец каторжник, лежавший возле самой двери.
– Я видел, как Гарри потихоньку вышел вместе с Бейсом перед тем, как заперли барак, – сказал он и, недолго думая, сделав выводы, со злобой плюнул на пол.
Все стало до предела ясно, точно сквозь стену вдруг ударил яркий свет. После этих слов повисла гробовая тишина. Ее не всколыхнули ни проклятия, ни грубые ругательства, но в ней, как притаившийся в засаде зверь, явственно ощущалось напряженное дыханье жгучей ненависти. И эта ненависть сплотила даже самые несхожие характеры, враждебные друг другу. Так могут ненавидеть только каторжники. Но, вместе с тем, лишившись вожака, они, возможно, снова неожиданно нашли его…
Глава 6. ИЗ ПРОПАСТИ НА НЕБЕСА
– Вчерашний мятеж показал, что у вас накопилось слишком много энергии! Что ж, я распорядился вдвое урезать ваш паек на целый месяц. Кроме того, отныне все вы будете носить оковы, и если вдруг охрана обнаружит, что они повреждены, виновных ожидает самое суровое наказание! Никакого снисхождения к слабым и больным! Никакого милосердия к тем, кто выказывает неповиновение! Здесь каторжная колония, а не благотворительный приют! Только жестокость может обуздать законченных преступников и негодяев вроде вас. Вы сами подтвердили это правило! – каждая фраза коменданта Роджерса звучала, как удар стального молота, которым заколачивают кандалы. Закончив свою речь, он размеренным, чеканным шагом прошелся перед колонной безмолвных, понурых арестантов. Его пронизывающий, пытливый взгляд не упустил из виду ни одной детали: казалось, Роджерс не преминул бы обыскать их души, если б мог.
Внешность коменданта полностью соответствовала его нраву. Сухое, сдержанное выражение его продолговатого лица с правильными, но лишенными своеобразия и живости чертами, менялось крайне редко. Отчасти это свойство было следствием суровой военной жизни и привычки в трудных обстоятельствах довольствоваться малым. Начав свою карьеру лейтенантом, дослужившись до чина капитана и будучи назначенным на пост коменданта каторжной колонии, Роджерс не проявлял терпимости и снисхождения к подчиненным. Власть компенсировала все его прежние лишения, и здесь, на дикой, далекой от цивилизации земле, он пользовался ею, по сути, бесконтрольно. Сознание незыблемого права решать чужие судьбы, распоряжаться ими, как имуществом, по собственному усмотрению, щедро питало тайные пороки его, казалось бы, уравновешенной натуры. Боль, унижения и страх людей, стоящих ниже, будь то солдаты или заключенные, стали со временем для Роджерса нездоровым удовольствием. И эта, скрытая опасная болезнь прогрессировала.
Комендант почти закончил свой обход. Он собирался было дать команду кузнецу, но что-то вдруг заставило его остановиться. Один из заключенных, не опуская головы, смотрел на него прямо и открыто – так, словно между ними не существовало никаких различий! Роджерс припомнил, как похожий взгляд, горящий мрачной непримиримостью, однажды уже заставил его невольно вздрогнуть. Когда?.. В глазах коменданта сверкнул возмущенный вопрос, но он не задал его вслух. Каторжники, эти чудовища, которых надлежало усмирять самыми беспощадными карательными мерами, не стоили того, чтобы запоминать их лица или имена – они заслуживали только порки, тюрьмы и кандалов. Но это бледное лицо с точеными чертами, столь мало походившее на хитрые физиономии типичных аферистов и мошенников, четко запечатлелось в его памяти. Да, месяц-полтора назад, этот самый каторжник сбежал и был наказан... Уже в который раз. Бесспорно, он опаснее других. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от человека с таким взглядом.
– Лейтенант Уилсон! – обратился Роджерс к офицеру, стоявшему поблизости.
– Да, капитан!
– Как его имя? – Комендант указал рукой на Бенджамина.
– Кажется, Баркер, капитан!
– Пускай за ним следят построже.
– Слушаюсь!
Резко повернувшись, Роджерс отошел. Вчерашний бунт едва не подорвал его престиж, зато сегодня он с лихвой расправится с виновными. В особенности с теми, что дожидаются повешенья в тюрьме.
Около получаса оглушительно стучали молотки, и раздавалось бряцанье цепей – однообразные, назойливые звуки, от которых никуда не деться. Со стороны вся эта сцена производила впечатление, будто кузнец подковывает каких-то невиданных двуногих лошадей…
Не выдав арестантам ни крошки пищи, их отправили работать на рудник. Охрана была усилена, а на том самом повороте, где от основной дороги в скалы уходила узкая тропинка, Роджерс распорядился дополнительно поставить караул.
Надзиратели, казалось, стали еще злее, и каждый заключенный чувствовал это на своей спине. Объяснить причину было просто: чем громче лают и больнее кусают сторожевые псы, тем больше зарабатывают мяса.
За этот напряженный, невыносимо долгий день в душных потемках сырого подземелья, Бенджамин неоднократно задавал себе вопрос: выжил ли кто-нибудь из тех солдат, что приходили ночью за Траверсом и его товарищами? Если да, то коменданту непременно донесут, что Баркер знал об их мятежных планах и не предупредил охрану! В голове его снова и снова вихрем проносились фразы: «Откуда ты узнал?», «Значит, это ты настучал им?..» Офицер прекрасно понял, что хоть Бен и не являлся соучастником, он, тем не менее, был в курсе предстоящего побега и возможно даже собирался воспользоваться случаем.
Если среди каторжников больше нет предателей, они будут молчать. На это еще стоило надеяться. Офицер убит, но надзиратель и солдаты могли быть только ранены. Очень скоро кто-нибудь из них заговорит и тогда… Нет, им не удастся его уничтожить! Каким бы ни было очередное испытание, он должен выдержать! Если его, конечно, не повесят!..
Для каторжника жизнь и смерть – невероятно схожие понятия, как пытка и петля, но Бен всегда готов был стойко выносить первое – самое тяжкое из этих зол: он не боялся смерти, но изо всех сил сопротивлялся ей.
Время во тьме тянулось и летело. С каждым замахом кирки, с каждым ударом сердца там, высоко над потолком из глины и земли толщиной в десятки футов, солнце неумолимо клонилось к западу, и надвигался вечер. Бенджамин мужественно приготовится к тому, что, все, возможно, прояснится раньше, чем наступит ночь…
Клеть со скрипом поднялась на поверхность, свет казался полуденно-ослепительным и резал глаза. В пыльном воздухе не было жара – остался лишь сухой, горячий дух, словно от остывающей печи. Подгоняемые бранью раздраженной охраны, заключенные строились в колонну.
– Шагай проворней! Ты весь день еле тащишься! На ужин даже не рассчитывай! – прогремел в нескольких шагах от Бена голос надзирателя.
Такие окрики были привычным делом, слишком обыденным, чтобы кого-то удивить. По мнению тюремщиков, такого обращения заслуживал, без исключения, каждый арестант, но Баркер, почему-то, еще не обернувшись, вспомнил о Кэроле. Он не ошибся.
Через силу волоча тяжелые оковы, до крови растершие ему лодыжки, Билли без пререканий подчинился. Его сухие, сжатые от боли губы побелели. Но надзирателю, похоже, было мало одного лишь молчаливого повиновения, и чтобы подкрепить свою угрозу делом, он замахнулся плетью. Юноша вскрикнул и вцепился в его руку.
– Ах ты, щенок! Я проучу тебя!
Несколько секунд они отчаянно боролись. Внезапно Кэрол оступился, запутавшись в цепях, и опрокинулся на спину. Зажмурившись, он инстинктивно сжался в ожидании удара, который непременно должен был последовать… И вдруг горячее негодование, переполнив его сердце, хлынуло наружу, точно кровь из раны. Прежде, чем в воздухе просвистела плеть, Билли рывком вскочил на ноги, крепко стиснул руки в кулаки и… бросился бежать. Опасное, неудержимое стремление как будто окрылило его измученное тело.
– Стой! – предостерегающе окликнул его Баркер, предвидя, что вот-вот произойдет непоправимое. Несколько арестантов попытались удержать безумца, но юноша каким-то чудом увернулся.
Поначалу солдаты, пораженные столь неслыханной дерзостью, даже не сделали ни единого выстрела. Прихрамывая, частыми, короткими шагами, вряд ли можно далеко уйти. И что пытался доказать этот несчастный, ринувшись навстречу каменной скале? Что он способен пройти ее насквозь?
Кэрол уже добрался до крутого склона, изрезанного острыми зубчатыми уступами. Коснувшись красноватого, нагретого на солнце камня, он замер, словно не веря, что еще жив.
– Назад, мальчишка, или я стреляю! – донесся до него раздраженный окрик.
Билли прерывисто вздохнул, дрожащими руками ухватился за ближайший выступ и, не оглядываясь, начал карабкаться наверх. Угроза словно ободрила его вместо того, чтоб испугать.
Едва лишь он преодолел первые несколько ступеней ввысь, предчувствие внезапно подсказало Бену, кудá он устремился – на самую вершину голого утеса, чтобы, шагнув с обрыва в бездну, взлететь на небеса!
– Стой! Все равно не уйдешь!
Две или три пули просвистели вдогонку беглецу. Гулкое эхо прокатилось по равнине.
– В ногу стреляйте! – раздался приказ офицера.
Билли уже почти достиг небольшой площадки, на которой мог бы, хоть ненадолго, перевести дух. Слабеющими, исцарапанными в кровь руками он лихорадочно вцепился в ее потрескавшийся край, поросший сухой травой.
Воздух прорезал одинокий выстрел…
– Попал? – пронеслось по рядам заключенных и коротко, глухо отозвалось: – Попал!
Юноша без движения лежал ничком на плоском каменном уступе, в трех десятках футов над землей. Не будь этой опоры, он наверняка потерял бы равновесие и сорвался вниз. Вскоре до него добрались солдаты.
Когда бесчувственного Билли Кэрола не без труда стащили со скалы, движимые любопытством арестанты подступили к нему ближе, стараясь рассмотреть, не убит ли он. Стрелявший ранил Билли в ногу, но пуля лишь слегка его задела. Бедняга потерял сознание скорее от сильного волнения.
Не дожидаясь, пока тот придет в себя, командир охраны резко встряхнул его за ворот и с размаху ударил по лицу:
– Сбежать хотел?! Забыл, что полагается за это?
Билли закашлялся и медленно приоткрыл глаза. Прямо над ним, словно прозрачный океан без берегов, простиралось догорающее небо – пустое, равнодушное, по-прежнему недосягаемо далекое. С горьким немым вопросом он вгляделся в непостижимую до головокруженья бесконечность, как будто ища в ней Бога. Там не парили даже птицы…
– Чего разлегся? Поднимайся! Или надеешься, что понесут? – нетерпеливо прикрикнул надзиратель. – Теперь-то уж ты точно получишь по заслугам!
Боясь, что на него опять посыплются удары, Билли изо всех сил напрягся и, кое-как поднялся на ноги. Солдаты недоверчиво следили за каждым его движением.
– Давай же, я помогу тебе. – Видя, что Кэрол не в состоянии пройти и шага без посторонней помощи, Бенджамин подставил ему плечо. Он ожидал услышать грубые, язвительные шутки арестантов, которые не упускали случая поиздеваться над Цыпленком, но сейчас ни на одном лице не было и намека на усмешку. Бен заметил, как Мэттью Гроу повернулся было к офицеру, беззвучно шевеля губами. Что он хотел сказать? Возможно, снова собирался объяснить, что «бедный малый не в себе»? Но разве этому здесь придавали хоть какое-то значение?
– Бен, теперь они убьют меня? – еле слышно промолвил Билли, глядя в пространство перед собой. В голосе его не прозвучало ни страха, ни надежды, и он сам поразился своей отрешенности.
– Нет, – ответил Баркер. Пальцы его сжались на руке товарища. – Но тебе придется набраться мужества. В первый раз мне было очень страшно, после – уже меньше…
Кэрол бессознательно следовал за Беном, как сомнамбула по краю крыши. За всю дорогу он не произнес ни слова, не поднял больше глаза на небо. Вскоре после возвращения в лагерь надзиратель сообщил ему, что завтра утром он получит свою порцию плетей.
Механизм дисциплины в каторжной колонии был предельно прост, а потому ни разу не сбивался с ритма. Имена провинившихся и проступки, за которые следовало их покарать, заносили в журнал, комендант равнодушно просматривал записи, не вдаваясь в подробности, назначал наказание, и тюремщики вскорости приводили приговоры в исполнение. Ни о каком помиловании не могло идти и речи: люди, отверженные обществом, считались заведомо виновными во всех грехах.
Настало время ужина. Урезанный паек заметно сказывался на всеобщей атмосфере среди каторжников: и без того гнетущая, она грозила постепенно перерасти в зловещую. Но, помня, что за пререкания с охраной можно получить добавку совсем иного рода, изголодавшиеся за день арестанты предпочитали молча проглотить свою похлебку.
– Возьми. Съешь, когда будем уже в бараке. – Бенджамин осторожно просунул под куртку Билли небольшую пресную лепешку. Он захватил ее украдкой, как это делал для него порою черный Том.
Кэрол машинально прижал к себе твердоватое, но еще теплое тесто. Глаза его по-прежнему прямо и неподвижно смотрели в пустоту, как будто он ослеп или весь мир вокруг исчез… Внезапно краска прилила к его щекам, а губы задрожали.
– Бен, прости меня!.. – прошептал он, приходя в себя.
Но Баркер не успел ему ответить.
– А, вот ты где! – раздалось позади него. Услышав этот голос, в котором наравне с угрозой прозвучало явное злорадство, Бен сразу понял, что его судьба предрешена. Последняя надежда, если от нее еще и оставался слабый огонек, рухнула окончательно. Баркер узнал бы говорившего, даже не оглядываясь. Это был Бейс – тот самый надзиратель, который прошлой ночью приходил в барак в сопровождении солдат.
– Что – думал, о тебе забыли, и успокоился? – последовал язвительный вопрос, а следом – краткий пересказ последних происшествий: – Офицер убит, солдаты – в лазарете… А я вот, как ни странно, выжил!
Бенджамин медленно поднялся и повернулся к Бейсу. С опасностью лучше стоять лицом к лицу.
Голова надзирателя была перевязана, но он твердо держался на ногах и ничуть не утратил своей вызывающей грубости.
– Как же ты узнал, что трое арестантов задумали побег? – продолжил он допрос и тут же, усмехнувшись, поправился: – Прошу прощенья, четверо! Ты ведь и это знал, проныра?
Баркер молча посмотрел на Бейса: рассказывать ему подробности не имело смысла.
Между тем, каторжники, уловив начало разговора, стали настороженно прислушиваться. Некоторые из них даже прекратили трапезу, словно хищники, почуявшие настоящую добычу. В воздухе витала затаенная враждебность, и она еще острее ощущалась в наступившей тишине.
Надзиратель искоса бросил взгляд на часовых.
– Почему ты ничего не сообщил охране? – спросил он Баркера, с расстановкой отчеканивая слова.
– Потому, что я не доносчик, – сухо ответил Бенджамин. – Он у вас уже есть!
Две или три пули просвистели вдогонку беглецу. Гулкое эхо прокатилось по равнине.
– В ногу стреляйте! – раздался приказ офицера.
Билли уже почти достиг небольшой площадки, на которой мог бы, хоть ненадолго, перевести дух. Слабеющими, исцарапанными в кровь руками он лихорадочно вцепился в ее потрескавшийся край, поросший сухой травой.
Воздух прорезал одинокий выстрел…
– Попал? – пронеслось по рядам заключенных и коротко, глухо отозвалось: – Попал!
Юноша без движения лежал ничком на плоском каменном уступе, в трех десятках футов над землей. Не будь этой опоры, он наверняка потерял бы равновесие и сорвался вниз. Вскоре до него добрались солдаты.
Когда бесчувственного Билли Кэрола не без труда стащили со скалы, движимые любопытством арестанты подступили к нему ближе, стараясь рассмотреть, не убит ли он. Стрелявший ранил Билли в ногу, но пуля лишь слегка его задела. Бедняга потерял сознание скорее от сильного волнения.
Не дожидаясь, пока тот придет в себя, командир охраны резко встряхнул его за ворот и с размаху ударил по лицу:
– Сбежать хотел?! Забыл, что полагается за это?
Билли закашлялся и медленно приоткрыл глаза. Прямо над ним, словно прозрачный океан без берегов, простиралось догорающее небо – пустое, равнодушное, по-прежнему недосягаемо далекое. С горьким немым вопросом он вгляделся в непостижимую до головокруженья бесконечность, как будто ища в ней Бога. Там не парили даже птицы…
– Чего разлегся? Поднимайся! Или надеешься, что понесут? – нетерпеливо прикрикнул надзиратель. – Теперь-то уж ты точно получишь по заслугам!
Боясь, что на него опять посыплются удары, Билли изо всех сил напрягся и, кое-как поднялся на ноги. Солдаты недоверчиво следили за каждым его движением.
– Давай же, я помогу тебе. – Видя, что Кэрол не в состоянии пройти и шага без посторонней помощи, Бенджамин подставил ему плечо. Он ожидал услышать грубые, язвительные шутки арестантов, которые не упускали случая поиздеваться над Цыпленком, но сейчас ни на одном лице не было и намека на усмешку. Бен заметил, как Мэттью Гроу повернулся было к офицеру, беззвучно шевеля губами. Что он хотел сказать? Возможно, снова собирался объяснить, что «бедный малый не в себе»? Но разве этому здесь придавали хоть какое-то значение?
– Бен, теперь они убьют меня? – еле слышно промолвил Билли, глядя в пространство перед собой. В голосе его не прозвучало ни страха, ни надежды, и он сам поразился своей отрешенности.
– Нет, – ответил Баркер. Пальцы его сжались на руке товарища. – Но тебе придется набраться мужества. В первый раз мне было очень страшно, после – уже меньше…
Кэрол бессознательно следовал за Беном, как сомнамбула по краю крыши. За всю дорогу он не произнес ни слова, не поднял больше глаза на небо. Вскоре после возвращения в лагерь надзиратель сообщил ему, что завтра утром он получит свою порцию плетей.
Механизм дисциплины в каторжной колонии был предельно прост, а потому ни разу не сбивался с ритма. Имена провинившихся и проступки, за которые следовало их покарать, заносили в журнал, комендант равнодушно просматривал записи, не вдаваясь в подробности, назначал наказание, и тюремщики вскорости приводили приговоры в исполнение. Ни о каком помиловании не могло идти и речи: люди, отверженные обществом, считались заведомо виновными во всех грехах.
Настало время ужина. Урезанный паек заметно сказывался на всеобщей атмосфере среди каторжников: и без того гнетущая, она грозила постепенно перерасти в зловещую. Но, помня, что за пререкания с охраной можно получить добавку совсем иного рода, изголодавшиеся за день арестанты предпочитали молча проглотить свою похлебку.
– Возьми. Съешь, когда будем уже в бараке. – Бенджамин осторожно просунул под куртку Билли небольшую пресную лепешку. Он захватил ее украдкой, как это делал для него порою черный Том.
Кэрол машинально прижал к себе твердоватое, но еще теплое тесто. Глаза его по-прежнему прямо и неподвижно смотрели в пустоту, как будто он ослеп или весь мир вокруг исчез… Внезапно краска прилила к его щекам, а губы задрожали.
– Бен, прости меня!.. – прошептал он, приходя в себя.
Но Баркер не успел ему ответить.
– А, вот ты где! – раздалось позади него. Услышав этот голос, в котором наравне с угрозой прозвучало явное злорадство, Бен сразу понял, что его судьба предрешена. Последняя надежда, если от нее еще и оставался слабый огонек, рухнула окончательно. Баркер узнал бы говорившего, даже не оглядываясь. Это был Бейс – тот самый надзиратель, который прошлой ночью приходил в барак в сопровождении солдат.
– Что – думал, о тебе забыли, и успокоился? – последовал язвительный вопрос, а следом – краткий пересказ последних происшествий: – Офицер убит, солдаты – в лазарете… А я вот, как ни странно, выжил!
Бенджамин медленно поднялся и повернулся к Бейсу. С опасностью лучше стоять лицом к лицу.
Голова надзирателя была перевязана, но он твердо держался на ногах и ничуть не утратил своей вызывающей грубости.
– Как же ты узнал, что трое арестантов задумали побег? – продолжил он допрос и тут же, усмехнувшись, поправился: – Прошу прощенья, четверо! Ты ведь и это знал, проныра?
Баркер молча посмотрел на Бейса: рассказывать ему подробности не имело смысла.
Между тем, каторжники, уловив начало разговора, стали настороженно прислушиваться. Некоторые из них даже прекратили трапезу, словно хищники, почуявшие настоящую добычу. В воздухе витала затаенная враждебность, и она еще острее ощущалась в наступившей тишине.
Надзиратель искоса бросил взгляд на часовых.
– Почему ты ничего не сообщил охране? – спросил он Баркера, с расстановкой отчеканивая слова.
– Потому, что я не доносчик, – сухо ответил Бенджамин. – Он у вас уже есть!
Несмотря на сдержанность, в тоне его прозвучало нескрываемое отвращение.
– Да, помню, нечто подобное ты уже сказал – вчера, - с иронией заметил Бейс. – Так вот, не сомневайся: сегодня я доложил об этом коменданту! Утром он щедро наградит тебя – за то, что не предаешь своих!
Его угрозу заглушило бряцанье цепей, по двору прокатился негодующий ропот, и вся арестантская братия, как по команде, подалась вперед. Надзиратель невольно попятился. Не лучше ли было без лишнего шума подать на виновного рапорт, и дело с концом? Но злобный и упрямый характер Бейса всякий раз толкал его на самые рискованные действия. Выбившись из обычных ссыльных в надзиратели, он редко упускал возможность показать если не силу, то хотя бы собственную значимость. Но, обвинив Баркера при всех, он лишь еще прочнее утвердил его авторитет в глазах товарищей. И в тот момент, когда они, дружно, как один, встали на его защиту, Бейсу внезапно показалось, что каторжники видят в Бене второго Джима Траверса или, по меньшей мере – его замену.
– Вы только посмотрите! – надзиратель возмущенно обернулся к одному из караульных, призывая его в свидетели. – Еще немного и они бы разорвали меня в клочья!
– Не провоцируйте их: обстановка и без того накалена, – посоветовал солдат.
По-видимому, Бейс уже истратил свой запас энергии, и предостережение подействовало. Слегка прихрамывая, он благоразумно удалился в отдельную палатку неподалеку от барака, в которой ночевали надзиратели.
– У него, как у кошки, девять жизней, – пробормотал сквозь зубы Том, с ненавистью глядя ему в след.
– А у меня – всего одна, – тихо ответил Баркер тоном человека, готового упорно бороться за нее.
Каторга – это невероятно ясное до крика сознание того, где ты сейчас, и напряженная тревога в полном неведении о том, что тебя ожидает впереди. Мысленно всматриваясь в будущее, Бен мог увидеть лишь расплывчатое, тусклое пятно. Будет ли вообще он жить, хватит ли у него на это сил?.. Никакой уверенности, никакой определенности, кроме, того, что завтра на рассвете вместе с Билли он получит не меньше пятидесяти ударов плетью. Но почему-то именно теперь необъяснимое предчувствие подсказывало Бенджамину: либо что-то резко разломится в нем надвое, либо скоро наступит перелом в его судьбе…
Утро забрезжило над лагерем с первыми ударами барабана. Казалось, в этом затерявшемся на отшибе мире, ограниченном крутыми, обрывистыми скалами, даже природа подчинена суровой дисциплине. Заключенных, как обычно, вывели во двор. После переклички тщательно осмотрели кандалы, выдали каждому скудную порцию каши – и отправили на рудник. Баркера удивило, что их не заставили присутствовать при наказании, как это делали практически всегда. По-видимому, комендант опасался новых беспорядков.
Когда Бена вместе с Билли Кэролом под конвоем вывели на середину опустевшего двора, Роджерс уже нетерпеливо ожидал их там в сопровождении седого, низенького человека в потертом сером сюртуке – то был доктор Браун. Чуть поодаль, почтительно соблюдая дистанцию, пристроился Бейс. Его широкое лицо с крупными, резкими чертами и низким, покатым лбом настолько откровенно выражало злое торжество, что Бенджамин, едва взглянув на него, с отвращеньем отвернулся. Билли тревожно озирался, словно ища того, кто выполнит обязанности палача.
Перед собравшимися возвышалось сооружение из трех наклонных деревянных стоек, закрепленных наподобие основы для конусообразного шатра. Эта конструкция, к которой привязывали приговоренных к порке заключенных, называлась треугольником. Руки осужденного фиксировались у вершины, а ноги – у основания, и стоявший позади палач наносил ему удары плетью по спине. Точно таким же образом производились экзекуции солдат в британской армии.
Своим привычным чеканным шагом Роджерс неторопливо обошел вокруг пустого треугольника и, остановившись перед Баркером, смерил его испытующим взглядом с головы до ног.
– Знаешь, где сейчас Гарри Кент? – спросил он вдруг вместо того, чтобы по обычаю огласить виновным приговор.
Не опуская глаз, Бенджамин молча ожидал, что Роджерс ответит за него.
– Я поручил ему обязанности надзирателя в тюрьме. Возможно, ему также уменьшат срок, – продолжил комендант, выдержав многозначительную паузу. – Правила неизменны: те, кто подчиняется закону, могут рассчитывать на снисхождение; те, кто ему противится – заслуживают наказания!
Да, безусловно, Гарри хорошо продумал, на что идет: озлобленные каторжники вряд ли смогут отомстить ему в тюрьме!
Баркер по-прежнему молчал, на его лице не отразилось ни раскаяния, ни досады, только хмурый риторический вопрос: какое дело ему до Гарри Кента?
– Я слышал, арестанты стоят за тебя горой, точно ты – главный среди них? Считаешь, дерзость и упрямство делают тебя героем? – с иронией поинтересовался Роджерс.
Бен сразу понял: Бейс уже успел сообщить об их вчерашней стычке коменданту, расписав подробности в самых ярких красках. Теперь его считали опасным подстрекателем. Что, если бы вдруг все узнали, ради чего этот «законченный преступник» совсем недавно готов был оказаться в подземном карцере? Тюремщики смеялись бы над ним, а каторжники – попросту убили бы!
- Изволь же отвечать!
Что можно было ответить человеку, расценивавшему, как оскорбительную дерзость, право другого оставаться самим собой?
– Я не герой, но никого не продаю, – сухо отозвался Бенджамин.
– Ясно. – Роджерс отрывисто кивнул. – По-видимому, порка до сих пор ничему тебя не научила. Что ж, я могу иначе заставить тебя повиноваться правилам и законам: для этого не нужно быть героем и никого не надо предавать. Эй, привяжите его! – Комендант указал рукой на Билли и, забрав у солдата плеть, повелительным жестом протянул ее Баркеру. – Итак, я вкратце изложил тебе теорию, приступим к практике. Выпори этого мальчишку! Преподай ему урок! Вы оба заслужили по пятьдесят плетей, но, если справишься, получишь в два раза меньше, чем он.
Солдаты уже сорвали с Билли куртку и подтолкнули его к треугольнику. Пока ему завязывали руки, он не проронил ни звука, но расслышав последние слова коменданта, вдруг обернулся к Бену и быстро прошептал:
– Делай, как он велит!
Бенджамин вздрогнул, точно от удара. Кровь отлила от его сердца и бросилась к щекам. Он знал, что коменданту доставляло удовольствие играть с теми, кто находился в полной его власти, и эти игры часто были верхом произвола. Он сознавал, какие тяжкие последствия неизбежно повлечет за собой отказ. Но это требованье Роджерса было для него поистине изощренным издевательством.
– Я подвергался порке чаще, чем вы можете себе представить. Но никогда не брал и не возьму этого в руки! – с отвращением ответил Баркер, указав на плеть.
Комендант метнул пронзительный, гневный взгляд на заключенного, который, несмотря на цепи, отстаивал свою позицию, как совершенно свободный человек.
На несколько секунд повисло напряженное молчание.
– Не сомневайся: я учту все твои заслуги, – с расстановкой выговорил Роджерс и круто повернулся к ближайшему солдату, как будто Баркер вдруг перестал существовать:
– Эй, Нордек!
– Да, капитан!
– Приступайте! Пятьдесят ударов плетью за попытку бегства! – Комендант сделал резкий жест в сторону Билли Кэрола.
– Слушаюсь, капитан!
Скинув мундир, пехотинец встал позади приговоренного.
– Прошу прощения… – вполголоса обратился к Роджерсу доктор Браун.
– В чем дело?!
– На вашем месте при его комплекции я не давал бы ему в первый раз больше тридцати. Ведь, судя по его спине, у треугольника он получает наказание впервые?..
Комендант с ожесточением стиснул рукоятку сабли.
– Слава Богу, я пока еще не уступил вам свое место, мистер Браун, – отрезал он, еле сдерживая раздражение. – Займетесь им, когда настанет ваша очередь. Нордек, всыпьте осужденному все пятьдесят!
Браун со вдохом отступил. На лице его отразилось выражение безысходности. Мудрое убеждение врача, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, бессильно разбивалось о глухие стены каторжной тюрьмы. Но что он мог поделать, когда его потенциальных пациентов доводили до самого истерзанного состояния прямо у него на глазах?!
Белую спину Кэрола пересекали полосы от плети, кое-где синеватые, а местами багровые. Но это было лишь ничтожной малостью в сравнении с тем наказанием, что предстояло ему вынести сейчас.
Учащенно дыша, юноша инстинктивно напрягся всем телом в ожидании первого удара. Взмахнув тяжелой плетью, пехотинец дважды покрутил ею над головой. Раздался свист и шесть тугих ремней с глухим щелчком впились в нежную кожу.
– Р-раз! – громко отсчитал надзиратель.
Билли испустил короткий вскрик и крепко закусил губу, вцепившись руками в стойки. Солдат неторопливо пропустил сквозь пальцы спутанные узловатые хвосты, отступил на шаг и ударил снова. Юноша резко дернулся вперед, словно пытаясь вырваться из пут. Слабый сдавленный стон заглушило механически четкое:
– Два!
– Сильнее! – нетерпеливо крикнул комендант, охваченный каким-то демоническим азартом.
– Три!..
Стиснув зубы, Кэрол съежился и замер, точно его ударили ножом. От напряжения вены вздулись у него на лбу, а пальцы, обхватившие опору, побелели. На шестом ударе на спине его выступила кровь, к десятому она уже неудержимо стекала тонкими ручьями… Билли задыхался, судорожно втягивая воздух, словно утопающий. Все его тело лихорадочно дрожало, как в ознобе, а по вискам катились капли пота. Он больше не пытался сдерживать отчаянные крики, от которых содрогался знойный воздух. Они рвались наружу, как и кровь из его ран.
Бену легче было самому перенести удары, чем смотреть на эту пытку. Но власть, преобладавшая над ним сейчас, удерживала его на месте крепче, чем оковы: заступничество только разожгло бы ярость коменданта.
Счет медленно, размеренно, неумолимо приближался к тридцати. Кэрол уже почти не бился: его колени подогнулись, а веревки врезались ему в запястья. Но нечто было выше понимания его мучителей. Беспомощный, он не казался жалким. Кричал – но не просил пощады! Он горячо, беззвучно умолял об этом только Бога, все еще веря в Его милосердие, безграничное, как небеса. Бенджамин знал, что в тайне Билли жаждет не передышки, а избавления от мук и унижений – навсегда…
– Сорок два! Сорок три! – методично выкрикивал Бейс.
Спутанные ремешки слипались, и солдат расправлял их после каждого удара, пропуская между пальцев. Звук, с которым плеть рассекала тело осужденного, был невыносимым. Полосы на его спине слились в одну сплошную рану. Удары исторгали из его груди уже не стоны, а сдавленные хрипы. Внезапно он затих. Два последних удара прозвучали в полной тишине.
– Отвяжите!.. – взмолился доктор Браун.
Едва разрезали веревки, несчастный без сознания соскользнул на землю. Надзиратель выплеснул ему в лицо ведро воды. Билли слегка пошевелился, его глаза были закрыты.
– Скоро опомнится! Это послужит ему уроком, – невозмутимо заметил Роджерс. – Вольно, Нордек! Симпсон заменит вас! – крикнул он солдату, беглым взглядом оценив его работу. – И принесите свежую плеть.
Но Бейс внезапно выступил вперед:
– Капитан!
Роджерс нетерпеливо обернулся.
– Позвольте я сам! – выпрямившись точно по команде, воскликнул надзиратель.
Коменданта удивила эта просьба, более похожая на требование.
– Я ценю ваше рвение, но не думаю, что вы справитесь, – ответил он, указывая на повязку Бейса.
– Это не помешает мне! – заверил тот, с готовностью протягивая руку, чтобы взять у пехотинца плеть.
– Отлично! В таком случае – всыпьте осужденному пятьдесят плетей за покрывательство. И столько же – за дерзость и неповиновение, – громко распорядился Роджерс, указав ему на Бенджамина Баркера.
Не дожидаясь, пока солдаты применят силу, Бен сбросил с себя куртку, освободившись от позорной надписи, и обнажил покрытую рубцами спину. Пока его привязывали к треугольнику, Бейс в нетерпении переминался с ноги на ногу позади него: Бенджамин слышал скрип его ботинок. Все знали, каким образом Бейсу удалось пробиться в надзиратели: он часто добровольно сек своих товарищей. Страх и физические муки жертвы разжигали в нем животные инстинкты, компенсируя свободой острых ощущений тяготы неволи. Что касается Бенджамина, то у Бейса он был на особом счету. Их противостояние длилось с давних пор, и Баркер ни разу не дал себя сломить.
– Начинайте! – раздался приказ. Плеть со свистом разрезала воздух.
Бен замер. Боль с быстротою пульса пронзила его тело и яркой вспышкой взорвалась в мозгу. Первый удар – внезапно, сзади, как нападение трусливого врага – парализует, словно ты разрезан пополам. А те, что следуют за ним – уже невыносимо жгут без передышки, как в затяжной агонии. Они терзают плоть, пока не доберутся до души. Никакими криками невозможно заглушить такую боль. И даже, если молча терпеть ее, до скрипа стиснув зубы, все тело, содрогаясь, будет оглушительно кричать о ней. Но самое опасное – не в боли, а в том, что ужас перед нею делает тебя беспомощным настолько, словно ты больше не принадлежишь себе. Баркер сопротивлялся этому бессилию, как только может сопротивляться человек: скрывая страх и слабость от своих мучителей, он прятал их собственного разума.
Бейс наносил удары крест-накрест, резко оттягивая плеть. Трудно представить, что человеческое существо способно на такую ненависть. Бенджамин каждым нервом чувствовал ее – также остро, как и боль. Он понял с самого начала: эта сотня будет стоить ему двухсот. Кровь брызнула буквально с первых же ударов. Бен вытерпел их больше двадцати, изо всех сил удерживаясь от лихорадочных рывков. Бороться с этим дальше было невозможно, как с бурным течением реки. Когда же счет дошел до сорока, он чуть не потерял сознание. Его руки до дрожи в суставах стиснули стойки, а тело вытянулось, как струна, которая вот-вот порвется. Он слышал позади себя свирепое дыханье Бейса, точно рычанье хищника, преследующего добычу. Перед глазами красноватой пеленой стоял туман. Жгучая, режущая боль уже не отпускала – отдельные удары стали почти неразличимы. Кровь тонкими извилистыми ручейками растекалась по земле…
– Семьдесят! – выкрикнул Нордек.
– Добейтесь, чтобы он кричал, как тасманийский дьявол! – раздался гневный голос.
Медленно приоткрыв глаза, Баркер увидел прямо перед собой разгоряченное лицо капитана Роджерса. Яростный азарт изменил его почти до неузнаваемости. Мужество арестантов не вызывало в нем восхищения – оно бесило его, словно это было оскорблением. Бенджамин знал, чего он хочет. Роджерс во что бы то ни стало решил сломить того, кто отказался ему повиноваться. Это было и принципом и потребностью. Нездоровой потребностью человека, опьяненного жаждой насилия.
– Кто еще знал? – внезапно крикнул комендант. – Еще кто знал?..
С десяток жестких, стремительных ударов просвистело в полной тишине, и только Нордек беспристрастно их отсчитывал, время от времени отирая пот со лба.
– Я отучу вас покрывать друг друга! – задыхаясь от ярости, выкрикнул Роджерс и нервно схватился за щеку, как будто Баркер плюнул ему в лицо. – Я проучу тебя так, что ты запомнишь это на всю жизнь!..
– Сто! – громко выдохнул солдат. Удары прекратились.
В ту же секунду Бен почувствовал, что больше не смог бы вытерпеть.
– Эй, не отвязывайте его! Пускай он простоит у треугольника весь день! – распорядился комендант. – И не давайте ему пить – ни капли!
Этот приказ поразил даже привычных ко всему солдат. Оставить под палящим солнцем человека с кровоточащей, израненной спиной – подобная жестокость могла сравниться разве что с произволом Джона Джайлса Прайса* в каторжной колонии на острове Норфолк. Верша «законное возмездие», после порки он привязывал наказанных к заржавленным кроватям, чтобы гарантировать заражение их ран.
– Что вы делаете, капитан? – возмутился доктор Браун. Горячее негодование заставило его на этот раз забыть про всякую почтительность. – Вы хотите убить и его?!
– Что значит «и его»? – комендант резко обернулся.
Опустив на землю Билли Кэрола, доктор выпрямился во весь рост. Безоружный, на целую голову ниже Роджерса, он готов был бесстрашно сражаться за свои убеждения, несмотря ни на что.
– Я вас предупреждал, но вы не слушали меня! – воскликнул Браун. Голос его вдруг задрожал. – Мальчик, которому вы дали пятьдесят плетей, только что скончался! И это вы его убили! Вы!..
Роджерс ошеломленно уставился на доктора. Чудовищные обвинения мгновенно отрезвили его, точно ведро ледяной воды. Он ничем не ответил на дерзость, которую при иных обстоятельствах счел бы просто оскорбительной, и торопливо сделал жест солдатам, чтобы отвязали Бена.

Пошатываясь, Бенджамин с трудом добрался до товарища и опустился на колени рядом с ним. Восковое лицо юноши преобразила странная улыбка – едва коснувшись бледных, потрескавшихся губ, она застыла в широко раскрытых светло-голубых глазах, в которых словно отразилось небо.
– Прощай, ты оказался храбрее многих… Просто был слишком одинок, – почти неслышно промолвил Баркер, и рыдание, жгучее, нарастающее, как бессильная ненависть, сжало ему грудь. Но он не проронил ни звука, только глаза его блеснули из-под сурово сдвинутых бровей.
Бенджамин Баркер словно прощался с самим собой…
Наклонившись к нему, доктор Браун был поражен до глубины души при виде этой безмолвной скорби: человек, не проронивший ни одной слезы от нестерпимой, дикой боли, горько оплакивал того, кто больше не чувствовал ее.
* Джон Джайлс Прайс (20 октября 1808 – 27 марта 1857), судья и уголовный администратор, был единственным гражданским лицом, чтобы командовать вторым урегулированием преступника на острове Норфолк. Являлся главным с 6 августа 1846 до 18 января 1853. Погиб от молотов и ломов каторжников в карьере Уильямстауна в 1857 году.
Глава 7. ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Бенджамин лежал прямо на земле, уткнувшись лицом в солому. Из-за приоткрытой двери общего барака до него, как сквозь густой туман, доносился напряженный разговор двух людей. Равные в своих правах, к сожалению, они не обладали равной властью. Настойчивые интонации одного из них бескомпромиссно подавлялись повелительными, резкими другого: похоже, комендант уже пришел в себя. Внезапно ясно и отчетливо в ответ ему прозвучало слово «произвол».
– На вашем месте я не стал бы делать столь поспешных выводов, мистер Браун! – осадил собеседника Роджерс. – Если вы дорожите своим местом…
– Прошу прощения, но этот вывод я сделал уже давно! – с вызовом воскликнул доктор. Обычно сдержанный и молчаливый, сегодня этот маленький и безобидный человек восстал: чаша его христианского терпения переполнилась до краев. – Для чего вы приглашаете врача присутствовать при ваших зверских экзекуциях? Разве не проще сразу позвать могильщика?
– Вот, что мистер Браун! – раздраженно прикрикнул на него комендант. – Вы бредите: ваши слова нельзя воспринимать всерьез! Примите что-нибудь из своих микстур и отправляйтесь спать!
– После того, как вы переведете пострадавшего в лазарет!
– Это ни к чему! – отрезал Роджерс. – Через пару дней он и без того поднимется и начнет работать.
Даже после самой жестокой порки в лазарет отправляли крайне редко. А если заключенный получал «всего лишь» пятьдесят ударов плетью или меньше, его уже на следующий день без церемоний выгоняли на работу. В лазарете же лечили только тех, чьи болезни были опасны для окружающих, а также пострадавших от обвалов на руднике и совершенно не способных передвигаться. Построенный неподалеку от тюрьмы, он представлял собой просторный каменный сарай, разделенный внутри перегородками, но все же был заметно чище и, если можно так выразиться, комфортнее общего барака.
– Через пару дней!.. – изумился доктор. – Вы хоть раз представляли себя на месте этих несчастных?
– Займитесь лучше вашим пациентом, если так дрожите за него! – послышалось в ответ, а вслед за тем – стук удаляющихся шагов.
Баркер почти не помнил, как доктор обработал его раны, как наложил бинты… И как со вздохом вышел на залитый солнцем двор. Единственным, что врезалось в его сознание, был яркий свет сквозь щель неплотно прикрытой двери. Поиздевались вдоволь – теперь даже не запирают! А может быть, уже не охраняют?.. Что-то мелькнуло у него перед глазами – белое и воздушное, как парус, и реальность обрела туманный лик иллюзии.
Вокруг царила бесконечная томительная тишина. Казалось, будто там, снаружи, исчезли часовые на воротах. Может, и частокола больше нет, а за пределами барака – только небо, свет и ветер?
Бенджамин силится подняться, чтобы посмотреть… Но тщетно, со спины его словно содрали кожу – он не способен даже пошевелиться. «Через джунгли… Вглубь материка – и снова к морю, в десятках миль отсюда!..» – Воспаленный разум скачет с одной мысли на другую, точно камешек рикошетом по воде. Беззвучный всплеск – сознание идет ко дну, издалека доносится лишь эхо: «Бежать! Скорее… Пока открыта дверь!..»
Вечером, возвратившись с рудника, Мэттью и Том нашли его все также неподвижно распростертым на земле у самой двери. Бенджамин тяжело дышал, судорожно сжимая в ослабевших пальцах пучок соломы, точно оружие для нападения или защиты. С первого взгляда было ясно, что под повязками, насквозь пропитанными кровью, его спина иссечена чуть ли не до кости.
Старый негр смог лишь вымолвить: «Ох, Бен…» так же безнадежно, как Мэтью незадолго до того произнес: «Эх, Джим!..»
– А где же Билли? – угрюмо проронил Гроу, не решаясь сам себе ответить.
Бенджамин вдруг пошевелился и повернул к нему бледное, изможденное лицо.
– Билли не выжил, – прошептал он, стиснув руку еще крепче, и закрыл глаза.
На какое-то время тюремщики оставили Бена в покое. Никто, кроме врача и друга, больше к нему не прикасался, и каждая минута, каждый час этой недолгой передышки были драгоценны. Две или три ночи, длившиеся для него целыми сутками – от заката до заката – медленно, но верно возвращали ему силы. Непроницаемо глубокое беспамятство поначалу избавило его от боли – иначе он бы промучился без сна. Когда же Бенджамин по-настоящему пришел в себя, он снова был достаточно силен, чтобы терпеть ее. Человек, не знакомый с суровыми условиями каторги, удивился бы этой выносливости. Порою нам довольно и отчаяния, чтобы беспомощно повалиться наземь. Но, когда твой выбор небогат – боль от свежих ран или новые удары – поневоле выбираешь первое и, чего бы то ни стоило, поднимаешься на ноги. Грубое обращение солдат и надзирателей научило Бена не жалеть себя. И то, о чем иные в его нелегком положении не решились бы и думать, служило ему лучшим лекарством после болезни или порки последние пятнадцать лет. Этим лекарством было непрерывное движение – вперед, на месте – до тех пор, пока ослабленное тело не окрепнет.
Однажды, лежа в беспросветной темноте барака, Бенджамин ощутил вдруг необъяснимую тревогу. Странное чувство, будто время безвозвратно ускользает, овладело им настолько, что у него закружилась голова. Сколько же дней прошло с тех пор, как его, истекающего кровью, отвязали от треугольника? О чем он думал в последний раз в то утро, прежде чем окончательно потерял сознание?.. Расплывчатые, смутные воспоминания стремительно и верно прояснялись; слепые, инстинктивные порывы приобретали форму конкретных мыслей, возвращая к единственной заветной цели. Бен осознал всю суть своей тревоги в одно мгновение: еще немного, и он лишится исключительного шанса на побег. С утра до вечера на страже у ворот остается только пара часовых, и если бы его не посадили в карцер, он смог бы убежать еще в тот раз! Да, как бы сумасбродно это не звучало, если он хочет выбраться отсюда, действовать нужно именно сейчас. В противном случае, его опять отправят на рудник – на долгие годы, без всякой надежды на чудо – пожизненно! Или до следующей порки… Но лучше этого не дожидаться.
Баркер осторожно приподнялся. Сможет ли он держаться на ногах? Бездействие словно опутало сетями все его тело. Стряхнув оцепенение, он, крепко стиснув зубы, попытался встать. Его ладонь уперлась в чью-то вытянутую руку.
– Эй, ты куда собрался? – проснувшись, зашипел на него Том. Старый товарищ, как обычно, спал поблизости.
Бенджамин потихоньку отодвинулся.
– Сколько я здесь пролежал? – спросил он, опасаясь, что времени больше нет.
Том недовольно заворочался.
– Ну, на рассвете трое суток будет, – пробормотал он.
Баркер вздрогнул, точно от озноба: эти могли быть последними!
– Друг, прости меня! – быстро зашептал он прямо в ухо Тому. – Ты не сможешь, но я должен попытаться. Билли ошибся: не только мертвый может вырваться отсюда. Существует лучший способ, я нашел его: умирающих почти не стерегут! Мне нужно задержаться здесь, в бараке, еще на день. Всего на день…
Бен рассуждал о странных, немыслимых вещах так горячо и убедительно, что Том с тяжелым вздохом сделал вполне логичный вывод:
– Эх, бредит… – Измученный усталостью, он тут же снова задремал.
Баркер забылся тяжелым сном лишь перед рассветом. Очнулся он от резкого внезапного удара в бок. Суровая реальность не оставляла места для бреда и обманчивых иллюзий: иного обращения здесь ожидать не приходилось, в особенности тем, кто не способен держаться на ногах. Так начиналось каждое утро, и проходил целый день.
Неторопливо прохаживаясь по бараку, один из офицеров небрежно повернул голову Бена прикладом своего ружья. Вовремя овладев собой, Баркер отреагировал на эту грубость не больше, чем мешок с соломой.
– Слушай, черный! – Офицер подозвал к себе Тома. – Твой приятель еще долго так валяться будет?
– Он еле дышит, – хмуро отозвался Том, глядя исподлобья. – Похоже, что он тихо умирает изнутри…
Должно быть, на этот раз ему поверили. Странно было бы думать иначе. Бывало, что у заключенных после подобных наказаний нередко заживали раны, но позже останавливалось сердце, а случай с Билли Кэролом был далеко не первый. Тела, недолго думая, бросали в яму и…
– Вот что, если через пару дней он не умрет и не поднимется – пусть пеняет на себя! – заявил напоследок офицер и вышел.
– Считай, сегодня я тебя прикрыл, но будь настороже: еще засыплют землей живым… – проговорил с опаской Том, покосившись в сторону распахнутой двери. – Я принес тебе немного каши. Поешь, когда останешься один.
– Спасибо, мне уже лучше, – чуть слышно признался Баркер. И темное лицо старого Тома на миг озарила улыбка. Во взгляде Бенджамина было столько глубокой благодарности, что сердце его друга невольно сжалось. В ту же секунду Том кое-что припомнил. Всего лишь несколько часов назад Бен говорил ему о мертвых… нет, об умирающих и о каком-то странном бегстве… А если он не бредил?! Конечно, нет! Его рассудок был таким же ясным, как сейчас! Но что же он задумал, на что решился?.. Пронзительно-тревожное предчувствие внезапно подсказало Тому, что он видит своего товарища в последний раз.
Закончив скудный завтрак, арестанты во дворе начинали уже строиться в колонну.
– Эй, номер восемьдесят! Живо выходи! – крикнул с порога надзиратель.
Стараясь не показывать волнения, Том поневоле подчинился. У самой двери он украдкой оглянулся через плечо назад, и ему показалось, что Бенджамин приподнялся и еле заметно кивнул. Больше он ничего не успел разглядеть: барак немедленно закрыли на засов.
Заключенных выводили за ворота. Затаив дыхание, Баркер терпеливо ждал, пока команды, брань и звон цепей не стихли вдалеке. Тогда он осторожно поднял голову и медленно, ища рукой опору, поднялся – сначала на колени, затем, уже смелее, выпрямился во весь рост. Мрак мешал ему разобрать, потемнело ли у него в глазах, но, превозмогая боль и слабость, Бенджамин твердо сделал первые несколько шагов… Прильнув к просвету между бревен, он осмотрел широкий опустевший двор. Простая до уныния картина, скупые краски, неизменная монотонность действий: полоска неба, частокол, затоптанная голая земля и двое пехотинцев на страже безлюдия и мертвой тишины. Именно такое зрелище Бен и ожидал увидеть. Оставалось подождать еще немного, но не больше часа. Для начала нужно было подкрепиться. Том, кажется, оставил ему миску каши…

Солнце палило уже довольно жарко, накаляя каждый камень и даже пыльный сухой воздух, когда лениво дремавших часовых вывел из забытья какой-то странный звук, похожий на протяжный стон.
– Эй, кто там еще ноет? – недовольно проворчал один из них, привстав на локте.
– Это, кажется, в бараке, Дайк, – сообразил другой. – Тот арестант, который, говорят, на ладан дышит. Очухался, черт бы его побрал! Иди утихомирь его!
– А, чтоб тебя!.. – Дайк раздраженно выругался, но все-таки пошел. Нехотя отодвинул железную задвижку, толкнул ногой дверную створку, вгляделся в душный полумрак – и тут же получил увесистый удар доской по голове. Падая в темноту, он испустил короткий гневный вопль и выронил из рук ружье.
Все произошло с ошеломительной, молниеносной быстротой.
При виде этой сцены сон у второго караульного мгновенно улетучился: с ружьем наперевес он со всех ног бросился к бараку. Но раньше, чем солдат успел прицелиться и спустить курок, из черного провала входа глухо грянул выстрел.
Судорожно дернувшись, пехотинец отступил на шаг. Его полуоткрытый рот исказился в яростной гримасе, но проклятье превратилось в хриплый стон. Пошатнувшись, он ничком повалился в пыль. И опять воцарилась тишина...
Бенджамин медленно переступил через порог. С непривычки от яркого солнца у него зарябило в глазах. Невольно он заслонился и… полной грудью вдохнул сухой, горячий ветер. Внезапный трепет охватил его, похожий на невыразимую тревогу и восторг на грани беззвучного рыдания. Он сделал это – словно прыжок над пропастью! Измученный, загнанный в угол, почти уничтоженный, он снова ожил – вопреки всему!
Затишье становилось призрачно-гнетущим; раненный пулей часовой подозрительно оставался недвижим. Выйдя на середину двора, Баркер с усилием приподнял его грузное тело. На лице солдата так и застыли изумление и гнев: он был мертв. По красному сукну его мундира медленно расползалось мокрое пятно, а на землю стекал густой кровавый ручеек.
Бенджамин замер, словно оглушенный; руки его внезапно ослабели, а к горлу подкатила тошнота. Он рассчитывал лишь ранить, обезоружить, обезвредить на короткий срок своих тюремщиков, что день за днем, годами причиняли ему страдания – но не убивать! В глазах закона он был теперь не просто каторжником, который, в шестой по счету раз, отважился на бегство. Вдобавок ко всему он стал убийцей, и если побег сорвется, его повесят!..
Бенджамин с трудом дотащил бездыханное тело до барака. Сердце гулко колотилось у него в груди, а на лбу выступили капли пота. Не столько оттого, что пехотинец был тяжел, – каторга приучила Бена носить на себе груз и тяжелее, – это бремя надрывало его душу. Но терзаться раскаянием времени не было – опасность заставляла торопиться. Выстрел, заглушенный толстыми стенами барака, вряд ли услышали за скалами в тюрьме, а тем более на руднике. Но нет гарантии, что случай не приведет сюда непрошенных свидетелей.
Баркер чуть не забыл про второго солдата. Повалив убитого в тот самый угол, где совсем недавно, обессилевший от лихорадки, лежал он сам, Бен занялся живым. Счастье, что тот еще не очнулся! Заткнув солдату рот обрывком грязной тряпки, Бенджамин поспешно стащил с него мундир и крепко связал ему руки ремнем портупеи. Он должен был переодеться: изорванная, ветхая одежда каторжника не годилась для путешествия по джунглям и с головой выдавала беглеца. Дрожь пробежала по телу Бена, едва лишь еще теплое сукно мундира коснулось его плеч: в форме своих тюремщиков он словно стал вдруг одним из них. Что ж, тем лучше!
Самым главным было – поскорей избавиться от кандалов. Возле наковальни во дворе Баркер отыскал кузнецкий молот и несколькими точными ударами выбил из оков заклепки. Его спина, исполосованная плетью, горела и саднила, но непрерывное движение и напряженность мысли отвлекали. Руки работали теперь с быстротой и четкостью слаженного механизма. Сабля, порох и пули, ружье и две фляги с водой были собраны за считанные секунды. Ключи! Теперь они лежали у него в кармане. Ключа от небольшого склада с провиантом у часовых не оказалось, но Бен нашел в палатке надзирателей припасы хлеба и солонины. Что-то подтолкнуло его захватить с собой также нож и котелок. Заперев на задвижку барак, он бегом устремился к воротам. Отомкнул тяжелый навесной замок и с усилием налег плечом на створку. Последняя преграда поддались с глухим, надрывным скрежетом.
Бен шагнул за пределы частокола – впервые без конвоя, без цепей, совершенно один. Звенящая от тишины и зноя реальность походила на мираж – тот самый, что манил и завораживал его в бреду.
«Через джунгли… Вглубь материка – и снова к морю, в десятках миль отсюда!..» – Крылатая ликующая мысль заглушает опасения и страх. Да, так и будет! Впереди – открытый путь и, если удача улыбнется, – целый день – больше, чем нужно, чтобы затеряться в дикой, необитаемой глуши, где люди не соорудили еще ни загонов для себе подобных, ни тюремных стен!..
Не щадя себя, Бенджамин бежал без остановки – так быстро, насколько позволяла его ноша и пышные, густые заросли, почти не пропускавшие дневного света. Перед глазами, множась и все теснее смыкаясь на пути, точно в калейдоскопе, мелькали могучие замшелые стволы, змеиное сплетение лиан… Ветви гигантских папоротников хлестали по лицу. Бен мог бы разрубить их саблей, но поначалу опасался оставлять следы. Ноги скользили временами по размытой ручьями почве, вязкой, как болотная трясина. Он срывался в поросшие кустами овраги и, цепляясь за голые корни, взбирался по рыхлым склонам. Но чем больше препятствий преграждало дорогу, тем сильнее в нем крепла надежда, что здесь явно не будут искать, а если и вышлют погоню, то вряд ли зайдут далеко!
Рассчитывая описать огромную дугу, прежде чем снова выйти к морю, Бен устремился к северо-западу, в самую глубь тропических лесов. Запасы пищи нужно было растянуть как можно дольше, и лишь, когда его сознание мутилось, угрожая покинуть измученное тело, он подкреплял себя глотком воды из фляги и крохотным кусочком хлеба. Ни боль, ни слабость не могли заставить Баркера потратить время даже на минутный отдых до тех пор, пока хотя бы не наступит ночь. Сами тюремщики, казалось, готовили его к этим испытаниям: заковывали в цепи, секли плетьми, а после – запирали в темной камере с озверевшими от голода несчастными, которые до смерти дрались за каждый непригодный для еды кусок. Неужели после всего этого он погибнет в джунглях, обретя свободу?! Здесь, по крайней мере, никто со злостью не ударит его палкой, если он споткнется. Хищники, и те, не нападают без причины. Терзая добычу, они всего лишь кормят свою плоть, душа тут не причем. Человек – вот кто порою кровожаднее зверей: он убивает себе подобных, даже когда сыт.
Пронзительные крики то и дело оглашали чащу. Бог весть, какие существа могли скрываться в этих дебрях, но Баркер знал наверняка: ему не встретятся ни тигры, ни пантеры, хотя… опасностей хватало и без них. Из рассказов бывалых каторжников он слыхал о гусеницах, одного прикосновения к которым довольно, чтобы вызвать долгие адские мучения, о гигантских пауках, чей укус убивает за какие-нибудь полчаса, не говоря уже о ядовитых змеях. Но, упорно двигаясь вперед, Бенджамин убеждал себя, что главная опасность – позади, за несколькими милями лесной глуши, и все дальше с каждым шагом. Сейчас, во что бы то ни стало, нужно оторваться от преследования. А если повезет, и его бегство обнаружат ближе к вечеру, погоню в джунгли вряд ли вышлют раньше утра.
Лишь когда окончательно, непроглядно стемнело, он, совсем обессилев, повалился на мшистую землю. Сон охватил его мгновенно, как пламя очага охватывает тонкую соломинку. Ни ночные шорохи, ни беспокойные, навязчивые мысли больше не тревожили его сознание.
Бен проснулся от странного ощущения, будто чья-то рука, удивительно мягко и медленно гладит его по спине. Израненное тело чутко отзывалось на каждое прикосновение, но, занемев от неподвижности, отяжелело, точно налилось свинцом. Он даже не способен был пошевелиться, лишь осторожно приоткрыл глаза… Светало. Тонкие лучи скользили по густой траве, и что-то длинное, пестреющее желтыми и черными полосками, лениво извивалось на фоне зелени. Змея! Это была тигровая змея! Одно неосторожное движение, и ему конец! Бен, едва дыша, следил, как она, будто бы нехотя, сползает по его плечу, поблескивая гладкой чешуей. Неторопливо миновав живое неподвижное препятствие, змея неслышно затерялась где-то в зарослях.
Баркер с усилием приподнялся с земли. Это неожиданное происшествие вовремя напомнило ему об осторожности. Сегодня только чудо уберегло его от гибели, но чудеса не происходят каждый день. Что ж, впредь он будет осмотрительнее.
Подкрепившись немного, Бенджамин снова двинулся в путь. На длинной палке, на которую он опирался при ходьбе, появилась первая зарубка: миновали ровно сутки. Запасов пищи хватит еще на восемь или десять дней. А после… Если не хочешь умереть голодной смертью, об этом нужно думать уже сейчас! Лес – не пустыня, здесь найдутся съедобные коренья или плоды, и, может быть, удастся подкараулить дичь. Он выживет, как выживают дикари. При этой мысли, Бен внезапно осознал, что если существует вероятность наткнуться на кочующие племена аборигенов, не истребленных и не изгнанных в безжизненную глубь Австралии, как их собратья, то только здесь. Им не оставили открытого пространства, бесцеремонно отобрав их земли под поля и пастбища. Без всякого сомнения, туземцы не испытывают к белым ничего, кроме лютой ненависти, и при случае вправе беспощадно отомстить им. Баркер невольно усмехнулся: все же дикари не столь жестоки, как тюремщики – едят, по крайней мере, сразу, не изводя годами свою жертву. Однако следовало быть осмотрительным вдвойне.
Теперь он более внимательно выбирал себе место для ночлега. Ветви колючих кустов, собранные вместе в виде шалаша, служили ему защитой. Если на пути его попались каменистые ущелья, он искал в них углубление, схожее с пещерой. Но и тогда во сне ему мерещилось, как странные неведомые существа, неутомимо копошась вокруг, жадно стремились по кусочкам растащить его измученное тело… А утром твердой и уверенной рукой он делал новую зарубку на своем дорожном посохе, и каждая из них давалась ценой невероятной, отчаянной борьбы. Первые ночи Бенджамин опасался разводить костер: огонь могли заметить его преследователи. А позднее, убедившись, что погони нет, он боялся, что огонь погаснет раньше, чем наступит утро. Бену казалось, что целая вечность прошла с той поры, как он впервые вышел за пределы частокола. Человек, почти не видевший дневного света, засыпал и просыпался под открытым небом, невзирая на опасности, с наслаждением дыша чистым воздухом свободы.
Иногда он питался плодами высоких кустарников, похожими на недоразвитую шишку кипариса*. По запаху они напоминали заплесневелый сыр, по вкусу – презревшую кисло-сладкую мякоть ананаса. Баркер не сомневался, что плоды были вполне съедобны: именно такими их описывали беглецы, которым, к сожалению, не удалось осуществить свои рискованные планы. Ничего, на каторге кормили хуже – бывало, вовсе не кормили.
Пару раз ему повезло подстрелить мелкую дичь, и он зажарил мясо на костре. Благо среди солдатских пожиток нашлось, чем развести огонь. Сам он ни разу в жизни не заряжал ружья, но слишком часто видел, как это делали солдаты. Несложные, казалось бы, обычные движения, в которых ежедневно заключалась угроза или предупреждение, запечатлелись в его памяти с необычайной точностью.
На десятые сутки закончились запасы воды… В течение двух следующих дней ему не встретилось ни одного источника, чтобы напиться и наполнить фляги. Прошла еще одна бездонно-черная глухая ночь, как будто в яме, кишащей призраками. Бенджамин поднялся на ноги, едва лишь смог различить перед собою путь. К изнеможенью и тревоге прибавилась мучительная жажда: перед глазами беспрестанно кружились ядовито-красные назойливые мухи, а их крылья оглушительно шумели у него в ушах. Бен, спотыкаясь, продирался сквозь тугую паутину веток, рубя их саблей, словно полчище бесчисленных врагов, ежеминутно ожидая появления огромного мифического паука, в засаде поджидающего жертву… и вдруг в стене запутанного лабиринта приоткрылся голубой просвет. Небо! Прозрачно-чистое безоблачное небо – от ослепительного солнца до земли! И, где-то впереди, внизу – упругий плеск… Не может быть! Это – вода! Он в смятении бросается к свету, и вскоре, оказавшись над краем обрыва, соскальзывает вниз по рыхлому песку…
С бьющимся от волнения сердцем Бенджамин прильнул губами к прохладной голубой струе. Странное чувство охватило все его существо, словно он ощутил исполненный надежды долгий поцелуй, который обещал ему спасение. Река, бегущая к бескрайнему простору моря, как верный друг, выведет его, в конце концов, из этой дьявольской ловушки!
Сбросив одежду, Бен по пояс вошел в бурлящую, пенистую воду. Течение едва не подхватило его разгоряченное, обессилевшее тело, но он устоял. В это мгновение он словно рождался вновь под тем же именем и с непоколебимой верой в избавление – Бенджамин Баркер. Вода, казалось, не только смыла с его тела кровь и грязь – в ней растворились его боль и бесконечная усталость.
Как выглядит сейчас его лицо? Бен позабыл, какими были его глаза, улыбка… или хотя бы ее тень. За годы каторги его привычки, свойственные человеку в мире цивилизации, утратили значение: гораздо большее, чем оболочка, было стерто, растоптано, затеряно в нигде. Любоваться на себя можно было разве что в закопченный котелок с водой, но это никому не приходило в голову. Заключенным строго воспрещалось иметь ножи и бритвы, и за пятнадцать лет у него ни разу не было возможности побриться… самому, а тем более смотреть на себя в зеркало. В рябящей солнечными бликами поверхности реки трудно было разглядеть отражение лица. Пожалуй, это к лучшему. Еще не время для встречи с собой. Но по-прежнему стройное тело вернет себе силы – довольно, чтобы сильным оставался дух!
Нетвердым шагом, словно опьяненный, Бен выбрался на берег. Раны до сих пор причиняли ему жгучую, ноющую боль, но уже не кровоточили. Он мог умереть от гангрены, угаснуть от голода, сгореть в лихорадке, как сотни и тысячи узников, похороненных в этой неприветливой, дикой земле, но он выжил!.. И, бесспорно, это значило многое.
В зарослях над высоким склоном с криком взметнулась птица. Дичь – как нельзя кстати! Тонкой, но сильной рукой Бенджамин быстро вскинул ружье...
Он стоит на высоком утесе, а внизу под упругими порывами штормового ветра пенится сверкающее море. Это не видение, не сон и уже не бесплотная мечта. Беглец из ада, ныне он – усталый, но свободный путник, достигший своей первой цели. Теперь осталось лишь преодолеть стихию… Звучит забавно. Только это не безумие. Безумно трудно – не означает невозможно, невзирая на бесчисленное множество вопросов.
Как попросить о помощи, не вызвав подозрений? Где, у кого?.. И далеко ли до ближайшего селения?. Волны с шумом вдребезги разбиваются о подножие скалы, но откатившись, тяжело вздымаются для нового удара. Не находя прохода, они упорно точат стену, и вода рано или поздно победит в поединке с камнем. Главное, не сдаваться… и не торопиться.
Бенджамин был в пути уже семнадцать дней и должен был пройти не меньше двух сотен миль. Блуждая в полном одиночестве по лабиринту дремучих джунглей, он беспрестанно твердил себе, что если доберется до населенных мест, то будет, наконец, спасен. Отчасти, в этом он был прав: на какой-нибудь ферме его накормили бы и, возможно, пустили бы на ночлег. Но никто не достал бы ему документы и билет на корабль. Выхода, казалось, не было, однако… Глядя на зеленую полоску небольшого островка, терявшуюся в голубой туманной дымке, Баркер неожиданно нашел его. Если бы человек, заброшенный на этот остров кораблекрушением, увидев парус, подал оттуда сигнал о помощи, его бы, несомненно, приняли на борт – без денег и без документов… и без лишних подозрений. Здесь, на материке, нелепо разжигать костер при виде проходящего мимо корабля: на фоне местности, далекой от цивилизации, все же встречаются селения и города. О, только бы доплыть до этого поистине спасительного клочка земли!..
Если пресной воды там не будет, он сумеет добыть ее из морской: достаточно лишь котелка, обрывка ткани и огня. Если нет дичи – станет ловить рыбу или варить мидии. Зная сильные и слабые стороны деревьев, он построит себе плот без пилы и топора. Каторжный опыт научил его самым немыслимым вещам и наделил бесценным преимуществом в борьбе с суровой и скупой природой. Он сможет жить и ждать, ведь это намного проще, чем безнадежно биться о прутья железной клетки. Нет шансов, что его доставят обратно в Англию, но все же – подальше от этих мест. Остров лежит в пределах судоходной зоны, и корабль непременно появится на горизонте!
Но… – краткое предостерегающее слово удерживает Бена, точно кто-то приставил острие клинка к его груди. Как же порою трудно крохотной песчинке затеряться в океане! Если на корабле окажутся военные, тотчас последуют расспросы, не допускающие неопределенных, уклончивых ответов: где и под чьим командованием он служил, куда и с какой целью направлялось потерпевшее круженье судно? Ложь неизбежно заведет его в тупик. Даже вдали от каторжной колонии, он оставался беглым заключенным, пусть и переодетым в красный мундир британского солдата. И эта форма подвергала его опасности не меньше, чем желтая одежда неисправимого преступника. Если же он отбросит прочь личину, покрытое неизгладимыми отметинами тело без утайки расскажет всю его мрачную историю от начала до конца.
Бенджамин вскинул руки, словно в тщетном бессознательном порыве поймать тугой соленый ветер, и снова уронил их. Когда же кончится единоборство этих извечных противоречивых «если», то ободряющих, то угрожающих ему? Как далеко нужно зайти, чтоб окончательно порвать связующие нити между собой и рабским прошлым?!..
Внизу, на дне рокочущей зеленой бездны еще один сверкающий на солнце вал, пенясь, разбился о препятствие…
Буря утихла, словно затаилась в недрах океана. Теплые волны, набегая на пустынный берег, лениво ворошили гальку. Лунная тропическая ночь безмятежно веяла свежим бризом. Уже вторая ночь в томительном бездействии… Такие передышки не приносят облегчения: душа теряет нерастраченные силы, а тревога нарастает.
Лежа без сна на ложе из травы и веток, устроенном в расщелине скалы, Бенджамин размышлял, снова и снова перебирая в памяти известные ему истории побегов. Их было множество, и почти все они заканчивались неудачей. А беглых арестантов, чьи следы терялись в необитаемой глуши, не без основания считали умершими. Следует унять смятение и терпеливо подождать. Он подойдет к ближайшему селению лишь раз, чтобы достать себе обычную одежду. А после – двинется на север, избегая городов и деревень. Лишь на огромном расстоянии отсюда, когда время вычеркнет его из списка преследуемых беглецов, он сможет попытаться стать кем-нибудь иным, нежели Бенджамин Баркер. И тогда, нанявшись матросом на корабль, доплывет не до ближайшего порта, а до самой Англии…
Однако очень скоро кое-что произошло – гораздо раньше, чем он мог себе представить. И это явно было ничто иное, как перст судьбы.
На рассвете, выбравшись из своего укрытия, Бен заметил на белом прибрежном песке отчетливые отпечатки человеческих следов… Он замер, словно перед ним разверзлась пропасть. Довольно свежие, следы, бесспорно, не его: их слишком много, и ведут они от самой кромки моря. Шлюпка!.. Значит, где-то поблизости, там за утесом, на якоре ожидает корабль! Вероятно, моряки сошли на берег, чтобы пополнить запас воды. Пригнувшись, Бенджамин пробрался между каменных глыб к морю. Мысли его метались, как встревоженные птицы, а сердце гулко колотилось, словно в груди ему внезапно стало тесно. Предчувствие не обмануло Бена: оно действительно оказалось там – небольшое двухмачтовое судно посреди залива. С низкой кормой и узким килем, явно быстроходное… Кто прибыл на нем? Англичане, голландцы?.. Бенджамин тщетно искал ответа на свой вопрос: на мачте не было флага.
Интуитивно Бен вернулся назад к следам. Пересекая полосу песка, они терялись в зарослях акаций и эвкалиптов. Надежно спрятавшись в укрытии, откуда хорошо был виден берег, Баркер стал обдумывать план действий. Чудо, которого он втайне так страстно ждал, застало его врасплох. Сейчас, когда настал решительный момент испытать, наконец, свою удачу, идея появиться перед неизвестными пришельцами показалась ему безрассудно рискованной. Что если эти люди не в ладах с законом?.. «Я – потерпевший кораблекрушение солдат британской армии. Позвольте присоединиться к вам!» – «Вас только нам и не хватало!» После подобного признания не исключен самый критический исход. Но разве можно сходу взять и выдать, кто он есть на самом деле?!..
Мысли Баркера неожиданно прервались: позади, шумно хлопая крыльями, вспорхнула какая-то птица. Он резко обернулся. Среди листвы стремительно мелькнуло подобие лица, разрисованного белой краской. Дикарь! Издав гортанный вопль, туземец замахнулся… Бен бросился на землю – в ту же секунду возле самого его виска просвистело нечто вроде топора. С быстротою молнии он навел ружье на заросли и нажал курок. Раздалось еще несколько выстрелов, треск ломаемых веток, разъяренные крики…
– Скорее!
– Скройтесь за скалы!..
Англичане! Их не больше семи-десяти человек. Отступая к заливу, моряки продолжают стрелять, отбиваясь от странных невиданной масти существ, но успех не на их стороне. Темнокожие демоны, вооруженные копьями, окружают их с яростью диких зверей. Даже залпы мушкетов бессильны отпугнуть эту стаю…
Твердой рукой Бен, точно по команде, перезарядил ружье и вновь прицелился: права на промах не было. Позднее, вспоминая об этой схватке, он с трудом себе поверит. Опытный стрелок успевает зарядить ружье три-четыре раза за минуту. Как удалось ему, ни разу не бывавшему в сражении, так быстро и метко ранить несколько человек? Или же время пронеслось быстрее пули? Вероятно, Баркеру немало помогло то обстоятельство, что он стрелял в толпу.
Почуяв двойную угрозу, туземцы дрогнули и… понемногу отступили. Еще двадцать-тридцать ярдов**, и матросы, наконец, доберутся до лодки. Не выпуская из рук ружья, Бен поспешно покинул свое укрытие. Смертельная опасность не оставляла ему выбора, стремительно, как ветер, увлекая его вслед за странными, таинственными путешественниками.
Баркер догнал их у самой шлюпки. Не оборачиваясь, без лишних слов перепрыгнул через борт и налег на весла. Несколько копий, свистя, на излете вонзились в песок. Удар весла о дно – и шлюпка, покачнувшись, отчалила от берега. Бен всем телом ощутил этот толчок, похожий на неистовый короткий удар сердца. Впервые за пятнадцать лет он сошел с этой дикой, прóклятой земли, каждый шаг по которой давался труднее, чем на палубе в шторм! Впереди – неизвестность: судно без флага, матросы без формы, но они говорят по-английски. Иногда изъясняться на одном языке – не означает понимать друг друга. А иногда довольно, чтобы люди просто действовали сообща, и это решает многое.
Через несколько минут лодка пришвартовалась к борту корабля. Кто-то бросил веревочный трап, раздались поспешные команды.
Не дожидаясь приглашения, Бен уцепился за канаты и начал карабкаться наверх. Он остановился лишь, когда его лба коснулось холодное дуло мушкета. Перед ним возвышалась худощавая, но мускулистая фигура человека средних лет. Голова его была повязана платком, энергичное загорелое лицо покрывала рыжеватая щетина. Бен успел заметить потертые высокие сапоги, штаны из серого сукна, кожаный пояс – ничего особенного, что могло бы рассказать ему о незнакомце.
В наступившей тишине он инстинктивно ощутил, как сверху зоркие глаза матросов подозрительно, если не враждебно, рассматривают его самого.
– Кто ты такой? – раздается суровый вопрос.
Бен замирает. Глухие, тяжелые удары и свист пуль все еще гулким эхом отдаются у него в ушах и неожиданно сливаются в странные слоги, подступающие к губам.
– Мое имя – Суини Тодд, – быстро отвечает Бенджамин, поднимаясь на палубу.
Томительная пауза. Всплески и журчание воды за бортом…
Позади него послышался скрип натянутых канатов – это взбирались остальные, те, что не задали ему ни одного вопроса. Бен обернулся, словно ожидая их защиты.
– Он помог нам отбиться, капитан! – поддержал его рослый, бородатый моряк, раненный копьем в схватке с дикарями.
Но капитана это заявление не убедило.
– Почему на тебе солдатская форма? Ты дезертир? – продолжался допрос.
– Нет. Мое судно потерпело крушение, – коротко ответил Баркер.
– Ну что ж, рад знакомству! – Нарочито широко улыбаясь, капитан протянул ему руку и, едва лишь Бен ответил на рукопожатие, быстрым движением одернул вверх рукав солдатского мундира, приоткрыв его запястье. Беглого взгляда на глубокие побелевшие шрамы было достаточно, чтобы составить конкретное мнение.
– Крушение!.. Догадываюсь, где, – иронически хмыкнул он. – Могу поклясться, на спине у тебя отметин еще больше! Здесь у многих такие, и у всех – после шторма под известным названием! Я редко ошибаюсь в людях своего сорта, – прибавил он с вызовом. – Что ты умеешь делать? Доводилось ли тебе служить на судне?
Капитан изучающе разглядывал Баркера, не давая ему времени прийти в себя.
У Бена не было практически никакого опыта в морской профессии, разве что когда-то он переплыл два океана, сидя под замком в корабельном трюме. Напряженность обстановки требовала от него четких и незамедлительных ответов. Ложь была опасна и бессмысленна, а правда явно не послужит в его пользу… Сейчас он должен был, в первую очередь, завоевать к себе доверие, а это увеличит его шансы в дальнейшем обучиться нужным навыкам!
– В юности я был цирюльником, который не держал в руках предмета тяжелее бритвы, – искренне признался Баркер, не теряя самообладания. – Но за последние пятнадцать лет мне приходилось делать многое, чего я поначалу не умел: на руднике, на лесопилке… даже на мельнице. Жизнь доказала мне, что человек чему угодно может научиться: терпеть невыносимое, бороться без оружия и выживать в любых условиях. Надеюсь, что освою и профессию матроса. К тому же я уже умею грести на шлюпке и стрелять, если понадобится.
Ему внимали молча, не перебивая, но все еще сурово, ничем не выражая одобрения. Как же разрушить эту незримую преграду? Что-то вдруг подтолкнуло Бена изнутри. Набравшись храбрости, он сделал шаг вперед и произнес так твердо и серьезно, словно это было самым веским аргументом:
– Кстати, причесывать и брить я до сих пор не разучился!
Капитан раскатисто расхохотался:
– Да, это как раз то, что нужно моей команде! – Он сделал широкий жест рукой, а стало быть – уже почти гостеприимный.
Матросы дружно покатились со смеху. Но смех – дань уваженья шутке. Главное, не растеряться!
– Для начала тебе не мешало бы привести в порядок себя! – слегка смягчившись, бросил капитан. – Что ж, оставайся! Но не советую особо обольщаться, – прибавил он и без дальнейших объяснений удалился к себе в каюту.
Бенджамин все еще стоял посреди палубы, когда чья-то рука тяжело опустилась ему плечо.
– Ты словно с неба свалился! – Темнокожий молодой моряк заговорил с ним первый, опираясь на него почти по-дружески. Раненное бедро явно причиняло ему боль, но в прищуренных карих глазах прятались лукавые искорки.
– Тебе повезло! Будь ты и вправду солдатом, капитан с огромным удовольствием выбросил бы тебя за борт. Уж он такой!.. И плевать ему, что там полно туземцев! – присвистнул парень.
Мало-помалу приходя в себя, Бен полной грудью вдохнул соленый ветер.
– Да, похоже, я остаюсь! – отозвался он, с каждым словом обретая все больше уверенности. Для него это был не конец испытаний, а начало далекого непростого пути, о котором о грезил, как о чуде.
– Поднимайте якорь! – донеслось со шканцев.
Расправляя широкие паруса, словно крылья в полете, судно выходило в открытое море…
* Имеются в виду плоды нони.
** Ярд - английская мера длины, равная 0,91 м.
Глава 8. СУИНИ ТОДД
Бенджамин долгим взглядом смотрел на незнакомого ему человека… Бледная кожа, темные, даже красноватые, тени вокруг больших слегка продолговатых глаз, густые черные волосы и одинокая серебристая прядь над правым виском. Бесконечные дни без света, короткие ночи без отдыха. Кто ты, что кроется в глубинах твоей души? Мрачная, роковая тайна прошлого и безмолвный вызов настоящему и будущему…
Чем пристальнее вглядывался Бен в это лицо, тем больше убеждался в том, что хрупкий наивный юноша, которого он знал когда-то, просто не смог бы выжить. И все же это был на самом деле он – Бенджамин Баркер.
Время незримой, но верной рукой отточило его профиль и контуры лица, не оставив ни единой мягкой линии. Только что-то во взгляде – едва уловимо – выдавало тонкую и чуткую душу, еще более уязвимую, чем в юности. Значит ли это, что его характер изменился до неузнаваемости? Сколько еще взлетов и падений приготовила ему судьба?
Мужчина отошел от зеркала. Итак, теперь он звался Суини Тодд. Никому не знакомое имя послужит ему надежной маской, как и новое лицо.
Простая, но чистая и целая, одежда из дорожного сундука корабельного повара, с которым они разделили каюту, пришлась ему почти в пору.
– Теперь хоть на человека похож! – по-свойски шутливо похвалил его новый товарищ. – Иди – капитан ждет!
Предстояло еще одно испытание. На этот раз – не битва, а долгий серьезный разговор, немаловажный как для Баркера, так и для Тодда.
– Входите!
Суини толкнул узкую дверь и очутился в довольно просторной каюте с низким потолком. Переступив порог, он ощутил у себя под ногами что-то мягкое. Как оказалось, добротный шерстяной ковер: хозяин этого нехитро обустроенного обиталища все же любил комфорт. На огромном столе, словно скатерть, расстелена была карта, вдоль стены тянулись кованые сундуки.
Удобно сидя в кресле с высокой деревянной спинкой, капитан вопросительно уставился на вошедшего. Несколько секунд он молча изучал незнакомое ему лицо, которое нужда, страдания и тяжкий труд так не смогли лишить своеобразной, даже аристократической красоты.
– А, это вы!.. – протянул он наконец, узнав своего гостя по белой пряди в волосах.
– Капитан… – Суини сделал вежливую паузу, ожидая, что он назовет свое имя, хотя бы вымышленное.
– Команда зовет меня Вальтер, – ответил тот, неторопливо покуривая трубку. – Думаю, вы догадываетесь, что пребывание на корабле, особенно на этом, требует выполнения определенных правил? – спросил он в упор, устремив на Суини острый, внимательный взгляд серых глаз.
Тодд спокойно выдержал испытание.
– Я не собираюсь уклоняться от них. Тяжелая работа меня не пугает.
– Может, хотите вступить в мою команду? Если, конечно, слово «контрабанда», – Вальтер намеренно произнес его по слогам, – не слишком сильно режет вам слух. А впрочем, бесплатные билеты до Австралии приличным гражданам не раздают, ведь так? – пустив колечко дыма, небрежно заметил он.
Суини не смутили насмешливые, иронические нотки в тоне капитана. В этом, похоже, заключался весь незаурядный характер Вальтера: выражаться, играя словами, как играют заряженным пистолетом. Спасибо, что не бросил за борт, а колкость – глаз не колет.
– Я готов служить на вашем судне до тех пор, пока мне не представится возможность вернуться в Лондон, – на чистоту признался Тодд.
– Вернуться?.. Туда, откуда вас выслали? – Вальтер изумленно поднял бровь. – Я правильно понял?
– Да, – твердо произнес Суини.
Капитан присвистнул и посмотрел на собеседника с оттенком жалости, как на сумасшедшего.
– Ты что-то там забыл? – спросил он, вдруг переходя на «ты».
– Все! – горячо ответил Тодд, и его темные глаза блеснули, в одно мгновенье выдав неудержимое стремление, щемящую тоску, которую он столько лет носил в себе, и радость, которой не смел поверить.
– Родители, жена?.. – Голос капитана прозвучал серьезно. На этот раз его ирония исчезла без следа.
– Жена и дочь.
– За что тебя сослали?
– Ни за что.
Последовала пауза.
– Неудивительно, – против ожиданий, заметил Вальтер. – И на сколько?
– Пожизненно.
Снова повисла тишина.
– Я не стану расспрашивать о подробностях: ваше лицо красноречиво поведало мне одну из тех историй, где после полного крушения надежд одна или две тонкие, но прочные ниточки все еще тянут назад, хмм… к началу конца, – задумчиво проговорил Вальтер. – Спрошу лишь из простого любопытства: как давно вас осудили?
– Я провел на каторге пятнадцать лет.
– Ммм-да, – философски протянул капитан. – Либо это ответ с того света, либо чей-то поистине пьяный бред! Вы и впрямь рассчитываете, что на родине вас до сих пор еще… ждут?
Сердце Суини, сжавшись, пропустило удар. Неужели все, ради чего он так стремился обрести свободу, жило только внутри него – мечтой, иллюзией, застывшей картинкой в памяти? Если бы это было так, Бенджамин Баркер не выдержал бы даже дня в неволе!
Тодд непроизвольно вздрогнул, и его движение не укрылось внимательного взгляда Вальтера.
– Чертовски забавная штука – судьба человека, – пробормотал он себе под нос и глубоко вздохнул.
Оба надолго замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Вальтер очнулся первым.
– Ну что ж, – порывисто поднявшись, он прошелся по каюте. – Думаю, лучшее лекарство от грызущих тебя сомнений и тревог – это… работа, как ни странно! И, если ты готов, то не теряй времени даром: бери-ка в руки тряпку и три палубу! Так и знай, я не терплю дармоедов на борту!
Без лишних возражений Суини направился к дверям. Ничего позорного нет в том, чтобы отплатить трудом за услугу, которую могли бы и не оказывать.
Уже у выхода он вдруг услышал позади себя тот же звучный, чуть насмешливый и властный голос:
– Эй, постой! Ты, кажется, сказал, что ты – цирюльник?.. Ну-ка, поди сюда – побрей меня, если еще не разучился…
Тодд удивленно обернулся, поначалу ожидая какого-нибудь заковыристого замечания или вопроса. Простая, до невероятного обыденная, просьба застала его врасплох. Неужто, ему и вправду удалось поладить с этим недоверчивым, своеобразным человеком? Впервые за все время, проведенное на корабле, а может быть, и за последние пятнадцать лет, Суини с легкостью непринужденно рассмеялся.
День за днем проходили среди моря. Трудно было поверить в реальность бескрайнего голубого простора – ни решеток, ни стен, только волны до самого края туманного горизонта. Впереди были путь и цель – то, что лишь свободные люди вправе выбирать. И неважно, что цель далека, а дорога, ведущая к ней, не будет прямой.
Первое время, внезапно просыпаясь по ночам, Суини Тодд не сразу вспоминал, где он находится. Ему мерещились то длинные, запутанные подземные тоннели, то тесные зловонные камеры высотою в полроста… Лишь ощутив упругое и плавное покачивание идущего под парусами судна, он понимал, что все кошмары позади, и его тело уступало естественной потребности восстановить растраченные силы.
С готовностью, беспрекословно Тодд выполнял любое поручение, любую трудную, порой опасную работу. Он взбирался по вантам на мачты, чистил палубу, чинил паруса. Поначалу, он даже не сразу понимал смысла приказов: они казались ему бессвязным набором незнакомых слов. Кое-кто посмеивался, наблюдая, как аккуратно и сосредоточено он вяжет сложные узлы, сращивает концы, делает сплесни, огоны, мусинги... Но Суини выполнял все хоть и медленно, но верно. В свободное от вахты время он не ленился повторять однообразные движения десятки раз, чтобы впоследствии не допускать ошибок. Ведь работать зачастую приходилось в темноте, во время шторма, балансируя на шаткой высоте. Упорство рано или поздно вызывает уважение. Вскоре Суини досконально изучил ограниченное зыбкими волнами пространство этого плавучего мирка: трюмы, палуба, ванты, паруса… заплетенные в паутину снасти. Не прошло и недели, как он мог наизусть перечислить их почти все. Его случайное и драматическое появление среди команды не было жалобной мольбой о помощи: он заслужил к себе доверие с оружием в руках. Скупая и капризная судьба на этот раз не отвернулась от него, и он почти поверил, что это неспроста. Разве быстрый и прочный корабль – для того, чтобы потерпеть крушение надежд?
Но временами мысленно Тодд возвращался к их разговору с капитаном, вернее – к самому тернистому его вопросу, прозвучавшему сугубо риторически, совсем как приговор. Теперь он сам неоднократно задавал его себе. Живы ли еще те, ради кого он умер бы без колебаний? Сердце Суини, продолжая биться, подсказывало, что, несомненно, живы. Осторожный, склонный к скептицизму Вальтер читал в его душе, словно в открытой книге. Искренность и упорный, непреклонный характер Тодда невольно вызвали его симпатию.
– Вернешься – но не на пятнадцать лет назад: сам понимаешь… – задумчиво сказал он как-то.
Даже проявляя близкое участие к чужой судьбе, этот человек выражался откровенно, напрямик, отметая все наивные иллюзии. Он утверждал, что жизнь – это игра, в которой побеждают те, кто руководствуется логикой и здравым смыслом, а не беспочвенными, робкими предположениями. По-своему, он был, конечно, прав. Но разве любящее сердце может покорно верить логике и аксиомам?
Время бесповоротно и беспощадно. Настоящее ежечасно становится прошлым, а прошлое срывается в бездну, превращаясь в прах. Суини Тодд осознавал это еще острее, чем Бенджамин Баркер. Отчаянная внутренняя сила толкала его все ближе к цели, а надежда превращалась в томительное, напряженное стремление, подобное натянутой струне. Сейчас не время стоять на месте, колеблясь и раздумывая – нужно идти, не останавливаясь, до конца. Для чего же тогда он совершил невозможное?.. Не делай раньше срока горьких выводов, не то споткнешься!
В команде капитана Вальтера было немало необычных личностей, которых в благонравном обществе сочли бы, по меньшей мере, подозрительными. Здесь были и британские переселенцы, отправившиеся в Австралию в надежде сколотить себе там состояние, и те, кого насильно сослали в эти далекие края. Правда, последние уже отбыли наказание и вышли на свободу… чтобы снова ею рисковать. Все эти люди предпочитали непрестанно скитаться по морям, нежели тратить свою жизнь, копая землю или разводя овец в одном из тихих уголков Виктории или Нового Южного Уэльса. Контрабандисты зарабатывают гораздо больше и быстрее, чем фермеры. Оставалось лишь догадываться, как и при каком стечении обстоятельств капитану Вальтеру досталось это надежное и быстроходное, хоть и небольшое судно. Ловко маневрируя, он умел обходить и рифы и закон, нелегально провозя в своих глубоких трюмах самое прибыльное продовольствие в Австралии – ром и табак. Подумать только, ведь ром когда-то здесь едва ли не заменял валюту! Несколько раз причаливая к берегу под покровом ночи, контрабандисты переправляли груз по тайным тропам и тут же снова отплывали на почтительное расстояние. Продвигаясь таким образом вдоль восточного побережья материка, они вполне успешно сбыли весь товар.
Вальтер знал также и секретные лазейки, через которые без лишних проволочек и вполне законно можно было справить самые настоящие документы. Благодаря его содействию Суини Тодду удалось оформить себе паспорт на новое, не вызывающее подозрений имя. Теперь он снова был свободным британским подданным и мог вернуться к себе на родину.
Перед тем, как окончательно покинуть Австралию, Вальтер высадил Тодда неподалеку от Эденгласси.
– Жаль! – шутливо сказал ему на прощание капитан. И это было первым, но откровенным комплиментом. – А впрочем, у каждого своя судьба!
Суини кивнул в знак согласия и крепко пожал ему руку:
– Мою решили вы.
Он не преувеличивал: как ни парадоксально, именно дерзкий авантюрист, почти пират, вернул ему свободу в глазах закона. А знания и навыки, полученные Тоддом за три последние недели, были отличной рекомендацией, чтобы поступить матросом на корабль, идущий в Англию.
Впереди был бесконечно долгий путь назад – восемь или девять месяцев странствий через бурную стихию двух огромных океанов…
Довольно большое торговое судно, гордо названное именем английской королевы, медленно, величаво, как и подобает почтенному купцу, входило в лондонскую гавань. Виктория – значит победа. Победа – поражение врагов. Лишь победителю известно, какова ее истинная цена. А иногда победа горше поражения или же вовсе не имеет смысла…
Путешествие мучительно затянулось. Кейптаун, Рио-де-Жанейро, Тенерифе, а между ними – бесплодные необозримые поля страны, которой правят лишь бури и ветра… По мере того, как Суини Тодд приближался к цели, небо у него над головой из лазурного превращалось в серое. Оно походило больше на дым после сражения, чем на просторы, где царствует свет, и еще меньше – на обитель ангелов. Море у берегов Англии встретило «Викторию» свирепым штормом, отбросив прочь, как негостеприимный и скупой хозяин гонит запоздалых путников. Пришлось остановиться в Портсмуте, чтобы починить треснувшую мачту и заменить поврежденный такелаж. И снова время уходило, не покоряя расстояния…
В день, когда до намеченного рубежа остался лишь один короткий шаг, Суини словно пробудился ото сна. Близился рассвет после ветреной дождливой ночи. Опершись на планшир, Тодд вгляделся в седую туманную тьму. Вот он – старый город на Темзе. Безукоризненно-серый, беспристрастно-надменный, как и прежде. Вертеп, в котором правят алчность, лицемерие и ложь – своего рода джунгли, где люди чопорно, не торопясь, пожирают друг друга. Огромная черная дыра, куда не пробиться свету. Суини провел рукой по глазам, точно отгоняя темноту. Что за наваждение? Значит ли это, что родившееся, как внезапный вскрик, странное, роковое имя Суини Тодда перевернуло судьбу и мир для Бенджамина Баркера? Раньше такие мрачные, изобличительные мысли ни разу не приходили ему в голову. Бен познал здесь любовь и ни с чем не сравнимое счастье, а Суини – совершенно одинок...
– Так много чудес на этой земле, но все же – нет места, похожего на Лондон! – прозвучал восторженный голос позади него.
Тодд обернулся, точно застигнутый врасплох. Лишь по одним словам он, не задумываясь, догадался, кто это. Энтони!.. Простой мальчишка, уроженец Лондона – ныне молодой моряк, успевший повидать полмира. Есть ли хоть что-нибудь на свете, чем бы он не восхищался?
Оба они ясно помнили извилистые лабиринты узких улочек с их серой кирпичной мостовой, готические башни и массивные мосты над желтоватыми от глины водами Темзы. Энтони готов был воспевать на все лады таинственную старину соборов, несокрушимое величие суровых крепостей. Явно не избалованный жизнью, он, тем не менее, искренне любил ее, как строгую мать. Возможно, за то, что в нужде ему было о чем помечтать. Другое дело – пресыщенный роскошью изнеженный принц, которому и желать-то больше нечего!
Чуткий и дружелюбный по натуре, Энтони с восхищением смотрел на мир поверх людских пороков, не замечая его губительного несовершенства. Все новое, диковинное, неизведанное, к чему Суини относился сдержанно и с осторожностью, вызывало у него бурный, радостный восторг впечатлительного юноши. Но эти двое, столь несхожие друг с другом, за время долгого, полного приключений и опасностей пути, стали близкими товарищами. Порывистый, неискушенный характер одного гармонично дополняли твердость и зрелая рассудительность другого, как штурвал направляет парусник. Хоуп во всем стремился брать пример с Суини Тодда, даже не подозревая, в каких суровых испытаниях ковались его стойкость и упорство. Но он усвоил для себя самое главное: оказавшись между молотом и наковальней, сталь непременно превращается в клинок.
– И все же ни одна столица не сравнится с Лондоном! – заключил горделиво юноша, пристроившись у борта рядом с Тоддом.
– Ты еще молод… – с грустью произнес Суини, и тень улыбки пробежала по его губам. – Я рад, что беды обошли тебя стороной.
– Вы никогда мне не рассказывали о себе. А между тем я чувствую: вас мучают какие-то печальные воспоминания… – Энтони смущенно замолк.
– Лучше тебе об этом и не знать. – Суини медленно повернулся к собеседнику. Сейчас его глубокие темные глаза казались почти спокойными, и только пальцы напряженно сжимали тугой канат.
– А давно вы покинули Лондон? – спросил его Хоуп, невольно понизив голос, точно боялся вспугнуть таинственного призрака.
Тодд машинально распустил и заново закрепил шкот. Руки его четко выполняли привычные движения, говорить же становилось все труднее.
– Ты даже не представляешь, как…
– Всегда можно вернуться, – с простодушной улыбкой заметил юноша.
Суини чуть заметно кивнул и снова посмотрел на острые, словно утесы, гребни крыш, проступающие сквозь разорванную ветром пелену тумана.
– Но время вспять не повернуть … – невольно сорвалось с его губ.
Опять эта навязчивая мысль – все громче и тревожнее! Чем ближе он подходит к цели, тем трудней ее прогнать. Его неуловимый враг, дыхание непредсказуемой угрозы, которое порою он чувствует всем телом! Сейчас он сойдет на зыбкую, шаткую землю, минует извивы запутанных улиц, знакомых до трепета в сердце, постучится в знакомую дверь, за которой – лишь холод и пустота… И все?! Неужели, это все?..
Якорь с шумом срывается в воду. С тяжелым стуком откидывают трап – как будто доску под петлей на эшафоте. Неизвестность убивает мучительнее всех смертей!
Тодд повернулся и твердым шагом двинулся к сходням. Пусть впереди – не пристань, а обрыв, сейчас не время отступать. Что ж, он заглянет в эту пропасть, даже если на дне ее – острые камни, и внезапно надломится край!
Интуитивно Бен вернулся назад к следам. Пересекая полосу песка, они терялись в зарослях акаций и эвкалиптов. Надежно спрятавшись в укрытии, откуда хорошо был виден берег, Баркер стал обдумывать план действий. Чудо, которого он втайне так страстно ждал, застало его врасплох. Сейчас, когда настал решительный момент испытать, наконец, свою удачу, идея появиться перед неизвестными пришельцами показалась ему безрассудно рискованной. Что если эти люди не в ладах с законом?.. «Я – потерпевший кораблекрушение солдат британской армии. Позвольте присоединиться к вам!» – «Вас только нам и не хватало!» После подобного признания не исключен самый критический исход. Но разве можно сходу взять и выдать, кто он есть на самом деле?!..
Мысли Баркера неожиданно прервались: позади, шумно хлопая крыльями, вспорхнула какая-то птица. Он резко обернулся. Среди листвы стремительно мелькнуло подобие лица, разрисованного белой краской. Дикарь! Издав гортанный вопль, туземец замахнулся… Бен бросился на землю – в ту же секунду возле самого его виска просвистело нечто вроде топора. С быстротою молнии он навел ружье на заросли и нажал курок. Раздалось еще несколько выстрелов, треск ломаемых веток, разъяренные крики…
– Скорее!
– Скройтесь за скалы!..
Англичане! Их не больше семи-десяти человек. Отступая к заливу, моряки продолжают стрелять, отбиваясь от странных невиданной масти существ, но успех не на их стороне. Темнокожие демоны, вооруженные копьями, окружают их с яростью диких зверей. Даже залпы мушкетов бессильны отпугнуть эту стаю…
Твердой рукой Бен, точно по команде, перезарядил ружье и вновь прицелился: права на промах не было. Позднее, вспоминая об этой схватке, он с трудом себе поверит. Опытный стрелок успевает зарядить ружье три-четыре раза за минуту. Как удалось ему, ни разу не бывавшему в сражении, так быстро и метко ранить несколько человек? Или же время пронеслось быстрее пули? Вероятно, Баркеру немало помогло то обстоятельство, что он стрелял в толпу.
Почуяв двойную угрозу, туземцы дрогнули и… понемногу отступили. Еще двадцать-тридцать ярдов**, и матросы, наконец, доберутся до лодки. Не выпуская из рук ружья, Бен поспешно покинул свое укрытие. Смертельная опасность не оставляла ему выбора, стремительно, как ветер, увлекая его вслед за странными, таинственными путешественниками.
Баркер догнал их у самой шлюпки. Не оборачиваясь, без лишних слов перепрыгнул через борт и налег на весла. Несколько копий, свистя, на излете вонзились в песок. Удар весла о дно – и шлюпка, покачнувшись, отчалила от берега. Бен всем телом ощутил этот толчок, похожий на неистовый короткий удар сердца. Впервые за пятнадцать лет он сошел с этой дикой, прóклятой земли, каждый шаг по которой давался труднее, чем на палубе в шторм! Впереди – неизвестность: судно без флага, матросы без формы, но они говорят по-английски. Иногда изъясняться на одном языке – не означает понимать друг друга. А иногда довольно, чтобы люди просто действовали сообща, и это решает многое.
Через несколько минут лодка пришвартовалась к борту корабля. Кто-то бросил веревочный трап, раздались поспешные команды.
Не дожидаясь приглашения, Бен уцепился за канаты и начал карабкаться наверх. Он остановился лишь, когда его лба коснулось холодное дуло мушкета. Перед ним возвышалась худощавая, но мускулистая фигура человека средних лет. Голова его была повязана платком, энергичное загорелое лицо покрывала рыжеватая щетина. Бен успел заметить потертые высокие сапоги, штаны из серого сукна, кожаный пояс – ничего особенного, что могло бы рассказать ему о незнакомце.
В наступившей тишине он инстинктивно ощутил, как сверху зоркие глаза матросов подозрительно, если не враждебно, рассматривают его самого.
– Кто ты такой? – раздается суровый вопрос.
Бен замирает. Глухие, тяжелые удары и свист пуль все еще гулким эхом отдаются у него в ушах и неожиданно сливаются в странные слоги, подступающие к губам.
– Мое имя – Суини Тодд, – быстро отвечает Бенджамин, поднимаясь на палубу.
Томительная пауза. Всплески и журчание воды за бортом…
Позади него послышался скрип натянутых канатов – это взбирались остальные, те, что не задали ему ни одного вопроса. Бен обернулся, словно ожидая их защиты.
– Он помог нам отбиться, капитан! – поддержал его рослый, бородатый моряк, раненный копьем в схватке с дикарями.
Но капитана это заявление не убедило.
– Почему на тебе солдатская форма? Ты дезертир? – продолжался допрос.
– Нет. Мое судно потерпело крушение, – коротко ответил Баркер.
– Ну что ж, рад знакомству! – Нарочито широко улыбаясь, капитан протянул ему руку и, едва лишь Бен ответил на рукопожатие, быстрым движением одернул вверх рукав солдатского мундира, приоткрыв его запястье. Беглого взгляда на глубокие побелевшие шрамы было достаточно, чтобы составить конкретное мнение.
– Крушение!.. Догадываюсь, где, – иронически хмыкнул он. – Могу поклясться, на спине у тебя отметин еще больше! Здесь у многих такие, и у всех – после шторма под известным названием! Я редко ошибаюсь в людях своего сорта, – прибавил он с вызовом. – Что ты умеешь делать? Доводилось ли тебе служить на судне?
Капитан изучающе разглядывал Баркера, не давая ему времени прийти в себя.
У Бена не было практически никакого опыта в морской профессии, разве что когда-то он переплыл два океана, сидя под замком в корабельном трюме. Напряженность обстановки требовала от него четких и незамедлительных ответов. Ложь была опасна и бессмысленна, а правда явно не послужит в его пользу… Сейчас он должен был, в первую очередь, завоевать к себе доверие, а это увеличит его шансы в дальнейшем обучиться нужным навыкам!
– В юности я был цирюльником, который не держал в руках предмета тяжелее бритвы, – искренне признался Баркер, не теряя самообладания. – Но за последние пятнадцать лет мне приходилось делать многое, чего я поначалу не умел: на руднике, на лесопилке… даже на мельнице. Жизнь доказала мне, что человек чему угодно может научиться: терпеть невыносимое, бороться без оружия и выживать в любых условиях. Надеюсь, что освою и профессию матроса. К тому же я уже умею грести на шлюпке и стрелять, если понадобится.
Ему внимали молча, не перебивая, но все еще сурово, ничем не выражая одобрения. Как же разрушить эту незримую преграду? Что-то вдруг подтолкнуло Бена изнутри. Набравшись храбрости, он сделал шаг вперед и произнес так твердо и серьезно, словно это было самым веским аргументом:
– Кстати, причесывать и брить я до сих пор не разучился!
Капитан раскатисто расхохотался:
– Да, это как раз то, что нужно моей команде! – Он сделал широкий жест рукой, а стало быть – уже почти гостеприимный.
Матросы дружно покатились со смеху. Но смех – дань уваженья шутке. Главное, не растеряться!
– Для начала тебе не мешало бы привести в порядок себя! – слегка смягчившись, бросил капитан. – Что ж, оставайся! Но не советую особо обольщаться, – прибавил он и без дальнейших объяснений удалился к себе в каюту.
Бенджамин все еще стоял посреди палубы, когда чья-то рука тяжело опустилась ему плечо.
– Ты словно с неба свалился! – Темнокожий молодой моряк заговорил с ним первый, опираясь на него почти по-дружески. Раненное бедро явно причиняло ему боль, но в прищуренных карих глазах прятались лукавые искорки.
– Тебе повезло! Будь ты и вправду солдатом, капитан с огромным удовольствием выбросил бы тебя за борт. Уж он такой!.. И плевать ему, что там полно туземцев! – присвистнул парень.
Мало-помалу приходя в себя, Бен полной грудью вдохнул соленый ветер.
– Да, похоже, я остаюсь! – отозвался он, с каждым словом обретая все больше уверенности. Для него это был не конец испытаний, а начало далекого непростого пути, о котором о грезил, как о чуде.
– Поднимайте якорь! – донеслось со шканцев.
Расправляя широкие паруса, словно крылья в полете, судно выходило в открытое море…
* Имеются в виду плоды нони.
** Ярд - английская мера длины, равная 0,91 м.
Глава 8. СУИНИ ТОДД
Бенджамин долгим взглядом смотрел на незнакомого ему человека… Бледная кожа, темные, даже красноватые, тени вокруг больших слегка продолговатых глаз, густые черные волосы и одинокая серебристая прядь над правым виском. Бесконечные дни без света, короткие ночи без отдыха. Кто ты, что кроется в глубинах твоей души? Мрачная, роковая тайна прошлого и безмолвный вызов настоящему и будущему…
Чем пристальнее вглядывался Бен в это лицо, тем больше убеждался в том, что хрупкий наивный юноша, которого он знал когда-то, просто не смог бы выжить. И все же это был на самом деле он – Бенджамин Баркер.
Время незримой, но верной рукой отточило его профиль и контуры лица, не оставив ни единой мягкой линии. Только что-то во взгляде – едва уловимо – выдавало тонкую и чуткую душу, еще более уязвимую, чем в юности. Значит ли это, что его характер изменился до неузнаваемости? Сколько еще взлетов и падений приготовила ему судьба?
Мужчина отошел от зеркала. Итак, теперь он звался Суини Тодд. Никому не знакомое имя послужит ему надежной маской, как и новое лицо.
Простая, но чистая и целая, одежда из дорожного сундука корабельного повара, с которым они разделили каюту, пришлась ему почти в пору.
– Теперь хоть на человека похож! – по-свойски шутливо похвалил его новый товарищ. – Иди – капитан ждет!
Предстояло еще одно испытание. На этот раз – не битва, а долгий серьезный разговор, немаловажный как для Баркера, так и для Тодда.
– Входите!
Суини толкнул узкую дверь и очутился в довольно просторной каюте с низким потолком. Переступив порог, он ощутил у себя под ногами что-то мягкое. Как оказалось, добротный шерстяной ковер: хозяин этого нехитро обустроенного обиталища все же любил комфорт. На огромном столе, словно скатерть, расстелена была карта, вдоль стены тянулись кованые сундуки.
Удобно сидя в кресле с высокой деревянной спинкой, капитан вопросительно уставился на вошедшего. Несколько секунд он молча изучал незнакомое ему лицо, которое нужда, страдания и тяжкий труд так не смогли лишить своеобразной, даже аристократической красоты.
– А, это вы!.. – протянул он наконец, узнав своего гостя по белой пряди в волосах.
– Капитан… – Суини сделал вежливую паузу, ожидая, что он назовет свое имя, хотя бы вымышленное.
– Команда зовет меня Вальтер, – ответил тот, неторопливо покуривая трубку. – Думаю, вы догадываетесь, что пребывание на корабле, особенно на этом, требует выполнения определенных правил? – спросил он в упор, устремив на Суини острый, внимательный взгляд серых глаз.
Тодд спокойно выдержал испытание.
– Я не собираюсь уклоняться от них. Тяжелая работа меня не пугает.
– Может, хотите вступить в мою команду? Если, конечно, слово «контрабанда», – Вальтер намеренно произнес его по слогам, – не слишком сильно режет вам слух. А впрочем, бесплатные билеты до Австралии приличным гражданам не раздают, ведь так? – пустив колечко дыма, небрежно заметил он.
Суини не смутили насмешливые, иронические нотки в тоне капитана. В этом, похоже, заключался весь незаурядный характер Вальтера: выражаться, играя словами, как играют заряженным пистолетом. Спасибо, что не бросил за борт, а колкость – глаз не колет.
– Я готов служить на вашем судне до тех пор, пока мне не представится возможность вернуться в Лондон, – на чистоту признался Тодд.
– Вернуться?.. Туда, откуда вас выслали? – Вальтер изумленно поднял бровь. – Я правильно понял?
– Да, – твердо произнес Суини.
Капитан присвистнул и посмотрел на собеседника с оттенком жалости, как на сумасшедшего.
– Ты что-то там забыл? – спросил он, вдруг переходя на «ты».
– Все! – горячо ответил Тодд, и его темные глаза блеснули, в одно мгновенье выдав неудержимое стремление, щемящую тоску, которую он столько лет носил в себе, и радость, которой не смел поверить.
– Родители, жена?.. – Голос капитана прозвучал серьезно. На этот раз его ирония исчезла без следа.
– Жена и дочь.
– За что тебя сослали?
– Ни за что.
Последовала пауза.
– Неудивительно, – против ожиданий, заметил Вальтер. – И на сколько?
– Пожизненно.
Снова повисла тишина.
– Я не стану расспрашивать о подробностях: ваше лицо красноречиво поведало мне одну из тех историй, где после полного крушения надежд одна или две тонкие, но прочные ниточки все еще тянут назад, хмм… к началу конца, – задумчиво проговорил Вальтер. – Спрошу лишь из простого любопытства: как давно вас осудили?
– Я провел на каторге пятнадцать лет.
– Ммм-да, – философски протянул капитан. – Либо это ответ с того света, либо чей-то поистине пьяный бред! Вы и впрямь рассчитываете, что на родине вас до сих пор еще… ждут?
Сердце Суини, сжавшись, пропустило удар. Неужели все, ради чего он так стремился обрести свободу, жило только внутри него – мечтой, иллюзией, застывшей картинкой в памяти? Если бы это было так, Бенджамин Баркер не выдержал бы даже дня в неволе!
Тодд непроизвольно вздрогнул, и его движение не укрылось внимательного взгляда Вальтера.
– Чертовски забавная штука – судьба человека, – пробормотал он себе под нос и глубоко вздохнул.
Оба надолго замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Вальтер очнулся первым.
– Ну что ж, – порывисто поднявшись, он прошелся по каюте. – Думаю, лучшее лекарство от грызущих тебя сомнений и тревог – это… работа, как ни странно! И, если ты готов, то не теряй времени даром: бери-ка в руки тряпку и три палубу! Так и знай, я не терплю дармоедов на борту!
Без лишних возражений Суини направился к дверям. Ничего позорного нет в том, чтобы отплатить трудом за услугу, которую могли бы и не оказывать.
Уже у выхода он вдруг услышал позади себя тот же звучный, чуть насмешливый и властный голос:
– Эй, постой! Ты, кажется, сказал, что ты – цирюльник?.. Ну-ка, поди сюда – побрей меня, если еще не разучился…
Тодд удивленно обернулся, поначалу ожидая какого-нибудь заковыристого замечания или вопроса. Простая, до невероятного обыденная, просьба застала его врасплох. Неужто, ему и вправду удалось поладить с этим недоверчивым, своеобразным человеком? Впервые за все время, проведенное на корабле, а может быть, и за последние пятнадцать лет, Суини с легкостью непринужденно рассмеялся.
День за днем проходили среди моря. Трудно было поверить в реальность бескрайнего голубого простора – ни решеток, ни стен, только волны до самого края туманного горизонта. Впереди были путь и цель – то, что лишь свободные люди вправе выбирать. И неважно, что цель далека, а дорога, ведущая к ней, не будет прямой.
Первое время, внезапно просыпаясь по ночам, Суини Тодд не сразу вспоминал, где он находится. Ему мерещились то длинные, запутанные подземные тоннели, то тесные зловонные камеры высотою в полроста… Лишь ощутив упругое и плавное покачивание идущего под парусами судна, он понимал, что все кошмары позади, и его тело уступало естественной потребности восстановить растраченные силы.
С готовностью, беспрекословно Тодд выполнял любое поручение, любую трудную, порой опасную работу. Он взбирался по вантам на мачты, чистил палубу, чинил паруса. Поначалу, он даже не сразу понимал смысла приказов: они казались ему бессвязным набором незнакомых слов. Кое-кто посмеивался, наблюдая, как аккуратно и сосредоточено он вяжет сложные узлы, сращивает концы, делает сплесни, огоны, мусинги... Но Суини выполнял все хоть и медленно, но верно. В свободное от вахты время он не ленился повторять однообразные движения десятки раз, чтобы впоследствии не допускать ошибок. Ведь работать зачастую приходилось в темноте, во время шторма, балансируя на шаткой высоте. Упорство рано или поздно вызывает уважение. Вскоре Суини досконально изучил ограниченное зыбкими волнами пространство этого плавучего мирка: трюмы, палуба, ванты, паруса… заплетенные в паутину снасти. Не прошло и недели, как он мог наизусть перечислить их почти все. Его случайное и драматическое появление среди команды не было жалобной мольбой о помощи: он заслужил к себе доверие с оружием в руках. Скупая и капризная судьба на этот раз не отвернулась от него, и он почти поверил, что это неспроста. Разве быстрый и прочный корабль – для того, чтобы потерпеть крушение надежд?
Но временами мысленно Тодд возвращался к их разговору с капитаном, вернее – к самому тернистому его вопросу, прозвучавшему сугубо риторически, совсем как приговор. Теперь он сам неоднократно задавал его себе. Живы ли еще те, ради кого он умер бы без колебаний? Сердце Суини, продолжая биться, подсказывало, что, несомненно, живы. Осторожный, склонный к скептицизму Вальтер читал в его душе, словно в открытой книге. Искренность и упорный, непреклонный характер Тодда невольно вызвали его симпатию.
– Вернешься – но не на пятнадцать лет назад: сам понимаешь… – задумчиво сказал он как-то.
Даже проявляя близкое участие к чужой судьбе, этот человек выражался откровенно, напрямик, отметая все наивные иллюзии. Он утверждал, что жизнь – это игра, в которой побеждают те, кто руководствуется логикой и здравым смыслом, а не беспочвенными, робкими предположениями. По-своему, он был, конечно, прав. Но разве любящее сердце может покорно верить логике и аксиомам?
Время бесповоротно и беспощадно. Настоящее ежечасно становится прошлым, а прошлое срывается в бездну, превращаясь в прах. Суини Тодд осознавал это еще острее, чем Бенджамин Баркер. Отчаянная внутренняя сила толкала его все ближе к цели, а надежда превращалась в томительное, напряженное стремление, подобное натянутой струне. Сейчас не время стоять на месте, колеблясь и раздумывая – нужно идти, не останавливаясь, до конца. Для чего же тогда он совершил невозможное?.. Не делай раньше срока горьких выводов, не то споткнешься!
В команде капитана Вальтера было немало необычных личностей, которых в благонравном обществе сочли бы, по меньшей мере, подозрительными. Здесь были и британские переселенцы, отправившиеся в Австралию в надежде сколотить себе там состояние, и те, кого насильно сослали в эти далекие края. Правда, последние уже отбыли наказание и вышли на свободу… чтобы снова ею рисковать. Все эти люди предпочитали непрестанно скитаться по морям, нежели тратить свою жизнь, копая землю или разводя овец в одном из тихих уголков Виктории или Нового Южного Уэльса. Контрабандисты зарабатывают гораздо больше и быстрее, чем фермеры. Оставалось лишь догадываться, как и при каком стечении обстоятельств капитану Вальтеру досталось это надежное и быстроходное, хоть и небольшое судно. Ловко маневрируя, он умел обходить и рифы и закон, нелегально провозя в своих глубоких трюмах самое прибыльное продовольствие в Австралии – ром и табак. Подумать только, ведь ром когда-то здесь едва ли не заменял валюту! Несколько раз причаливая к берегу под покровом ночи, контрабандисты переправляли груз по тайным тропам и тут же снова отплывали на почтительное расстояние. Продвигаясь таким образом вдоль восточного побережья материка, они вполне успешно сбыли весь товар.
Вальтер знал также и секретные лазейки, через которые без лишних проволочек и вполне законно можно было справить самые настоящие документы. Благодаря его содействию Суини Тодду удалось оформить себе паспорт на новое, не вызывающее подозрений имя. Теперь он снова был свободным британским подданным и мог вернуться к себе на родину.
Перед тем, как окончательно покинуть Австралию, Вальтер высадил Тодда неподалеку от Эденгласси.
– Жаль! – шутливо сказал ему на прощание капитан. И это было первым, но откровенным комплиментом. – А впрочем, у каждого своя судьба!
Суини кивнул в знак согласия и крепко пожал ему руку:
– Мою решили вы.
Он не преувеличивал: как ни парадоксально, именно дерзкий авантюрист, почти пират, вернул ему свободу в глазах закона. А знания и навыки, полученные Тоддом за три последние недели, были отличной рекомендацией, чтобы поступить матросом на корабль, идущий в Англию.
Впереди был бесконечно долгий путь назад – восемь или девять месяцев странствий через бурную стихию двух огромных океанов…
Довольно большое торговое судно, гордо названное именем английской королевы, медленно, величаво, как и подобает почтенному купцу, входило в лондонскую гавань. Виктория – значит победа. Победа – поражение врагов. Лишь победителю известно, какова ее истинная цена. А иногда победа горше поражения или же вовсе не имеет смысла…
Путешествие мучительно затянулось. Кейптаун, Рио-де-Жанейро, Тенерифе, а между ними – бесплодные необозримые поля страны, которой правят лишь бури и ветра… По мере того, как Суини Тодд приближался к цели, небо у него над головой из лазурного превращалось в серое. Оно походило больше на дым после сражения, чем на просторы, где царствует свет, и еще меньше – на обитель ангелов. Море у берегов Англии встретило «Викторию» свирепым штормом, отбросив прочь, как негостеприимный и скупой хозяин гонит запоздалых путников. Пришлось остановиться в Портсмуте, чтобы починить треснувшую мачту и заменить поврежденный такелаж. И снова время уходило, не покоряя расстояния…
В день, когда до намеченного рубежа остался лишь один короткий шаг, Суини словно пробудился ото сна. Близился рассвет после ветреной дождливой ночи. Опершись на планшир, Тодд вгляделся в седую туманную тьму. Вот он – старый город на Темзе. Безукоризненно-серый, беспристрастно-надменный, как и прежде. Вертеп, в котором правят алчность, лицемерие и ложь – своего рода джунгли, где люди чопорно, не торопясь, пожирают друг друга. Огромная черная дыра, куда не пробиться свету. Суини провел рукой по глазам, точно отгоняя темноту. Что за наваждение? Значит ли это, что родившееся, как внезапный вскрик, странное, роковое имя Суини Тодда перевернуло судьбу и мир для Бенджамина Баркера? Раньше такие мрачные, изобличительные мысли ни разу не приходили ему в голову. Бен познал здесь любовь и ни с чем не сравнимое счастье, а Суини – совершенно одинок...
– Так много чудес на этой земле, но все же – нет места, похожего на Лондон! – прозвучал восторженный голос позади него.
Тодд обернулся, точно застигнутый врасплох. Лишь по одним словам он, не задумываясь, догадался, кто это. Энтони!.. Простой мальчишка, уроженец Лондона – ныне молодой моряк, успевший повидать полмира. Есть ли хоть что-нибудь на свете, чем бы он не восхищался?
Оба они ясно помнили извилистые лабиринты узких улочек с их серой кирпичной мостовой, готические башни и массивные мосты над желтоватыми от глины водами Темзы. Энтони готов был воспевать на все лады таинственную старину соборов, несокрушимое величие суровых крепостей. Явно не избалованный жизнью, он, тем не менее, искренне любил ее, как строгую мать. Возможно, за то, что в нужде ему было о чем помечтать. Другое дело – пресыщенный роскошью изнеженный принц, которому и желать-то больше нечего!
Чуткий и дружелюбный по натуре, Энтони с восхищением смотрел на мир поверх людских пороков, не замечая его губительного несовершенства. Все новое, диковинное, неизведанное, к чему Суини относился сдержанно и с осторожностью, вызывало у него бурный, радостный восторг впечатлительного юноши. Но эти двое, столь несхожие друг с другом, за время долгого, полного приключений и опасностей пути, стали близкими товарищами. Порывистый, неискушенный характер одного гармонично дополняли твердость и зрелая рассудительность другого, как штурвал направляет парусник. Хоуп во всем стремился брать пример с Суини Тодда, даже не подозревая, в каких суровых испытаниях ковались его стойкость и упорство. Но он усвоил для себя самое главное: оказавшись между молотом и наковальней, сталь непременно превращается в клинок.
– И все же ни одна столица не сравнится с Лондоном! – заключил горделиво юноша, пристроившись у борта рядом с Тоддом.
– Ты еще молод… – с грустью произнес Суини, и тень улыбки пробежала по его губам. – Я рад, что беды обошли тебя стороной.
– Вы никогда мне не рассказывали о себе. А между тем я чувствую: вас мучают какие-то печальные воспоминания… – Энтони смущенно замолк.
– Лучше тебе об этом и не знать. – Суини медленно повернулся к собеседнику. Сейчас его глубокие темные глаза казались почти спокойными, и только пальцы напряженно сжимали тугой канат.
– А давно вы покинули Лондон? – спросил его Хоуп, невольно понизив голос, точно боялся вспугнуть таинственного призрака.
Тодд машинально распустил и заново закрепил шкот. Руки его четко выполняли привычные движения, говорить же становилось все труднее.
– Ты даже не представляешь, как…
– Всегда можно вернуться, – с простодушной улыбкой заметил юноша.
Суини чуть заметно кивнул и снова посмотрел на острые, словно утесы, гребни крыш, проступающие сквозь разорванную ветром пелену тумана.
– Но время вспять не повернуть … – невольно сорвалось с его губ.
Опять эта навязчивая мысль – все громче и тревожнее! Чем ближе он подходит к цели, тем трудней ее прогнать. Его неуловимый враг, дыхание непредсказуемой угрозы, которое порою он чувствует всем телом! Сейчас он сойдет на зыбкую, шаткую землю, минует извивы запутанных улиц, знакомых до трепета в сердце, постучится в знакомую дверь, за которой – лишь холод и пустота… И все?! Неужели, это все?..
Якорь с шумом срывается в воду. С тяжелым стуком откидывают трап – как будто доску под петлей на эшафоте. Неизвестность убивает мучительнее всех смертей!
Тодд повернулся и твердым шагом двинулся к сходням. Пусть впереди – не пристань, а обрыв, сейчас не время отступать. Что ж, он заглянет в эту пропасть, даже если на дне ее – острые камни, и внезапно надломится край!

Глава 9. ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ...
Пассажиры сходили на пристань. Моросил мелкий дождь, и в мокрой мостовой тускло отражались редкие огни газовых фонарей. Спящий город встретил их угрюмым, неприветливым безмолвием. Лишь сырой, пронизывающий ветер с заунывным скрипом широко раскачивал жестяную вывеску какой-то запертой лавчонки.
Едва Тодд сделал несколько шагов, как чья-то темная фигура метнулась к нему в полутьме вдоль парапета. Он различил поношенное платье и ветхий капор, закрывающий лицо.
– Простите, сэр, вы, видимо, замерзли… Хотите, я вас согрею?.. – Не поднимая головы, женщина протянула было руку.
Вздрогнув, Суини непроизвольно отшатнулся. Что может предложить ему одинокая, дрожащая от холода несчастная без крыши над головой?
Но нищенка с отчаяньем затравленного зверя крепко вцепилась в полы его плаща.
– Пойдемте со мной, вы не пожалеете, сэр! Здесь, неподалеку есть таверна… Вы ведь не против угостить меня?.. – Ее рука в промокшей, изорванной перчатке порывисто скользнула вдоль его бедра.
Он понял. Обессилев до крайности, не рассчитывая на подаяние, она без всяких сожалений предлагала ему себя – последнее, что у нее осталось. Взяв женщину за руки, Тодд с усилием приподнял ее и осторожно отстранился. От голода она с трудом держалась на ногах. Пошарив у себя в кармане, Суини вытащил несколько пенни и протянул ей. Ошеломленно уставившись на деньги, женщина недоверчиво замешкалась. Нужда нередко заставляет позабыть о приличиях и гордости, а людское равнодушие – о бескорыстной помощи.
– Возьми, мне не нужны услуги, – заверил ее Тодд.
Нищенка робко коснулась его пальцев и поспешно сгребла монеты, срывающимся голосом благодаря за щедрость. Затем, пошатываясь, побрела вдоль набережной прочь.
– Кто эта женщина? – с наивным любопытством спросил Энтони Хоуп, догоняя Тодда.
– Еще одна загубленная жизнь, – проговорил он тихо, думая о своем.
Минуют грозы, будни, замкнется круг, и этот случай внезапной вспышкой молнии воскреснет в его памяти, как неясный призыв сквозь тревожный, лихорадочный сон. А сейчас он уйдет и забудет о нем. Не сегодня…
– Где я могу найти вас, мистер Тодд? – окликнул его Энтони.
Опомнившись, Суини поднял голову.
– Флит-стрит, возле церкви Святого Дунстана, – ответил он и быстро зашагал вдоль пристани.
Небо подернулось широкой красноватой полосой, словно разрезанное лезвием ножа, когда, оставив позади пустую набережную, Суини вышел на Лондонский мост.
Временами фигуры одиноких прохожих безмолвно, почти неслышно возникали из тумана и исчезали в нем, как призраки, без возраста и без лица. Город медленно просыпался, наполняясь невнятными звуками, отголосками отлетевшего в прошлое вчерашнего дня.
На мост со скрипом въехала повозка; какой-то джентльмен, кликнув извозчика, садится в подкативший экипаж. Холодный моросящий дождь усиливается, поблескивая в предрассветных сумерках белесыми прерывистыми нитями.
Девушка, совсем еще ребенок, светловолосая, без капора и без накидки, придерживая длинный шлейф, нетвердым, торопливым шагом проходит мимо. Белое платье забрызгано грязью, а ветер, налетая, треплет мокрые распустившиеся локоны. На тонкой шее – дорогое ожерелье…

Суини невольно замедлил шаги: не каждый день богатой юной леди приходит в голову гулять так рано, под дождем, в открытом бальном платье. Растерянно и настороженно она оглядывается по сторонам – так, будто что-то потеряла или опасается погони. Кто мог преследовать ее, кто отпустил одну? А может, это беззащитное и хрупкое неземное существо – видение, рожденное туманом?
Не замечая Тодда, девушка склонилась над парапетом. С бледной кожей, вся в белом, в тусклом свете зари она была похожа на мраморную статую, и только губы ее чуть заметно трепетали, точно от порывов ветра. Почему-то Суини решил, – нет, скорее почувствовал! – что она прошептала молитву.
Тихо. Тонкие пальцы быстро касаются лба и груди, словно чертя незримое распятье, и девушка, дрожа, взбирается на парапет. Еще мгновенье, и она сорвется вниз, в мутную илистую воду…
Нет! Неужели Бог не видит?! Тодду едва хватило стремительной секунды, чтобы метнуться к ней и удержать над пропастью.
Отчаянно сопротивляясь, но целая и невредимая, она кричит в испуге:
– Отпустите!
Голос ее внезапно обрывается, но руки продолжают слабо упираться в грудь незнакомца.
– Остановитесь!.. Ничто не стоит вашей жизни! – заговорил он наконец, уверенно, почти сурово. В мире, где человеческая жизнь порой не стоит и гроша, эти слова звучали, точно вызов, брошенный вслепую непобедимому врагу. Но для Суини, невзирая ни на что, в них заключалась магическая сила правды.
– Зачем? – спросил он тихо.
Голубые, как небо, глаза робко, украдкою заглядывают вглубь широко раскрытых темных, и девушка смущенно отворачивается, словно ее застали на месте преступления.
– Откуда вы? Как ваше имя?
Она виновато молчит, но сейчас ее руки уже не отталкивают, а ищут опоры.
Суини больше не расспрашивал – просто укутал своим кожаным плащом ее мокрые от дождя худенькие плечи и увел. Подальше от бездны, подальше от края… И от любопытных глаз: чужое горе – забавный спектакль для других.
Послушно, как доверчивый ребенок, девушка последовала за ним.
Торжественно-величественный город остался позади, и вскоре их глазам предстали скользкие от грязи мостовые старых улиц, темные провалы пыльных окон, неопрятные рыбные и мясные лавки, кабаки, запущенные подобия домов… Похоже, она впервые ступила в убогий, словно потерянный на дне стоячего болота мир, в котором так мало света. Бережно поддерживая свою спутницу, Тодд ощущал, как тонкие трепещущие пальцы порой сжимают его руку, будто ища защиты. Суини даже не подозревал, что именно она сейчас, подобно ангелу-хранителю, незаметно прогнала его тревогу прочь, предавая сил на пути к пугающей и заветной цели. Пытаясь облегчить чужую боль невольно забываешь о своей.
Как глубоко было ее отчаяние там, на мосту, что заглушило голос разума? И почему так остро кольнуло сердце, когда его рука коснулась золотистых растрепавшихся на ветру волос?
«У нее тоже были светлые волосы. И она тоже была в отчаянии. А нашей дочери … вчера исполнилось шестнадцать!..».
Стук экипажей и уличный гул постепенно затихли вдалеке: они свернули в длинный, узкий переулок, ведущий на Флит-стрит.
– Ах, чтоб тебя!.. Прочь, лодыри блохастые! – Полусонная непричесанная женщина в мятом, промасленном переднике с шумом захлопывает двери небольшой лавчонки, а парочка оборванных уличных мальчишек с воплями бросается наутек.
Ну что здесь воровать? Разве только нужду и долги. Вот этого как раз-таки не жалко! Могла бы – сама их выбросила за окно, как тараканов.
Только слепые и глухие не ведают, как «хорошо» идут дела хозяйки пирожковой на Флит-стрит. Да и те, попробовав ее стряпню, бежали бы за три квартала, даже без ног.
Дом по Флит-стрит, 186 действительно не пользуется доброй славой. Когда-то светлый и опрятный, сейчас это всего лишь два этажа запущенного хмурого жилища, где прежнее благополучие надежно похоронено под слоем серой пыли и сетью паутины. И ни одной живой души, чтобы хоть вместе вспомнить о былом!
Миссис Ловетт устало отпирает ставни: ну что ж, еще один день начался – добро пожаловать! Скоро появятся клиенты – если появятся! – самое время привести себя в порядок. Ей достаточного беглого взгляда в потускневшее зеркальце, чтобы сразу понять – это дело не четверти часа, а работа не ждет! Она поспешно причесала растрепанные кудри, небрежно собрала в пучок и закрепила шпилькой на затылке – ну для кого ей прихорашиваться, право! Эх, не для кого, Нелл, давно уж не для кого… Муж Альберт умер десять лет назад – и слава Богу! Трудно найти святую душу, чтоб вытерпела все его упреки да капризы. Разбитый подагрой, он дни напролет чего-то требовал, ругался и стонал, не в состоянии даже подняться с кресла, чтобы тайком налить себе стаканчик джина.
Миссис Ловетт развела огонь в печи и замесила тесто для своих традиционных пирогов. Какую же начинку ей положить сегодня? Ложечку пыли, пару крупных тараканов или…просто печальный вздох? Когда запасы и фантазия иссякли, решение принять не так-то просто. В ближайшей пирожковой толстуха миссис Муней была куда изобретательнее и смелее: поговаривали, что она готовит пироги с начинкой… из бездомных кошек. Но при одном упоминании о подобной дикости, Нелл ощущала приступ тошноты. Самое большее, на что ей хватало духу – это приманить на крошки голубей, и хорошенько измельчив жестковатое, сухое мясо, скромно потупившись, выдать его за куриное. Какая жалость: молодые особи мягче и сочнее, но они, как на беду, не в теле – кучка костей… да мутная вода в кастрюльке. Ладно, сегодня недосуг охотиться за птицей. Она прикрыла одну плоскую лепешку другой, старательно заправила края – ну, вот и все! Какая разница, с чем пироги, если хуже них нет на всем белом свете? Закончив с тестом, Нелл задумчиво прошлась между расшатанных столов, покрытых плотной скатертью застывших пятен. Каждый из них – как потемневшая до черноты картина давно минувших пиршеств. А ныне мало кто решится откушать за одним из этих столиков, чтобы добавить свой неповторимый штрих. Соседка как-то предложила украсить их цветами – совсем как безымянные могилки!
Невольно вспомнились тоскливые стихи забытого поэта:
…И не найдя того, что я искал,
Я – сломанная кукла в старом доме,
Я погибаю в сумраке зеркал!..
Да, люди суеверно избегают этот дом… Будто на них падет проклятье из-за той трагической истории, которая произошла здесь Бог знает, сколько лет назад.
А может, все случилось не раньше, чем вчера – в бреду, во сне? Порою Нелли кажется, что маленькая комнатка с наклонным потолком, там наверху, под крышей, на самом деле не пуста. Сейчас он спустится и сядет у камина, – такой красивый, что хочется плакать и петь! – и чувственно-мягкие губы с наивной улыбкой прошепчут слова утешения. Ах, если бы еще хоть раз услышать этот голос, коснуться темных вьющихся волос, так нежно пахнущих лавандой и заглянуть в глубокие глаза…
Вдруг отрывисто звякнул колокольчик у двери. «Что? Клиенты?! И сразу целых два! Ах, неужели я пьяна, и у меня двоится?..» – обернувшись, мысленно воскликнула миссис Ловетт. Но эти двое были слишком разные. Не веря собственным глазам, Нелли поспешно бросилась навстречу посетителям, не выпуская из руки большой кухонный нож. «Должно быть, отец с дочерью» – интуитивно отметила она.
– Прошу вас, проходите! Ах, вы совсем промокли… – Взгляд ее растерянно скользнул с болезненно бледного лица незнакомца на забрызганный грязью атласный подол его спутницы.
Девушка слегка попятилась, мужчина же спокойно отстранил порядком сточенное лезвие ножа от своего лица.
– Простите, сэр… – Нелли смущенно опустила ножик. – Вы первые, кто заглянул ко мне с утра! (За последнюю неделю!) Присаживайтесь, я сейчас вас обслужу!
Она суетливой походкой направилась к печке, через плечо поглядывая на неожиданных гостей. Парочка, следует заметить, довольно необычная. Высокий, статный джентльмен лет сорока, не мальчик, но, бесспорно, привлекательный! Даже эта серебристая прядь над виском абсолютно не портит его – скорее предает особое своеобразие. А девушка… да у нее на шее настоящие брильянты! Или дождевые капли в золотой оправе? «Не думаю, что мое «мясо» придется ей по вкусу!.. Но главное – не растеряться».
Обжигая пальцы, Нелли торопливо извлекла из печи свои известные печальной славой пироги – к счастью, она «забыла» положить туда протухшую начинку, которая закончилась пару дней назад! – и с гордостью поставила не блюдо.
– Свежайшие – прямо из печки!
«Ну, Нелли, приготовься, сейчас наслушаешься комплиментов!»
Миссис Ловетт оставила на столе угощение и отправилась на поиски эля. Он оказался неподалеку – в кухонном шкафчике, на самой нижней полке, в компании немытых сковородок. Нелли незаметно вытерла передником пыльную бутылку и с грацией актрисы водрузила ее перед незнакомцем. Мельком взглянула на блюдо – не тронуто! Пироги, конечно, – испытание суровое, но ведь на них же не написано!.. Она заботливо наполнила стакан мутной желтоватой жидкостью. Чисто из вежливости предложила немного и девушке, но та отказалась – попросила только кружку горячего чая и присела поближе к огню. В магазинчике снова воцарилась тишина.
Мужчина машинально надломил край пирога и отодвинул в сторону пустое тесто. По-видимому, им обоим не хотелось есть. Странно... Обычно покупатели заходят лишь, когда на улице промозглый ливень или в животе бушует буря, а денег жалко или их в обрез. Дождь вроде перестал… Бывало всякое: часто недовольство, брань вполголоса, реже – летающие миски… но чтобы долгое молчание, как на поминках – это и вправду странно!
– Ну, что же вы? Смелее, сэр, попробуйте как следует. Ах, вы такой бледный…
Он поднял на нее глаза… От неожиданности Нелли пошатнулась и застыла, как на краю глубокой бездны: такого взгляда ей встречать еще не приходилось. Так смотрит безысходная, томительная ночь, так смотрит раненное сердце, боясь поверить разуму. Но эти черные глаза… Да разве могут быть такие сразу у двух людей?!
Тот, другой, излучал теплоту, словно ангел, пронизанный светом… А тот, что перед ней сейчас – усталый путник в поисках тепла.
«Кто же ты? Может, я ошибаюсь?.. Я должна это выяснить. Непременно!» – Нелли вся затрепетала, ощутив, как в груди ее зарождается смутный огонек надежды.
– Ах, понимаю: вы не в восторге от моей стряпни. Но времена нелегкие – приходиться трудиться, как умеешь! – философски заметила она вслух.
Выпив пару глотков, незнакомец вдруг негромко спросил:
– Говорят, у вас над лавкой комната. Вы не сдаете ее?
Только сейчас она впервые услыхала его голос, такой же темный и глубокий, как его глаза, и почему-то нерешительный, слегка тревожный.
– На втором этаже? К ней и близко никто не подходит: молва не хвалит это место. Один болван пустил нелепый слух, будто там – призраки, а остальные подхватили! Много ли нужно, чтоб испортить репутацию?
Мужчина удивленно поднял бровь.
– Призраки? – машинально повторил он с оттенком горечи.
– Да, – отозвалась Нелл, украдкой глядя на точеный профиль на фоне голубоватого окна. Чувственно-меланхолический изгиб изящных губ, чуть заметные тонкие морщинки на высоком лбу, подрагивающие, будто бы от скрытого нетерпения, ресницы… И темные густые волосы, влажные от дождя… Ну почему так хочется погладить их, зарыться в них лицом?
– Давным-давно здесь кое-что произошло, – медленно, как бы собираясь с силами, миссис Ловетт начала свой трагический рассказ. – В той самой комнатке, что наверху, когда-то жил один цирюльник с женой и дочкой. Такой красивый, такой счастливый! – В глазах ее блеснули огоньки и сразу же погасли. – Ангел-хранитель в образе простого смертного, – прошептала она с грустью.
Словно безучастный ко всему вокруг, незнакомец оставался неподвижным, только тень пробежала по его лицу.
– И что – обитель ангела теперь отпугивает грешных? – тихо спросил он.
– Нет, дело в том, что этот человек был осужден. Безвинно. То был поистине художник с бритвой, и его услугами пользовались именитые клиенты. Вот из-за этого-то все и началось… Довольно часто заходил в цирюльню один судья. Предполагаю, что прическа и бритье стали со временем лишь деликатным поводом – прикрытием для нечестивой цели. Он так любезно заверял, что принимает живейшее участие в судьбе цирюльника, и даже предложил ему дипломатическую миссию – кажется, в Бристоле… чтобы услать подальше и надолго. Ведь не бывают богачи щедры без видимой причины: судье пришлась по вкусу его жена. Я посоветовала ему тогда и в самом деле покинуть Лондон – вместе с семьей, хотя бы на какие-то два месяца… Но они не успели.
Случилось так… Все было просто, беспощадно просто!.. Чей-то лакей вручил его жене письмо – без подписи и без печати – и тут же таинственно исчез, не говоря ни слова. А внутри конверта оказался драгоценный перстень. Я видела его – она мне показала, затем сожгла записку. Ах, сэр, вы понимаете, что это было за письмо?.. Жена цирюльника хотела перстень отнести назад судье, но побоялась, и, поразмыслив, мы решили вернуть его посыльному: ведь он наверняка явится снова – за ответом. Но вместо него в дом ворвались констебли. А дальше – ужасно! Был обыск. Драгоценность обнаружили, и цирюльника тотчас арестовали. Ему неотвратимо грозила казнь через повешенье*! Вдвоем с его женой мы умоляли того самого судью не совершать чудовищной несправедливости, но он был холоден и неприступен, как скала. Суд состоялся через пару дней – настолько скоро, что в заранее спланированном замысле не оставалось никаких сомнений. Без лишних проволочек цирюльника отправили на каторгу – пожизненно! А он был так наивен, так молод… и так красив! – Нелли на миг остановилась, переводя дыхание. Ее душа неудержимо, слепо стремилась навстречу собеседнику, словно ломающая лед река, но ледяной преграде, казалось, не было предела. Что кроется за этим неподвижным отсутствующим взглядом? Неужто он ничем себя не выдаст – ни словом, ни слезой, ни даже вздохом?.. Или это и вправду не он?!
– А после стало еще хуже. Его жена осталась одинокой – почти вдова, с ребенком на руках. Ни родных, ни сбережений: ведь все имущество ее покойного отца пустили с молотка в уплату долга. Бедняжка получала письма – угрозы, обещания… богатые подарки, которых ни за что не принимала, хоть ей с малышкой не на что было жить. Мы с мужем помогали ей, как могли. А судья… Судья упорно ждал в расчете, что нужда и безысходность заставят ее позабыть о гордости и уступить. Она сопротивлялась, как в агонии – затравленная лань. Глупышка!.. Ну что теперь терять, когда его уж не вернуть… Взбешенный этой затянувшейся борьбой, судья однажды потерял терпение. В конце концов, он в ярости решил разбить красивую игрушку, которую никак не удавалось получить!
Как-то, поздно вечером, на Флит-стрит явился бидл** Бэмфорд, поверенный судьи. Пообещал, что дело пересмотрят. Судья, мол, искренне раскаялся и просит подписать какие-то бумаги… Ну, словом, розовые грезы да и только! А бедняжка поверила и тотчас поспешила за ним – я и глазом моргнуть не успела. Ну, бидл отвез ее к судье, а там был маскарад! В простом домашнем платье, она присела в уголке и скромно ожидала чуда!.. А Бэмфорд между тем любезно предлагает ей воды. Та выпила, внезапно почувствовала слабость и прилегла…
Нелли невольно замолчала, прикрыв рукой глаза. Ах, если бы ты только знал!.. «Молчи! Остановись…» – шепнуло сердце и пропустило один удар. И тут короткие безжалостные фразы сами собой сорвались с ее губ:
– Почти без памяти… она все видела. Все слышала. Мужчина в маске… Он овладел ей прямо там… И никто не вступился за нее… гости стояли вокруг и смеялись!
– Нет! – Резко опрокинув стул, незнакомец с хриплым криком бросился вперед – словно навстречу всей этой незримой своре. Пальцы его так сильно стиснули стакан, что тонкое стекло со скрежетом треснуло в его руке.
Нелли в ужасе отпрянула, бессознательно готовая бежать от человека, о котором тосковала столько лет:
– Это вы!.. Ты… Бенджамин Баркер!..
Она впервые назвала его по имени. И больше не могла произнести ни слова…
– Где же она теперь? Где моя Люси? – спросил он еле слышно, глядя в пустоту. Хрупкие осколки, выпав из его ладони, звеня, рассыпались по полу, и тонкий красный ручеек скользнул по стертым серым доскам.
Нелл нерешительно приблизилась к нему, помедлила – всего секунду – и, почему-то виновато, прошептала:
– С той поры она словно лишилась рассудка. А однажды, после того, как девочку забрали, просто исчезла и уже не возвращалась. Думаю, Люси умерла – улицы Лондона безжалостно поглотили ее…
– А Джоанна, кто ее забрал? – Голос Бенджамина доносился будто из другого мира.
Сознавая, что ее ответ, как лезвие ножа, причинит ему новую мучительную боль, миссис Ловетт лишь растеряно теребила свой передник, лихорадочно кусая губы.
– Говорите же! – нетерпеливо он повысил голос.
– Судья Торпин! – вымолвила Нелли наконец. – Он ее опекун.
Для Бенджамина это стало последней каплей. Сдавленный стон вырвался из его груди. Преодолеть все испытанья и преграды и возвратиться, чтоб удариться о стену! В одну минуту горячо желанная свобода обернулась тупиком – безвыходнее каторжной тюрьмы!
Нелли робко взглянула на Бенджамина.
– Судьба была несправедлива к вам, мистер Баркер…
«Ну что мне сделать, чтобы утешить тебя, любимый?!..» – беспомощно металась ее мысль.
– Нет, Баркера больше нет, – чуть слышно проговорил он. – Теперь это всего лишь Тодд, Суини Тодд…
После этого Нелл уже не смела смотреть ему в глаза.
Так близко – и не прикоснуться! Он словно спрятан глубоко внутри себя, такой холодный и как будто неживой – тень собственного призрака, виденье…
Чьи-то несмелые шаги, как шелест листьев по траве, нарушили гнетущую, томительную тишину. Девушка в белом – о ней совершенно забыли! Пройдя по половицам, усыпанным осколками, она тихонько, словно опасаясь причинить ненароком боль, положила руки на поникшие сильные плечи мужчины.
– Там на мосту, вы спросили мое имя… – Ее чистый, совсем еще детский, голос дрожал от волнения, но ей хватило твердости закончить: – Меня зовут Джоанна Баркер.
Если бы молния ударила вдруг посреди комнаты, Бенджамин был бы меньше потрясен, чем ощутив у самой своей щеки этот согревающий нежный лучик света.
Джоанна! Его дочь!
Проделав бесконечно-долгий путь, он чудом вовремя успел, чтобы спасти ее!
«Ты – мое дитя!.. Веришь ли, – в смятении спрашивает он, – это мне сердце подсказало, едва лишь я прижал тебя к себе!». – «Конечно – ведь я без колебаний доверилась тебе!.. И ты увел меня, как будто знал всю жизнь!..» – улыбается она сквозь слезы. Они так много говорят друг другу – в одно короткое мгновение, без слов! Отец и дочь не виделись почти шестнадцать долгих лет!
– Больно?.. – Джоанна осторожно прикасается платком к израненной ладони Бена, а его свободная рука трепетно гладит золотистые распущенные волосы.
– Нет. – Он плотно сжимает губы, но глаза выдают его. – Не здесь.
Еще совсем ребенок, наивная, но чуткая, Джоанна сразу поняла, о чем он.
– Мама не могла так просто исчезнуть без следа. Ведь ты же возвратился!.. – Неожиданно смелая надежда озарила ее кроткое лицо.
– Ты так похожа на нее, – печально улыбнулся Бенджамин. – Скажи мне, как ты очутилась на мосту? – спросил он вдруг с тревогой.
– Случилось…– начала было Джоанна и нерешительно запнулась. Рассказывать ли все ему сегодня: отец так много пережил за это утро…
– Не будем о грустном, ведь оно позади. Теперь мне ничего не страшно, – заверила она, ласково касаясь его щеки.
– Тем более, Джоанна, я должен это знать, – уже спокойнее, с привычной рассудительностью ответил Бенджамин. – Мы – одна семья, и у нас не может быть секретов.
Подняв упавший стул, он сел, заботливо усадив рядом с собою дочь, и снова внимательный, открытый взгляд глубоких темных глаз придал ей силы.
Вздохнув, словно освободившись от незримых пут, Джоанна начала рассказ…
Знаменитый лондонский судья Уильям Торпин вновь созвал гостей на торжество – первый бал в честь своей подопечной Джоанны, которой в этот день исполнилось шестнадцать. То был не маскарад сродни непристойной дикой вакханалии, где хищники под пестрыми личинами из шелка и парчи охотятся за беззащитной жертвой. На этот раз судья не счел необходимым скрывать свое лицо. Уже не молодой, с почти седыми, аккуратно уложенными волосами, в жемчужно-сером бархатном костюме, величественный и надменный, как на суде, он принимал учтивые приветствия гостей и комплименты в адрес его юной подопечной.
Светловолосая, с молочно-белой кожей и в белоснежном атласном платье с длинным шлейфом она невольно напоминала ангела, которого вел под руку Бог правосудия. Любопытные, порою беззастенчивые, взгляды и восторженная лесть явно смущали девушку, не привыкшую к пышным церемониям. Роль, предназначенная ей, была заранее тщательно разучена, и Джоанна достойно исполняла ее: неизменно-приятная полуулыбка, изящные, почтительные реверансы и вежливые, скромные ответы… Бессмысленно, тоскливо и невыносимо долго!.. Ах, поскорее бы закончился этот спектакль! Ей не терпелось снова оказаться в своей уютной тихой комнатке, обтянутой вишневыми обоями. То был ее заветный мир, крошечная тайная вселенная – день за днем, ночи напролет: щебечущая канарейка в клетке у окна, старинные романы за стеклянной дверцей резного шкафа, поблескивающий лаком клавесин.
Зачем ей драгоценное колье с бриллиантами – щедрый подарок опекуна, когда она почти не покидает этих стен? Лишь раз в неделю он сопровождает ее в церковь – в закрытом экипаже, словно она растает, как снежинка от солнечного света. Какая ей предназначается судьба, какою вообще она бывает? И почему все происходит так, а не иначе?..
Джоанна ничуть не мечтала о сказочном принце – единственным словом, синонимом счастья, для нее было слово «любовь». Но кто влюбится в нее, и кого она могла бы полюбить в своем уединении? Неужели жизнь так и пройдет в тени запретов, и ей не суждено увидеть даже маленького чуда? А может быть, сама природа создала ее похожей на тех птиц, которым не дано летать? Как страшно… Но всякий ли запрет – закон, и всякая ли вольность – преступление?
– О чем вы вдруг задумались? – раздается хорошо знакомый голос. Мистер Торпин! Он как всегда немного холоден, сегодня даже чересчур учтив, но зоркий взгляд его глубоко посаженных серых глаз почему-то вызывает смутную тревогу.
– Ни о чем, – поспешно отзывается Джоанна, словно опасаясь, что судья угадает ее мысли. – Я просто… немного устала.
– Ах да, понимаю... Потерпите. Вот уже скоро полночь, и гости начнут расходиться. – Торпин поднимается со своего места и отходит в сторону, но лишь для того, чтобы в полной мере любоваться собеседницей.
– Сегодня вы поистине прекрасны! – изрекает мистер Торпин с неподдельным восхищением, и, в замешательстве не находя ответа, Джоанна ощущает, как румянец неожиданно обжигает ее щеки…
Наконец-то завершилось это утомительное празднество!
Какое облегчение освободиться от узкого корсета и острых шпилек, от которых ноет голова! Затворив двери своей комнаты, Джоанна поудобнее устроилась в уютном кресле у камина. Сейчас к ней придет ее милая, добрая Берта и поможет раздеться перед сном: самой ей ни за что не справится. Укрывшись мягким пледом, Джоанна потянулась к столику за любимой книгой. «Ромео и Джульетта» – история любви, преодолевшей все преграды, кроме смерти, но эти двое искренне и горячо любили, и сама смерть, наперекор коварной, переменчивой судьбе, навеки соединила их. А ведь они впервые встретили друг друга на балу... Как прекрасно – заглянуть в глаза и увидеть душу, которая согреет своим ярким пламенем твою! Со вздохом девушка закрыла книгу и задумчиво вгляделась в полумрак. Ах, почему в этот волшебный день – самый неповторимый в жизни – с нею так и не случилось чуда?.. Ну что же не приходит Берта?
Дверь медленно со скрипом отворилась… но вместо камеристки на пороге появился судья Торпин. Сама не понимая, что вызвало ее смятение, Джоанна порывисто вскочила.
– Я напугал вас? – с расстановкой произнес судья, как будто самые обычные слова стали вдруг для него трудны. При свете канделябров его лицо напоминало гипсовую маску, а левый угол рта слегка подергивался. Опираясь на трость, он с торжественным видом прошествовал до камина и пошатнулся. Его надменный пафос граничил с бессильной неуверенностью, и Джоанна инстинктивно догадалась, что он пьян. Странно: на приеме ей не бросилось в глаза, чтобы он много выпил.
– Простите, сэр, но джентльмен стучится прежде, чем войти в комнату леди, – негромко промолвила она.
– Вы правы как всегда, моя разумница. – Мистер Торпин учтиво поклонился. – Но эта комната все же находится в моем доме. – Он сделал паузу. – Сегодня день особый: вам исполнилось шестнадцать. Я думаю, самое время определиться с вашим положением.
Не теряя церемонной важности, насколько позволяли тошнотворное головокружение и слабость, судья вплотную приблизился к Джоанне и замер, возвышаясь над ней подобно статуе.
– Вы повзрослели, мисс, – безапелляционным тоном сообщил он ей. – И ваша красота заслуживает поклонения, заботы и… драгоценнейшей оправы. Безусловно, многие сочтут за честь стать вашим спутником и подарить вам счастье, но вы… достойны наилучшей партии. И потому… я предлагаю вам стать моей женой!

– Что?! – Джоанна вскрикнула от изумления, и книга выпала из ее рук, со стуком ударившись о пол.
В здравом уме, он говорит уверенно и твердо, как будто произносит приговор в суде. Мистер Торпин бесспорно богат и влиятелен; великий лондонский судья внушает уважение и страх. Сдержанный, запертый в своей надменности, он, несмотря на жесткий, неуступчивый характер, заслужил ее привязанность и благодарность. Но любовь... Любовь романтическую, нежную, чистую, где двое – равны, а их души едины!.. Нет, это невозможно – ведь он годится ей в отцы! Он был ее отцом почти с рождения, как же могли так измениться его чувства за одну минуту? Вероятно, виною всему алкоголь. Ну конечно! Наступит утро, и все будет начисто забыто, как дурное сновидение: опекун спокойно поприветствует ее за завтраком, небрежно пробежит глазами свежую газету, оправит свой безукоризненный костюм и выйдет, как всегда не оборачиваясь. А дальше… Пускай так продолжается хоть до скончания веков – только не эта странная, непостижимая женитьба!
– Простите, все настолько неожиданно… – Джоанна осторожно обошла журнальный столик, искоса следя за Торпином, который в нетерпении теребил манжеты. – Прием был очень долгий, и вам, должно быть, необходимо отдохнуть. Если позволите, то мы продолжим эту беседу завтра. – Удачно выполнив маневр, девушка присела в реверансе и отступила к выходу.
– Сегодня! – Резко повернувшись, он с такой силой стиснул ее руку, что она едва сдержала крик. – Я слишком долго ждал! – Судья бесцеремонно придвинулся к Джоанне, обдавая ее душным запахом алкоголя и одеколона. – Я так решил! Каким бы ни было твое решение, я коротко отвечу за тебя: да! Да!
– Нет! – вырываясь, воскликнула она, с ужасом осознав, что маски сброшены – на этот раз бесповоротно.
Не сдерживая гнева и досады, судья хрипел над самым ее ухом:
– Я предложил тебе законный брак, высокое общественное положение, роскошную, блистательную жизнь без будничных забот… Хотя вполне бы мог не предлагать, если учесть твое безвестное происхождение! Только сумасшедшая могла отказаться от такой удачной партии – я запру тебя в приюте для умалишенных! И тогда, раскаявшись, ты сама будешь просить, умолять меня о снисхождении! – Его подергивающиеся сухие губы почти касались ее лица, а возмущенное сопротивленье девушки разжигало в нем неистовые чувства.
– Зачем вы меня мучаете?.. Как я могу быть вам женой? Ведь вы… вы… вы совсем старик!.. – в отчаянии выговорила наконец Джоанна, и ее ослабевший голос оборвался. Господи, неужели ей хватило духу сказать такое? Но это же чистая правда!
– Да как ты смеешь?! – отказываясь верить собственным ушам, судья в порыве ярости отбросил ее прочь.
Ударившись о стену, Джоанна потеряла равновесие и упала на колени, но в этот миг, ошеломленная и оглушенная, она вдруг ощутила, что свободна. Перед ее глазами в тусклом свете пламени мелькнула неуклюже сгорбившаяся фигура Торпина, судорожно сжимающего пальцами виски. Скорей, пока не поздно!.. С отчаянным усилием Джоанна вскочила на ноги и устремилась к приоткрытой двери. Мерцающий свечами коридор, ступеньки, мраморные плиты холла, красное поле широкого ковра… резная дверь в библиотеку. Джоанна быстро забежала внутрь и, вся дрожа, задвинула засов. Тихо. Прерывисто переводя дыхание, она прислушалась. Прошло пару минут. Неровные, тяжелые шаги… Позолоченная ручка двери медленно опустилась вниз.
– Открой… – послышалось снаружи.
Джоанна замерла на месте, не отрывая глаз от позолоченной щеколды; сердце неистово металось у нее в груди, как птица, попавшая в силки.
Воцарилась тишина…
– Открывай! – Дверь гулко содрогнулась от резкого удара.
Она отпрянула, словно преграда внезапно испарилась, и бегом бросилась к окну. Одернув шторы, торопливо отперла задвижки и распахнула створки. Упорные глухие удары в дверь… О, только бы успеть! Взобравшись на высокий на подоконник, Джоанна уцепилась за отлив*** и соскользнула в промозглую дождливую темноту.
Не разбирая дороги, она долго бежала по безлюдным извилистым улицам. Одинокие прохожие казались ей бесплотными блуждающими призраками, а тишина – могильной. Дыхание сбивалась от сырого ветра… Ее хрустально-хрупкий светлый мир внезапно перестал существовать, а тот, что окружал ее теперь, беспощадно-реальный, необъятно-огромный, был ей совершенно чужим. Джоанна затерялась в его зловещих лабиринтах, словно белое пятнышко света в мутном омуте ночи. Теперь ей неоткуда было ждать спасения…
– Там, на мосту, мне казалось, что выхода нет. Но когда я увидела ваши глаза… твои глаза, мне стало стыдно за свою непростительную слабость, – закончила Джоанна. Она внимательно всмотрелась в бледное лицо отца: не осуждает ли, не сердится на нее?
Но Бенджамина охватили совсем иные чувства. Однако в этот раз негодованье не лишило его воли: он не вскочил, круша в бессильной ярости все, что попадется под руку, даже не вскрикнул, только пальцы его то и дело крепко сжимали край стола. Из бурных, необузданных порывов гнев превращался в нем в надежное и грозное оружие, которое до времени останется незримым.
– Все снова также, почти также повторилось! – тихо промолвил Баркер. – Когда же этот ненасытный стервятник успокоится?
– Я думаю, сейчас вам обоим лучше обогреться и спокойно отдохнуть, – рассудительно заметила миссис Ловетт, подходя к столу.
Какими драматическими не были бы обстоятельства, ее практичная натура возмущалась против бесполезного самоистязания: беда бедой, но о живых-то забывать не следует!
– Я приготовлю для вас комнату внизу, рядом с моей. А мисс Джоанне нужно обязательно переодеться, – деловито распорядилась Нелли. – Я сейчас подыщу ей подходящее платье. Эй, вы слышите меня, мистер Бракер?..
Бенджамин вздрогнул и поднял голову.
– Прошу вас, не зовите меня этим именем, – сказал он, пристально глядя ей в глаза. – Для всех этот человек умер. Теперь меня зовут Суини Тодд.
Нелли понимающе кивнула, слегка пожав плечами: Суини, так Суини. Какое вообще значение имеет имя, когда он здесь, на самом деле здесь! С воодушевлением вживаясь в роль заботливой хозяйки, Нелл суетливо отряхнула на ходу передник и повела гостей во внутренние комнаты. «Только бы вспомнить, из какого теста я пекла те восхитительные пироги… целую вечность тому назад!» – подумала она, благоразумно пряча счастливую улыбку. Совсем как юная Джоанна, сегодня миссис Ловетт готова была верить в чудеса!..
Время, бесспорно, не повернуло вспять, но в этот день по прихотливой воле самой судьбы такие разные, затерянные в круговерти бытия пути вновь неожиданно пересеклись сразу для четырех людей.

Поздно вечером, когда над городом сгустились грозовые сумерки, а Джоанна уже мирно спала в маленькой, почти что потайной, комнатке на первом этаже, миссис Ловетт отвела Суини на чердак.
Странное чувство охватило все его существо, едва лишь ключ со скрежетом повернулся в заржавевшем от времени замке, и Нелли осторожно приоткрыла дверь в заброшенную темную цирюльню. Прикрыв глаза, как будто ослепленный этим безжизненным унылым мраком, Суини Тодд невольно остановился на пороге. Промозглая прохлада со стойким духом сырости пахнула ему в лицо.
– Входите… Здесь, конечно, жутко, но вам никто не причинит вреда. – Приподняв керосиновый фонарь, миссис Ловетт первая ступила в обиталище пауков и привидений. Медленно, словно опасаясь потерять опору, она прошлась по комнате, простукивая каблуком старые неокрашенные доски. Затем, наклонившись, отодвинула одну из них.
– Вот они, – с благоговением прошептала Нелли, бережно извлекая из тайника ящичек, обернутый плотной тканью, – я ни за что не продала бы их. Отныне они снова ваши.
Суини Тодд с тоской окинул взглядом пустые стены, с которых кое-где лохмотьями свисали выцветшие полосатые обои: ни мебели, ни зеркала, только в углу, под бархатной от пыли простыней – нечто похожее на колыбель… Из груди Суини вырвался глубокий вздох, но на сей раз то был вздох облегчения, а не скорби: его дочь спокойно спит в безопасности, совсем рядом.
Войдя в этот забытый склеп, который когда-то был для него храмом, Тодд молча опустился на колени рядом с Нелл. Она невольно вздрогнула, когда его густые волосы коснулись ее лица. Их разделяло лишь отверстие в полу…
Нелли отбросила полугнилую ткань и протянула ему ларец, изо всех сил стараясь, чтобы не дрожали руки. А сердце трепетало от нежности и опьяняющего счастья – буквально кожей ощущать его дыханье. Быть его близким другом – хотя бы другом – не надеясь на что-то большее!.. А в тайне – никто не запретит любить, ничто не помешает предаваться грезам! Быть замужем и обожать другого – смертный грех, каким бы ни был этот муж, пусть даже старая пропитая развалина. Но Альберт отошел в иной, далекий от земного, мир, и ей впервые не стыдно за свои чувства. Бенджамин Баркер или Суини Тодд – теперь для нее он также свободен.
Суини, словно завороженный, откинул крышку ящичка – перед ним в мягких углублениях лежали серебряные бритвы. Их было ровно семь, как в радуге цветов или чудес на свете – счастливое число, которое, увы, не удержало счастья… Острые лезвия, скрытые резными ручками, дремали в темноте почти шестнадцать лет, терпеливо ожидая своего хозяина. Тодд медленно раскрыл одну из бритв, любуясь чистым блеском серебра. Нелл, затаив дыхание, следила за его движениями, словно за кистью вдохновенного художника.
– Подарок Люси. – Он грустно улыбается – и ей хочется кричать от боли. Возможно, это ревность, но она готова всем пожертвовать, даже тем, чего у нее нет, лишь бы он хоть раз улыбнулся безмятежно и светло, как прежде!
– Помнишь, когда-то ты звал их друзьями… – шепнула Нелли.
– Всего лишь серебро, – вздохнув, ответил Тодд, – но у меня есть враги.
Он надолго умолк, погруженный в свои размышления.
Нелли несмело нарушила тишину:
– Ты должен знать, что я – твой самый верный друг…
– Я знаю, – твердо, не колеблясь, отозвался он.
Опять молчание. Его мысли далеко отсюда, но Нелли сердцем угадала, о чем он думает, поглаживая пальцем острую серебряную грань. Наедине с ней осталась лишь его оболочка. Так мало – что ж, и этого довольно! Но мысли, о которых он молчит… Нелли все отчетливее слышала их назойливый тревожный шорох будто внутри себя, и не могла прогнать их прочь, как не мог и он.
«Ах, Бенджамин, изменилась ли твоя душа до неузнаваемости, также, как лицо? Что сделали с тобою там, на другом конце земли, куда не каждый добирается живым?..». Нелли ни за что не посмела бы расспрашивать его об этом. Он управляет своим гневом, как опытный наездник – горячим скакуном, но что, если вдруг ненароком выпустит поводья?
– Я хочу посмотреть ему в глаза! – мрачно проговорил Суини, неотрывно глядя на лезвие.
Нелли затрепетала, точно пламя от порыва ветра:
– Вы сошли с ума! Вас узнают, арестуют и сошлют обратно!
– Не сейчас, – произнес он сдержанно, овладев собой, и нависшая над ними зловещая туча развеялась; кругом чернела только ночь.
Но Нелл предчувствовала, что гроза вернется… Ей снова захотелось обнять его за плечи, впервые ласково коснуться бледной кожи. Она излечит его ноющие раны; забыв о риске, о себе самой – исполнит все, что он прикажет…
– Оставьте меня одного, – тихо попросил он.
Нелли машинально поднялась с колен, но ноги почему-то не слушались ее, а в горле пересохло от волнения.
– Ты отомстишь? – спросила она вдруг.
Бросив последний взгляд на бритвы, Суини Тодд захлопнул крышку.
– Я подожду, – ответил он, и, выпрямившись во весь рост, с вызовом окинул взором запущенный чердак.
– Что ж, настало время вновь заняться прежним ремеслом! – Тодд произнес эти слова обычным тоном, как будто комната уже приобрела свой прежний благопристойный вид. – Скоро на Флит-стрит откроется цирюльня.
За окном поднялся ветер, и капли частого дождя ритмично застучали по стеклу.
– Наш очаг, возрожденный из пепла, послужит для тебя маяком! – с надеждой прошептал он, обращаясь к той, кого поклялся отыскать вопреки всему. – И ты вернешься… если еще жива!
* В то время, когда Бенджамин Баркер был сослан на каторгу, смертная казнь за воровство еще не была отменена. Это произошло несколько позже – на заре царствования королевы Виктории (правила Соединённым королевством Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года и до своей смерти 22 января 1901). Однако еще в 1823 в уголовное законодательство были внесены изменения, сделавшие вынесение смертного приговора решением судьи и оставившие его обязательным только для государственной измены и убийства.
** Бидл.
Еще в XVIII веке порядок на своих территориях обеспечивали приходы. Бидли, или приходские надзиратели, выполняли административные функции.
*** Отлив - металлическая или пластиковая планка, которую устанавливают с внешней части здания на нижнюю часть оконного проёма, для защиты от воды.
Глава 10. СНОВА В ЗАПАДНЕ
Джоанну разбудило ощущение тепла – спокойного и благодатного, неуловимо легкого, как воздух. Еще не открывая глаз, она почти увидела сквозь веки золотистый лучик солнца, нежно коснувшийся ее щеки. Просыпаясь, девушка без труда вспомнила, где она: совсем недавно для нее началась иная, неведомая ранее – простая, но такая волнующая жизнь. В роскошном и величественном особняке судьи солнце никогда не заглядывало в ее комнату, словно боясь нарушить какой-то неписаный закон. Солнце?.. Ах, неужели она проспала? Отец, должно быть, уже встал! Джоанна с беспокойством подозревала, что он почти не спит: порою по ночам на чердаке под тяжестью шагов скрипели половицы. Сегодня ей хотелось подняться как можно раньше, побежать к миссис Ловетт и самой приготовить ему завтрак! Ведь так приятно и так просто заботиться о близком человеке. Джоанна даже и не помышляла, сколько нерастраченной любви и нежности с самого детства дремало в ее чутком, но одиноком сердце!
Где-то на городских часах мелодично прозвонило семь: еще не поздно! Тихонько напевая, Джоанна выскользнула из-под одеяла и начала торопливо одеваться. Светло-серое шелковое платье, подаренное миссис Ловетт, было ей немного велико, и приходилось до конца затягивать шнуровку, чтобы оно сидело как влитое. Но в нем Джоанна чувствовала себя бодро и легко – точно крылья распахнулись за ее спиной. Больше нет нужды просить о помощи, чтобы одеться поутру: ведь она не кукла, а живой, свободный человек! Замысловатая прическа уже не прячет красоты ее сияющих волос: ни острых шпилек, ни жемчужных нитей. Джоанна аккуратно завязала лентой несколько непослушных прядей и бесшумно, словно ветерок, выпорхнула из комнатки.
Миссис Ловетт уже хлопотала на кухне: вчера ей посчастливилось недорого купить вполне съедобные продукты, и нужно было поскорее приготовить утреннюю порцию пирогов. Сегодня открывается цирюльня Суини Тодда, а стало быть, и в пирожковую заглянут посетители! Теперь гостеприимная любезность, ну и порядок, чистота, насколько это достижимо, вновь обретали смысл для женщины, спасенной от рутины одиночества. Ах, Боже мой, еще ей надо непременно быть красивой, найти свой собственный, неповторимый стиль! На это, как назло, почти не остается времени. Пара дней титанически упорного труда, чтобы помочь Суини превратить в опрятную цирюльню сумрачное царство крыс и пауков. Затем – отчистить масляные пятна десятилетней давности с так называемых полотен безвестных живописцев, отбелить и накрахмалить еще прочные льняные скатерти, случайно залежавшиеся в старом сундуке… Всецело поглощенная домашними заботами, перерастающими в грандиозные стратегические планы, Нелли даже подзабыла, как выглядит она сама. «Да уж, представляю я: волосы в изящно-небрежном беспорядке, драматические тени вокруг глаз, и в довершение портрета новый штрих – сияющая радостью улыбка! Пускай причина этой небывалой радости известна только ей, но если так пойдет и дальше, скоро весь Лондон с восхищением заговорит о знаменитой цирюльне Суини Тодда и… разумеется, о пирожковой миссис Ловетт! Нелли никогда себе не льстила, но и сдаваться ни за что не собиралась. Она так долго тосковала, словно в забытьи – отныне нужно жить, на самом деле жить!
– Доброе утро! – Звонкий детский голосок вернул ее обратно на суетную землю.
– Ах, мисс Джоанна, вы напугали меня! – Нелли непроизвольно поправила прическу и образцово-чистый нарядный фартук. – Доброе, доброе – искренне хочется верить!
– Прошу вас, миссис Ловетт, зовите меня просто Джоанной! – смущенно улыбнулась девушка. – Ведь мы знаем друг друга уже несколько дней и так много сделали вместе!
– Ну, тогда не называй меня больше «миссис Ловетт» – для тебя я просто Нелли, хорошо? – И хозяйка дружески протянула ей ладонь, белую от муки.
Скрепив рукопожатием сей договор, они, недолго думая, занялись начинкой пирогов, аккуратно выстроенных вдоль стола, как солдаты на смотру. Временами в кухне раздавались тихие испуганные возгласы, а в ответ – пояснения и мудрые советы, вроде: «Не бойся: это всего лишь таракан – последний в доме!» или «Для повара, хоть у печи и жарко, нет ничего важнее… рукавиц!». Так незаметно пролетело полчаса.
Первые бойцы слепленной из теста армии с четью выиграли битву и теперь гордо красовались в подрумяненных мундирах на широком блюде. Нелли выбрала один пирог – для Суини, самый аппетитный, и, наполнив чашку ароматным чаем, подала Джоанне на подносе.
– Ну, давай! Иди, расскажи отцу, чему ты научилась, – шутливо улыбнулась она с видом заговорщика и чуть слышно вздохнула.
Сказать по правде, Нелли и сама не прочь была навестить своего нового жильца, но, увы, приходилось идти на жертвы. Беседы с дочерью непременно отвлекут Суини от мрачных мыслей, одолевающих его, словно коварная болезнь. Ах, мистер Ти, чего только не сделаешь ради одной твоей улыбки, такой редкой!.. Кстати, как родилось это волнующее словосочетание – «мистер Ти»?.. Должно быть, это крохотная искорка ее горячей трепетной любви, готовая вот-вот неосторожно вырваться наружу!.. А почему бы нет – звучит вполне пристойно и невинно… Надо будет обязательно заглянуть к нему попозже: у нее имеется великолепный повод – целая стопка свежих, благоухающих лавандой простынок для бритья!
Держа в руках поднос, Джоанна медленно, чтобы не расплескался чай, поднялась по узенькой внутренней лестнице в цирюльню Тодда. Для посетителей была другая лестница – на улице. Слегка толкнув незапертую дверь, девушка тихонько позвала его:
– Отец… папа, ты спишь?..
В комнате послышались быстрые шаги, и Суини появился на пороге:
– Конечно, нет – входи, Джоанна. – Он с растроганной улыбкой принял из рук дочери поднос и поставил на маленький столик у стены. Как много лет никто, кроме бедняги Тома, не заботился о нем! Сопереживание способно искупить все заблуждения и ошибки человека, а дарить внимание и теплоту другим – самый верный путь навстречу счастью.
Джоанна с беспокойством взглянула на отца: губы улыбаются, а в глазах – неизлечимая тоска, и снова веки покраснели от бессонницы. Он мужественно прятал, свежие раны своей тонкой, чувствительной души, постепенно собираясь с силами. Чего ему это стоило!
– Посмотри, – Суини с гордостью окинул взглядом новую цирюльню. – Сегодня можно приступать к работе, и, если повезет, недели через две легенда о зловещих призраках будет полностью развенчана!
Запущенная, выстывшая комната и в самом деле удивительно преобразилась: огромное наклонное окно стало прозрачно-чистым, как будто в нем и не было стекла, а в воздухе царила атмосфера обогретого жилья. Все выглядело, хоть и скромно, но опрятно. Обои аккуратно подклеили на место, у стены появилось высокое трюмо, а напротив – кожаное кресло для клиентов, оставшееся после того самого бедолаги Альберта. Узкая кровать в углу за ширмой, пара сундуков и железная цилиндрическая печь довершали обстановку.
Суини мягко взял руки дочери в свои.
– Ты привыкла к жизни в богатом доме, здесь тебе многого будет не хватать, – с легкой грустью промолвил он.
– Я никогда еще не была так счастлива! – с улыбкою призналась ему Джоанна. – Только теперь я поняла, чего мне не хватало столько лет. – Кто это? – спросила она вдруг, заметив на комоде небольшой портрет в изящной деревянной рамке.
Молодая женщина в белом капоре ласково прижимала к себе золотоволосого младенца. Ее необычайно ясные глаза, казалось, излучали свет, как летнее безоблачное небо. Девически округлое лицо дышало тихой радостью, а губы игриво напевали колыбельную. Эта чудесная картина словно не была ограничена оправой: где-то рядом, напротив, незримо присутствовал кто-то еще – без него не смеялись бы голубые глаза, вмиг исчезло бы ощущение волшебства.
Джоанна никогда не видела таких волнующе-живых портретов – только застывшие в безмолвии, холодные и отрешенные.
– Это мама? – догадалась девушка.
Тодд печально кивнул головой.
– Вы вдвоем помогли мне выжить и вернуться. – В его голосе звучало столько нежности, что она заглушила даже боль тоски.
– Знаешь, – с робкой надеждой произнесла Джоанна, – вчера вечером я кое-что вспомнила. В детстве за мной ухаживала только няня; я не задумывалась, почему кроме нее некому было рассказать мне сказку на ночь или просто прошептать слова любви. Но однажды во время прогулки, возле дома, ко мне подбежала незнакомая женщина, бедно одетая, с разметавшимися светлыми волосами. Плача, она звала меня по имени и обняла так крепко, как никто ни разу не обнимал. Внезапно на пороге показался мистер Торпин и он… прогнал ее! Я уверена: это была мама. Значит, она жива!
На мгновение лицо Суини прояснилось. Джоанна заметила, как от волнения приоткрылись его губы и заблестели темные глаза, но он молчал, будто опасаясь обманчивой иллюзии.
– Да, – проговорил он наконец, отгоняя прочь сомнения. – Пока никто не видел ее могилы, она жива!
– Поешь, – спохватилась Джоанна, – завтрак уже остывает.
– А ты? – спросил Суини.
Как глубоко порой уходит он в себя, но никогда не забывает о других! Джоанна смущенно улыбнулась: увлеченная приятными заботами, она даже не притронулась к еде.
Неожиданно на лестнице со стороны улицы раздались быстрые шаги: кто-то стремительно взбежал наверх, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Дверь в цирюльню шумно распахнулась, точно от порыва ветра, и на пороге появился растрепанный светловолосый юноша в одежде моряка.
– Мистер Тодд! – выпалил Энтони, едва переводя дыхание и, оглядевшись, растерянно уставился на девушку.
Отметая скучные условности, лишние между близкими товарищами, он обычно без предупреждения вбегал в их общую каюту на корабле. Ну почему ты так и не научился стучаться, Энтони?!..
– Простите, – начал было он, слегка потупившись под строгим взглядом Тодда. – Я лишь хотел проведать вас, узнать, как вы устроились…
– Ну что ж, входи! – Дружески положив руку на плечо своего гостя, Суини подвел его к креслу и, явно не без труда, усадил.
– Я собирался заглянуть к вам раньше, но мать с отцом так радостно встретили меня, что я долго не решался их покинуть. Представляете, вчера мы даже прогулялись по Гайд-парку! Мой-то отец – и на прогулке! Да его штурмом не выгонишь из дома! Когда-нибудь я обязательно вас познакомлю, – возбужденно рассказывал Энтони, часто моргая светло-голубыми, с веселой искоркой, глазами. Неугомонный по натуре, молодой моряк просто не способен был спокойно усидеть на месте, как будто судно танцевало на волнах под его ногами. Он привстал и машинально повернулся в сторону Джоанны – а слушает ли его юная леди? И, заметив, что слушает, отдышался немного и продолжал: – Меня зовут Энтони Хоуп, мы вместе с мистером Тоддом были матросами на бриге «Виктория»…
Видя, что парень ожидает в ответ услышать ее имя, Джоанна вопросительно взглянула на отца. Мгновение Суини колебался: сумеет ли его товарищ сохранить секрет, не выронит ли ненароком, словно чашку из рук? Ведь молодость порою так неосторожна и доверчива…
– Послушай внимательно, Энтони. – Тодд снова усадил его на место, подчеркивая этим всю серьезность разговора. – Никто не должен знать, что эта девушка живет здесь, понимаешь? Она в опасности. И очень дорога мне, – многозначительно прибавил он, пристально глядя на моряка.
– В опасности? – повторил с тревогой Энтони. В героическом порыве, свойственном отважным и пылким душам, он готов был, не раздумывая, броситься в сражение с кем угодно, – дьяволом или драконом, – чтобы защитить эту прекрасную, нежную и хрупкую, леди, попавшую в беду. Ему не доставало лишь доспехов и… жизненного опыта. Суини видел юношу насквозь, как чистое прозрачное стекло, но все же повторил вопрос:
– Энтони, ты обещаешь никому не говорить ни слова?
– Конечно, друг мой! – заверил он с восторженной горячностью.
Хоупу явно было очень любопытно, кем же приходится эта таинственная девушка его старшему товарищу, но он благоразумно воздержался от расспросов, только на всякий случай предложил:
– Могу я чем-нибудь помочь вам?
– Пока что нет. Но если нам понадобится помощь, я обязательно сообщу тебе, – с благодарностью ответил Тодд, крепко пожимая руку Энтони.
Юноша просиял от радости: что может быть ценнее доверия и дружбы человека, которым он так восхищался! Несколько добрых пожеланий на прощанье, слегка смущенный полупоклон, и Энтони привычной пружинистой походкой выбежал на улицу.
– Кто это был? – с интересом спросила Джоанна.
– Верный друг – чистая, открытая душа, – с задумчивой улыбкой отозвался Тодд, наблюдая из окна, как он удаляется, то и дело оборачиваясь на ходу.
Что же так привлекло внимание молодого человека – не вывеска ли на фасаде пирожковой?..
Поглядывая то в окошко, то на отца, Джоанна собиралась спросить еще о чем-то, но тут на внешней лестнице снова послышались шаги, на этот раз негромкие, размеренные.
Опасаясь нежелательной встречи с незнакомцем, девушка поспешно выскользнула из цирюльни. Она успела вовремя: через секунду в двери постучался первый клиент.
Прошла неделя. С трудом, но все же верилось, что жизнь старого дома на Флит-стрит, 186 постепенно обретает прежний, хоть и давно забытый, смысл; хмурые тени мало-помалу отступали, освобождая место для живых. Клиенты заходили, клиенты выходили и – небывалый случай! – возвращались вновь. Покинув цирюльню, довольные своим преображением, они шли дальше – мимо двери пирожковой, нарочно чуть приоткрытой и… уловив щекочущий аппетитный запах, попадались в сети миссис Ловетт. Так задумано природой: люди созданы любить себя в полной мере – и снаружи, и внутри. Сперва отличное бритье, а после – сытный, лакомый обед. И со временем сочетать эти два удовольствия именно здесь ненавязчиво стало для многих доброй традицией.
Мастерство Суини Тодда быстро заслужило похвалу и доверие клиентов. Порою, находя предлог, чтобы хоть на минутку заглянуть в цирюльню, Нелли украдкой любовалась его изящными движениями. Кто еще с обычной бритвою в руке мог так походить на художника или артиста? А эти точеные ловкие пальцы – они как будто бы перебирают невидимые струны! Тонкие струны ее души… Ей иногда безумно хочется взлететь и в упоении парить над облаками! Ах, если бы – не в одиночку, а вместе с ним!.. Но это все мечты, мечты, мечты… пока она старательно раскатывает тесто.
Был понедельник. В будний день посетителей сравнительно немного. Если кто и заходит побриться с утра – то лишь те, кому попросту нечем заняться. Либо те, кому делать ничего и не надо: все блага сами падают с неба прямо им в руки. Остальные появляются в пирожковой к обеду, а в цирюльне – ближе к вечеру.
Суини Тодд задумчиво смотрел в окно: прохожие – кто деловито, кто озабоченно – спешили мимо; коляски проезжали изредка, не останавливаясь. Утро было довольно прохладным, и он уже собрался приготовить себе чаю, как вдруг кто-то негромко постучался в цирюльню.
– Входите! – Оставив чайник на разогретой железной печке, Суини распахнул незапертую дверь, любезно пропуская гостя.
Он медленно вошел. Весьма экстравагантный джентльмен в широком голубом плаще с меховым воротником и малиновой подкладкой, похожий одновременно на франта и… на клоуна. Он важно выступал, закинув голову назад, словно напыщенный индюк; по-видимому, пышный бант на шее вдобавок мешал ему дышать. Жеманно отряхнув расшитый галуном рукав, клиент уселся в кресло спиной к цирюльнику, небрежно закинув ногу на ногу.
– Я слышал, вы открыли свое заведение сравнительно недавно, – начал он взыскательным тоном ревизора. – Но молва так красноречиво хвалит ваш талант, что даже я решил зайти побриться!
Это заносчивое и самоуверенное «даже я» невольно настораживало. У Тодда оно вызвало улыбку недоверия.
– Кому же я обязан такой честью? – Тщательно взбив пену, Суини, наконец, приблизился к клиенту. – Но вы прекрасно выбриты… – проговорил он с удивлением.
Тут незнакомец, будто спохватившись, драматически всплеснул руками и неожиданно громко рассмеялся:
– Ах да, простите: забыл представиться. Синьор Адольфо Пирелли, – с нарочито-певучим акцентом произнес он, – и, между прочим, ваш коллега. Меня называют еще цирюльником королей. Но, похоже в Лондоне, на Флит-стрит, появился некий самозваный король цирюльников, который даже начал «похищать» моих клиентов.
– Прошу и вас простить меня, но каждый трудится в меру своих талантов и способностей, – сдержанно отпарировал Суини.
Итальянец не спеша поднялся и направился к трюмо, с любопытством изучая скромное убранство комнатки.
– Так-так, у вас не только руки, но и бритвы золотые, верно?.. А позвольте взглянуть… – Не дожидаясь разрешения, он жадно потянулся к открытому ларцу.
– Из серебра, – коротко поправил его Тодд, не понимая, куда клонит посетитель.
Не раскрывая бритву, Пирелли медленно поднес ее к глазам. Видно было, что затейливый узор на длинных ручках интересует его куда больше безупречной остроты блестящих лезвий. Он взял еще одну, затем еще…
– Танцующие девушки с распущенными косами – великолепная чеканная работа, – задумчиво протянул синьор Адольфо. – Такую бритву приятно держать в руках! – Он перевел подозрительный взгляд на цирюльника. – Все-таки память – удивительная штука: она ведет нас, как ищейка по запутанному следу и, рано или поздно, достигает заветной цели. Забавно! Если бы не бритвы, я ни за что бы не узнал вас! Но есть вещи, которые не меняются – вот это серебро я помню. Когда-то я был подмастерьем… у одного известного цирюльника. Я сидел вот здесь, – он опустился на сундук, стоявший у окна, – и мечтал, что стану таким же искусным брадобреем. Можно сказать, вы меня вдохновили... Мистер Бенджамин Баркер!
Роковое, забытое всеми имя прозвучало негромко, но отчетливо до остроты – словно в притихшем зале стукнул судейский молоток. Устремив пытливый взгляд на собеседника, Пирелли с нескрываемым злорадством ожидал его реакции. Но Тодд не отвечал ему, как будто вовсе не услышал. В то время, как Адольфо произносил свою изобличительную речь, Суини инстинктивно сделал несколько шагов по комнате: не вздрагивать, не замирать на месте, пусть даже пол уходит из-под ног! Один случайный промах – и он окажется в тюрьме, на каторге или на эшафоте, а его дочь – в руках развратного судьи! Но нет, еще не все потеряно: это лишь мелкая ловушка. Стараясь подавить смятение, Тодд лихорадочно искал из нее выход. Главное, не показывать противнику лица, иначе он услышит, о чем ты думаешь! Пирелли видел только его спину на фоне низкого квадратного окошка. Неопределенное и, казалось бы, невозмутимое поведение Суини начинало раздражать его.
– Вас осудили на пожизненную каторгу, – нетерпеливо продолжал Адольфо. – Так что же, срок вышел? Я правильно понял? Вы снова занялись любимым ремеслом – дела идут как нельзя лучше! Только отныне извольте трудиться усерднее, потому что половину заработка вам придется отдавать мне за молчание! – нагло заявил он, почти вплотную подступая к Тодду.
В напряженной тишине слышно было, как в углу на железной печке с шипящим свистом закипает чайник.
Порою страх молниеносно перерастает в негодование и гнев – и вырывается испепеляющим огнем. Таким порывом невозможно управлять.
Пламя уже бежит по фитилю…
«А не хотите ли горячего чайку?!..» – И выведенный из себя затравленный цирюльник в припадке бешенства хватает раскаленный чайник и со всего размаху бьет им по физиономии другого брадобрея в шутовском наряде, а тот, пунцовый, как вареный рак, захлебываясь от истошных воплей, кубарем катится по полу!.. Веселое бы получилось представление – на ярмарке перед толпой зевак. Не хватает лишь красных колпачков с бубенцами да пестрого балагана!
Представив себе эту немыслимую сцену, Суини Тодд почти пришел в себя; слепая ярость уступила место здравому рассудку. Разве может он, словно дикарь, крушить направо и налево всех, кто признает в нем Бенджамина Баркера!.. Прежнего хозяина цирюльни больше нет в живых, и об этом нужно объявить немедленно.
Когда Тодд, наконец, обернулся, на его лице играла непритворная улыбка, в которой не было и тени замешательства.
Пирелли ожидал чего угодно: поначалу, конечно, отпирательства, скрытой паники… а потом, если грозно напомнить про бидла с полицией, – поражения, подчинения, и, как следствие, – легкие до смешного, денежки поплывут ему прямо в руки! Но если твой противник отвечает улыбкой на угрозу, он явно не боится. Да что там, этот Баркер держится с ним так, будто дело выеденного яйца не стоит!
– Неудивительно, что вы меня не помните: мы ни разу не встречались раньше. – В ровном, спокойном голосе Суини сквозили нотки недовольства человека, убежденного в своей бесспорной правоте. – Хотя, возможно, чем-то мы похожи со сводным братом. Были. Он умер на каторге в Австралии. Эти бритвы – единственная память о нем. – Тодд осторожно снял с печи кипящий чайник. – Что касается лично меня, то мои документы в порядке, а вот вашей карьере вряд ли послужит на пользу ложный донос. К тому же вы – вовсе не тот, за кого себя выдаете. Не имея ни малейшего понятия, где находится Италия, вы заметали волосы в лондонской цирюльне, не спорю, вполне престижной, но вам не приходилось брить ни короля, ни даже его шута. Вы сами выдали себя – я этого не знал, «синьор Пирелли»!
Убийственная ирония Тодда превысила все ожидания. Малиновый от возмущения, мнимый итальянец так и стоял бы с бритвами в руках, подобно статуе, но Суини отобрал их и аккуратно положил на место.
– Не беспокойтесь: я никому не расскажу, – заверил Тодд, наклонившись к самому уху собеседника. – И не потребую ни пенни за молчание, – усмехнувшись, прибавил он. Затем чуть громче вежливо спросил: – Подстричься? Или легкий массаж кожи?..
«Королевский цирюльник» неловко мотнул головой, кашлянул, и хотел было что-то изречь, не теряя достоинства… Но битва была полностью проиграна: его как будто окатили кипятком, а после – ледяной водой. Не найдя подходящих итальянских слов, Пирелли колоритно выругался по-английски и, развернувшись на высоких каблуках, поспешно выбежал на воздух. Куда девались его плавные, надменные движения? Из цирюльни выскочил тот самый желторотый сорванец, что некогда прислуживал здесь подмастерьем.
Шаги на лестнице довольно быстро стихли. Оставшись в одиночестве Суини Тодд с глубоким вздохом буквально упал в кресло. Только сейчас, в тишине, он услышал, как сильно стучит его сердце. Сегодня победа досталась ему, но это – лишь первое нападение. Цирюльня на Флит-стрит, серебряные бритвы, сама его профессия – все вместе, связанное неразрывной нитью, выводит на запутанный, но неизгладимый след Бенджамина Баркера! В любой момент ловушка может намертво захлопнуться: не каждый явится заранее предупредить о своем намерении заявить в полицию. А потерять свободу или жизнь для него – все равно, что бросить свою дочь на произвол судьбы!
Решение было одно, и Суини принял его незамедлительно. Быстро поднявшись с кресла, он запер входную дверь на ключ и направился в пирожковую миссис Ловетт.
– Горячие – только что из печки! – Нелли с сияющим видом завернула в салфетку пару утренних пирогов, подавая их первым покупателям. Две пожилые леди с улыбками переглянулись, вдыхая аппетитный запах свежей выпечки.
– Вы и впрямь научились чудесно готовить, – с искренним восхищением заметила одна из дам. – Откуда столько вдохновения?
– С неба, как известно! – шутливо пояснила миссис Ловетт, заботливо скрывая свой истинный секрет.
Все, как и должно быть, а кажется чудом. «Научилась готовить» – ну где это видано! Счастье и впрямь упало для нее с небес… Что, еще покупатель? Нелли живо обернулась на звон колокольчика.
Ах! Пускай мясные пироги превратятся в сухари, лишенные начинки, а посетители, как раньше, позабудут эту дверь – все кроме одного, которому нет дела до ее гастрономических изысков, она согласна, если это будет он! Не важно, Бенджамин или мистер Ти. Но почему он вдруг остановился на пороге, словно не узнал ее? Как и тогда, в первый день своего возвращения? Или просто не верит, что перед ним – та самая, прежняя Нелли?..
Она невольно отряхнула шелковый подол и бегло заглянула в зеркало, висевшее напротив. Новое синее платье, – в кои-то веки за последние годы! – белый передник с оборками, красное кружево декольте – все было при ней. Густые рыжевато-каштановые волосы длинными тонкими завитками падают ей на плечи – наконец-то миссис Ловетт добралась до своей прически! Немного бледная и тени под глазами, но зато она похожа на него!..
Плотно затворив за собой входную дверь, Суини с беспокойством осмотрелся.
– Мы здесь одни? – на всякий случай спросил он.
– Конечно. Совершенно. – Заинтригованная, Нелли поспешно отложила миску с фаршем, как будто та могла им помешать.
– Миссис Ловетт, – начал Тодд, присаживаясь рядом, у прилавка, – я должен кое-что сказать вам.
Смущенная таким серьезным предисловием, Нелли невольно встрепенулась: «Что, любовь моя?», а вслух как можно спокойнее ответила:
– Слушаю, мистер Ти.
– Только что у меня был странный посетитель, – сообщил он, понизив голос.
Его тревога передалась ей, точно электрический разряд.
– А – этот скоморох Пирелли? По воскресеньям он рекламирует на рынке свой чудо-эликсир от выпадения волос, по запаху похожий на мочу. – Нелл попыталась успокоить себя иронической шуткой. – Я видела его через окно: неужто, заходил побриться?
Тодд отрицательно качнул головой.
– К сожалению, нет, – сказал он. – И визит его был посерьезнее, чем реклама мочи. Пирелли догадался кто я. Мы с дочерью должны покинуть этот дом.
– Как?! – Отказываясь верить словам Суини, Нелл изумленно глядела ему в глаза.
– Я больше не могу здесь оставаться, – подтвердил он без колебаний. – Ради дочери. И ради вас. Я полагал, что время стерло память о Бенджамине Баркере, а имя Тодда защитит меня от подозрений – но ничего не изменилось! Я – беглый каторжник, и укрывая меня в своем доме, вы ежечасно рискуете свободой.
Свобода, репутация – да какое все это имеет значение: она готова сотни раз рискнуть собой ради него!.. Ах, ну зачем она позволила себе мечтать?! Украдкою лелеять хрупкую, но такую смелую надежду, что спокойно и счастливо они заживут здесь втроем, и так будет всегда… А теперь он уйдет – и все кончится, оборвется в один миг!
– Когда же? – вымолвила она только.
– Немедленно, – последовал ответ.
Нелли тихо опустила голову на руки. Да, ты прав – уезжай! Господи, какая она глупая: любящая женщина сама попросила бы его об этом!
Растроганный печалью Нелл, Суини подошел к ней ближе, и она почувствовала, как его ладони мягко легли на ее плечи.
– Послушайте, миссис Ловетт, я жестоко ошибся, считая себя неузнаваемым, а значит, и неуязвимым. Целых пятнадцать лет я находился там, где заботиться о внешности нет ни сил, ни смысла. Можно сказать, я вообще не видел своего лица. Вырвавшись, наконец, на волю, я посмотрел на себя в зеркало – и словно встретил незнакомого мне человека! Убежденный, что родился заново, я посмел занять свое прежнее, неприметное и скромное, место в жизни и едва не попался в западню. Ведь все, что окружало Бенджамина Баркера, выдает меня с головой! Этот лже-итальянец, Адольфо Пирелли, узнал мои бритвы и пытался шантажировать. Сегодня мне поистине каким-то чудом удалось сбить его с толку и выставить за дверь. Но завтра или через пару дней он может заявиться снова: мошенники и шарлатаны вроде него так просто не упустят легкий хлеб.
Нелл понимающе взглянула на Тодда и молча кивнула. Теплое прикосновение его рук понемногу возвращало ей самообладание и силы.
– Вы побледнели... Вам нехорошо? – спросил Суини, наклонившись к ней.
Нелли невольно вздрогнула. Так необычно ощущать его ладони на своих плечах и, не произнося ни слова, смотреть в глубокие темные глаза… забыв, что время убегает, как река.
– Все в порядке, – ответила она и улыбнулась.
– Помогите, пожалуйста, поскорее собрать наши вещи, – попросил ее Тодд. – А я пока предупрежу Джоанну. – И, отпустив миссис Ловетт, он торопливо направился к внутренней двери.
Пока, ошеломленная неожиданным известием, Джоанна наспех расспрашивала о подробностях отца, Нелли не без труда отыскала среди старого, потрепанного барахла довольно объемный чемодан. Подумать только – тот самый, что она давным-давно привезла в этот дом после свадьбы! Она взяла с собой тогда все свои платья, которые так больше и не надевала, даже любимых кукол, заменивших ей детей. Нелли оставила лишь право на мечты. А может, места в чемодане не хватило?.. Практичная и рассудительная, она отказывалась признаваться себе в этом. Хозяин пекарни тогда был богат, он часто дарил ей красивые вещи, гораздо наряднее тех, что скромно дремали на дне чемодана, а после перебрались в сундук. Альберт по-своему, но все-таки любил свою жену. Однако страсти понемногу улеглись: они сменились вредными привычками. Через год после свадьбы он принялся выпивать, а позднее – без удержу пить. Противный, толстый, неуклюжий, лысый пекарь!
И тогда вдруг нежданно-негаданно появляется он, молодой и красивый… и светлый, как ангел – Бенджамин Баркер! И, как назло, с красавицей-женой, супружеская пара ждет младенца… Бенджамин значит «сын южных» – нежный, теплый и ласковый. Он убежден, что если существует идеал, то каждый должен искренне стремится его достичь. Способный полюбить весь мир, он осуждает жадность и порок. Рядом с ним в душе рождается восторженное, смелое желание превзойти себя. Глядя на этого необычайно привлекательного человека, Нелл с горечью осознавала, что он непоправимо, безнадежно поздно появился в ее жизни. Ах, как она завидовала Люси: красива, молода, по-настоящему любима, она вот-вот познает радость материнства!..
Но счастье Бенджамина было безжалостно растоптано: он не достался ни одной из них. Тогда, заранее почувствовав угрозу, Нелли сама просила, умоляла его уехать!
«Ну почему я опоздала?!..» – в который раз казнила себя миссис Ловетт между тем, как ее руки машинально складывали вещи: пара платьев для Джоанны, рубашки Тодда, шкатулка с бритвами… что-то еще… Нужно обязательно упаковать и то злополучное колье: в случае нужды его можно дорого продать. Только лучше по частям…
– Я не позволю снова отнять у меня дочь… Не могу ею рисковать, – напряженно повторял Суини, надевая плащ, пока Джоанна торопливо завязывала ленты капора.
Плотно застегивая замки на чемодане, Нелли ловила себя на мысли, что, возможно, больше не услышит этот бархатный глубокий голос, от которого так радостно трепетало ее сердце. На ходу Суини, кажется, прибавил, что не покинет Лондон, пока есть хоть малейшая надежда разыскать его жену. Ей стало немного легче. Но наравне с отчаянным протестом неминуемой разлуке в груди ее щемило от пронзительно-тревожного предчувствия беды. Подсознательные импульсы не лгут – это отголоски приближающейся бури. Но что может она посоветовать мистеру Ти?..
– Подожди меня здесь, я поймаю экипаж, – попросил Джоанну Тодд.
Миссис Ловетт и опомниться не успела, как они уже стояли у дверей. Нелл умоляюще взглянула на Суини:
– Дайте мне знать о себе… Я буду ждать.
– Хорошо. – Он кивнул и уже приоткрыл было дверь. Затем вдруг быстро обернулся и протянул ей руку:
– Вы искренний, бесценный друг. Я никогда вас не забуду, Нелли, – горячо шепнул он ей с улыбкой, от которой у нее на глаза навернулись слезы, крепко пожал ее пальцы… и вышел, оставив их наедине с Джоанной.
Девушка что-то говорит на прощание, подбадривает, благодарит. И Нелли ласково целует ее в лоб, укутывая в теплую накидку, а сердце ее гулким эхом повторяет одно единственное слово «Друг…».
И вот они уже на улице: два силуэта уплывают как в тумане. Садятся в экипаж, Суини плотно закрывает дверцу… И вскоре карета скрывается за поворотом.
Настало время пробудиться ото сна. А может, просто ей снова снится одиночество?.. Со вздохом миссис Ловетт отходит от окна. Ах, Нелли, тебе надо получше вымыть стекла! Или что-то попало в глаза?..
.jpg)
То и дело подскакивая на неровных камнях мостовой, через пару минут экипаж повернул на соседнюю улицу. Флит-стрит осталась позади, а вместе с нею – прежний мир изгнанника Бенджамина Баркера, где едва успел затеплиться очаг. Но незримые связующие нити сохранятся глубоко в его душе: их не способно разорвать ни расстояние, ни время, ни ложный приговор. И если существует справедливость, ему удастся снова накрепко соединить все части разбившегося целого: он больше не один, с ним рядом его дочь!
Тревога Тодда постепенно улеглась под мерное покачивание кареты и ритмичное цоканье копыт.
– О чем ты думаешь? – нарушила молчание Джоанна. Впечатлительная по натуре, она все еще не в силах была справиться с волнением. Внезапная угроза, нависшая над ними, затем отъезд, поспешный, точно бегство, а впереди – томительная неопределенность… Где теперь они обретут пристанище?
– Мы едем в противоположный конец Лондона, – ответил Тодд, угадывая ее мысли, там снимем комнату. И скорее всего, мне придется заняться другим ремеслом: так будет безопаснее. Не бойся ничего, главное – верить в свою удачу!..
Стараясь успокоить дочь, он с каждым словом чувствовал себя сильнее. И уверенней, когда улыбался ей. Джоанна ни разу не слышала смеха отца, но от его улыбки, самой ласковой на свете, ей сразу становилось удивительно легко. И если он пообещал, то так и будет…
– Тпррр!.. – донесся раскатистый окрик извозчика, резко осадившего лошадь, и экипаж, качнувшись на рессорах, остановился посреди улицы.
Вздрогнув от неожиданности, Джоанна испуганно ухватилась за руку Тодда.
– Не двигайся, – шепнул он ей и выглянул в окно.
Ничего подозрительного, безразличные лица прохожих, тротуары, дома, фонари…
– В чем дело? – в недоумении спросил Суини, обращаясь к кучеру.
– Какая-то карета встала поперек дороги! – с досадой крикнул тот, указывая перед собой.
Обычный случай. Там, за поворотом – скопление гуляющих зевак, у чьей-нибудь несмазанной телеги сломалось колесо и да мало ли еще что… Все просто – нужно терпеливо подождать. Но неожиданное смутное предчувствие кольнуло сердце Тодда, когда дрожащая рука Джоанны внезапно сжала его пальцы. Предчувствия редко обманывали его, особенно предчувствия беды.
– Эй, ты думаешь проезжать? – раздался сердитый голос извозчика. И тут же позади – короткий зычный окрик:
– Стой!
Чьи-то шаги стремительно и гулко простучали по брусчатой мостовой, и в следующую секунду человек в синем мундире полицейского широко распахнул дверцу экипажа:
– Выходите немедленно: вы арестованы!
Джоанна с тихим вскриком отпрянула назад.
– Оставайся на месте, – почти беззвучно выдохнул Суини, метнув тревожный взгляд на дочь.
– Поторопитесь! – повторил приказ констебль, видя, что Тодд не двигается с места.
За первым полицейским подоспел второй. Рослые, сильные, оба вооружены дубинками. Сопротивление напрасно, и если остается хоть малейшая надежда на ошибку, оно погубит и его и дочь.
Внешне спокойный, Тодд медленно повиновался. Непринужденным взглядом он окинул улицу.
Довольно длинный черный экипаж по-прежнему стоял на их пути. Но из него никто не выходил, только чья-то рука в серой кожаной полуперчатке нетерпеливо теребила занавески. Пристально вглядываясь в темное окошко, Суини тщетно пытался разглядеть лицо.
Инстинкт подсказывал ему, что это черное препятствие возникло не случайно. Но кто же приказал его арестовать? Пирелли? Вряд ли. Этим шарлатаном правила скорее жажда личной выгоды, чем побуждение служить закону – он бы не стал так торопиться. У Пирелли нет неопровержимых доказательств, а документы на имя Суини Тодда в полном порядке. Бенджамин Баркер, сбежавший с каторги – нелепая фантазия уличного клоуна, и нужно действовать, как будто это так и есть!
А тем временем из черной кареты выбирается низенький плотный субъект. Неуклюжей походкой он, словно прогуливаясь, не спеша направляется к ним. Довольно длинные и жидкие седые волосы, рыхлое обрюзгшее лицо, небрежные жеманные манеры… И та же, что и много лет назад, елейная самодовольная ухмылка! Суини ощутил, как все внутри него похолодело. Бидл Бэмфорд!.. Бэмфорд – человек судьи. Бэмфорд, заманивший его жену в ловушку, которая привела ее к гибели! И сегодня он снова встает перед ним, чтобы окончательно, жестоко уничтожить!
Но узкие пронзительные глазки бидла смотрят не на Тодда: их цепкий взгляд с каким-то хищным любопытством устремляется вглубь экипажа позади него. Джоанна!..
Кто бы мог предугадать, что их пути пересекутся так внезапно? Всего лишь несколько шагов, от пирожковой до кареты – и эта пара вездесущих недобрых глаз по воле роковой случайности подстерегла ее. Каким-то ветром, ровно в этот час, пристава занесло на Флит-стрит! Какая тайная невидимая сила подтолкнула его, небрежно откинув занавеску, выглянуть наружу в тот самый миг, когда Суини с дочерью переходили улицу? Не собирался ли он вдруг, забавы ради, зайти побриться в новую цирюльню или отведать аппетитных пирогов? Судьба, словно капризное дитя, играет нами и порой непроизвольно разбивает, выпустив из рук.
«Блюстителю морали и порядка» лишь оставалось сделать свое дело, и пара полицейских, как нельзя кстати, оказалась под рукой. Бледный, скромно одетый джентльмен рядом с девушкой никого не напомнил Бэмфорду. Он видел Баркера лишь мельком, да и с чего он должен помнить этого мальчишку?.. Другое дело – подопечная судьи.
– Мисс Джоанна Баркер, – с нарочито любезным видом изрекает бидл, – прошу вас пересесть в мою карету. – И, протиснувшись в узкий проем распахнутой дверцы, тянется к девушке.
– Она ни в чем не виновата! – Забыв об осторожности, Тодд ухватил его за ворот и с силой оттащил назад, заставив повернуться к себе лицом.
Толстяк закашлялся и отступил на шаг. Брезгливо отряхнув жабо из тонких кружев, он смерил незнакомца гневным взглядом. Какого черта он сует свой нос куда не нужно?
– Не вмешивайтесь! – процедил сквозь зубы Бэмфорд.
Суини крепко стиснул его руку и заслонил собою дочь:
– Она не виновата! – повторил он.
– Бесспорно. – Пристав плотоядно ухмыльнулся. – Ее похищение – всецело ваша вина. Арестовать его немедленно! – приказал он полицейским.
Затем, не обращая внимания на жалобы Джоанны, он насильно извлек ее из кареты и почти поволок за собой.
– Нет!.. Отпустите! Меня никто не похищал!.. – Звонкий отчаянный голос врезается в сердце Суини.
Тщетно пытаясь вырваться, Джоанна поскользнулась на мокрой мостовой, но Бэмфорд подхватил ее на руки, не дав упасть, и, пробираясь сквозь толпу зевак, понес к своей катере. Капор сбился с ее головы, золотистые волосы разметались на ветру. Еще секунда, и она исчезнет в экипаже… Как Люси!.. Это Бэмфорд увез ее в самое логово ненасытного дикого зверя, пообещав ей помощь и защиту! Все тот же бидл Бэмфорд предательски поднес ей зелье, которое лишило ее сил!..
– Мерзавец! – Суини яростно рванулся из крепко обхвативших его рук, не замечая, как наручники впились в его запястья. – Не смейте! – Боль негодования сжимает ему горло подобно затянувшейся петле.
Поздно! Черная дверца со стуком захлопнулась.
– Трогай! – доносится из экипажа.
Свист кнута, ржанье лошадей, стук копыт… чей-то испуганный возглас, приглушенный гомон толпы.
Тодд замер, словно перед каменной стеной. Необъяснимое оцепенение сковало его тело. И только мысль неистово стучит в его висках: он ничего не может сделать!
Тупой удар дубинки по спине сбивает его с ног, и вслед за тем – нетерпеливый окрик:
– Встать!
Подняв с земли, констебли грубо тащат Суини прочь, но, непокорно вскинув голову, он успевает обернуться.
Еще удар – и черная карета бесследно исчезает в звенящей темноте…

Нелли задумчиво остановилась у прилавка. Тепло печи, потрескивает пламя; уют и аппетитный аромат… На вид все хорошо – чего еще желать? Но только без него. Короткие два слова, которые так больно повторять… Бенджамин с дочерью едва успели покинуть этот дом, а ей уже не по себе, как будто отняли часть ее сердца.
«Ну что ты, Нелл? Приди в себя!» Она небрежно помешала что-то в миске, добавила щепотку теста. Неплохо. Ей непременно нужно что-то делать! «Вот здесь – яичные желтки, там – пряности… Ты ничего не упустила, Нелли? Сейчас придут голодные клиенты!» – подбодрила себя миссис Ловетт.
Она попробовала пальцем вишневый джем, и, так и не почувствовав его насыщенного вкуса, машинально начала раскатывать мягкое, податливое тесто. Пять, десять… еще пять минут без него – время тянется и время летит. Порою говорят, что оно даже лечит. Время – деньги. «Да кто эту глупость сморозил?!» Чуть слышно скрипнуло под самым потолком, и Нелли встрепенулась, как будто услыхала знакомые шаги. Там наверху – лишь опустевшая цирюльня... «Это старое дерево не дает мне покоя – постоянно о чем-то скулит!» – пробормотала со вздохом Нелли.
У входа как-то странно отрывисто брякнул колокольчик. Кто бы это мог быть?
– Простите, мэм, позвольте мне войти… – раздался приглушенный низкий голос.
В просвете приоткрывшейся двери показался темный силуэт. В недоумении миссис Ловетт наблюдала, как незнакомый человек в плаще с широким капюшоном несет обратно в дом тот самый чемодан, который она с таким усердием собрала всего четверть часа назад.
– Что это значит? – Широко раскрыв глаза, Нелли уставилась на вошедшего.
– Арестовали его, мэм, – проговорил извозчик, словно оправдываясь. – А девушка… какой-то джентльмен увез ее в своей карете.
Он аккуратно поставил на пол чемодан у ног миссис Ловетт:
– Вот, все как есть – чужого мне не надо. – И, почтительно поклонившись, направился к выходу.
Застыв на месте, точно громом пораженная, Нелли растерянно смотрела, как он уходит. Одна-единственная мысль, непостижимая уму, надрывным эхом стучала у нее в висках: «Его арестовали…»
Опомнившись, она догнала кучера уже у самой двери:
– Арестовали – но за что? – Нелли буквально вцепилась в его руку, пытливо заглядывая в глаза. Как будто он мог знать!..
– Да вроде как за похищенье юной леди, что с ним была, – мужчина неопределенно пожал плечами. – Мне нужно идти, мэм. Позвольте откланяться.
Он вышел. Нелли снова осталась наедине с собой.
В одну секунду мир перевернулся и погрузился в тусклый полумрак; ей показалось, что она вот-вот лишится чувств. Миссис Ловетт поспешно опустилась на скамью. Нелл, не в твоих привычках падать в обморок от страха, пусть даже этот страх на грани паники! Нет, она не вправе отдыхать, лежа в забытьи! Пошатываясь, Нелли кое-как добралась до прилавка. Торопливо достала бутылку и дрожащими пальцами вынула пробку. Всего лишь несколько глотков, и обжигающая влага согрела ее тело живительным теплом. Ускользающий мир возвратился на место.
Миссис Ловетт прошлась по пустой пирожковой, тщетно пытаясь собраться с мыслями. Десятки беспорядочных вопросов метались в ее взбудораженном мозгу.
Было ясно одно: кто-то выследил их. Но кто же? Пока Суини Тодда обвиняют лишь в похищении… А если его узнали?.. Узнают? А вдруг… Пирелли! Об этом Нелл боялась даже думать. Побег из каторжной колонии и похищение приемной дочери судьи – его казнят! И Торпин, торжествуя, сам подпишет приговор!
– Нет, это не Пирелли! – крикнула Нелл, отчаянно сжимая кулаки.
Она не сможет больше оставаться в неведении, сидеть на месте, сложа руки и безутешно плакать у окна без всякой пользы, как Люси! Нелли прекрасно помнила дорогу до ближайшего полицейского участка. Прежде, чем посадить в тюрьму, Тодда доставят именно туда. Она должна немедленно его увидеть – любой ценой! Возможно, вместе им удастся найти выход.
Сорвав дурацкий накрахмаленный передник, Нелли бросилась в комнату одеваться. Смятение мешало ей здраво размышлять, но, тем не менее, одна настойчивая мысль перед уходом привела ее в кладовку. Откинув деревянную запыленную крышку, Нелли быстро просунула руку в ящик с инструментами…
Не глядя под ноги, она промчалась несколько кварталов. В висках неистово стучало, дыхание срывалось, сырой пронизывающий ветер дул в лицо… Неважно! Она стремительно бежала, как безумная, по самой середине мостовой. Под ногами чавкала дождевая грязь, а ботинки вымокли насквозь. На крутом повороте чья-то лошадь с пронзительным ржанием взвилась на дыбы, и Нелл едва не угодила под копыта. Наездник громко выругался вслед. Пускай! Прижав к груди забрызганный подол, она поспешно скрылась за углом.
«А если меня тоже арестуют – за укрывательство?» – мелькнула неожиданная мысль, но ноги сами упрямо несли ее вперед. Вот и участок: стертые, потрескавшиеся ступеньки, сводчатая каменная арка, дубовая двустворчатая дверь с решетчатым окошком. «Остановись, обдумай все как следует!» – подсказывает разум. «Некогда!» – Нелли торопливо поднимается по лестнице, отбросив осторожность, как лишний, бесполезный груз.
– Не велено к нему пускать. Вам ясно? – сухо отрезал пожилой сержант, услышав ее сбивчивую просьбу и с безразличным видом отвернулся.
– Но… – от волненья Нелл не находила слов. Негодование пришло на смену страху. Она готова была впиться в его руку и что есть силы потрясти: он должен ей хоть что-нибудь ответить!
Где-то за поворотом коридора с лязгом отворилась дверь. Из темноты доносятся тяжелые шаги, и полицейский, как бы нехотя, бросает ей через плечо:
– Арестованного переводят в ближайшую тюрьму.
Нелл замерла на месте: «Не успела!».
Она невольно напряглась и, затаив дыхание, уставилась во тьму. Сердце ее болезненно сжалось, когда она увидела Суини под конвоем полицейских: одежда в беспорядке, рукав оторван, а у виска засохла струйка крови… Быстрый взгляд ей в глаза – и он тотчас же опускает веки, словно боится ее выдать. И это все!.. Нет, Нелли, ты так просто не сдаешься!
И тут отчаянная мысль приходит ей на помощь. Она отталкивает коренастого сержанта – откуда только у нее берутся силы? – и, бросившись навстречу арестованному, с разбегу падает к его ногам, запутавшись в подоле длинной юбки.
За спиной раздается резкий окрик, полицейский порывисто поднимает ее. Скорее чтобы оттащить от заключенного: чужая боль здесь не заботит никого. Но перед тем ее рука, ловко проскользнув под штанину брюк, незаметно просунула нечто холодное и твердое в ботинок Суини. Готово! Охрана выводит его прочь.
– За что его арестовали? – упрямо спрашивает Нелл, для виду отряхивая платье.
– За похищение, – последовал ответ, а взгляд сержанта откровенно говорил: «Эта настырная, суматошная леди просто невыносима!»
У Нелли отлегло от сердца.
– И только? – со вздохом облегчения воскликнула она.
– А по-вашему, это пустяк? – раздраженно прикрикнул полицейский. – Балаган тут устроили! Уходите немедленно!
Но миссис Ловетт не дослушала. Зачем ей эта недовольная тирада, когда она уже узнала все, что нужно? Пара секунд – и за нею захлопнулась дверь.
Дело сделано! Если напильник, не дай Бог не отберут, Суини найдет ему применение. Теперь ей остается только ждать…
Глава 11. ЦЕНОЙ СВОБОДЫ
– Ну вот – вы снова возвратились в этот дом. Я не сомневался, что в итоге так и будет, мисс! Ни на минуту. – Торпин словно выступает перед публикой – как всегда надменный, чопорный, с полным сознанием своей бесспорной правоты. Всем своим видом он как будто заявляет: «Вы обманули мое глубокое доверие, а ваш поступок – верх неблагодарности!». Поступки Торпина не в счет: ведь он – судья. Всегда судья, и никогда не подсудимый! Чтобы не видеть этой маски, скрывающей убогий лик порока, Джоанна молча смотрит на ковер. Теперь он больше не заставит ее вздрогнуть и не смутит своим испытующим взглядом. Его напыщенность лишь вызывает приступ тошноты. Когда-то, много лет назад, тот самый Торпин, не колеблясь, обвинил ее отца. Он с легкостью исполнил свою роль: ораторствовал также убежденно, держался также уверенно, подписал приговор невиновному и отвернулся, зевая в надушенный платок, не глядя, как он гибнет!..
– Я посвятил вам годы жизни. Я воспитал вас, как подобает леди!..
Джоанна медленно обводит взором комнату. Да, она снова очутилась тут. В той самой комнате, что столько лет была ее единственным убежищем, где в одиночестве она могла мечтать и видеть сны. Раньше ей казалось, что за пределами этого мрачного, похожего на крепость дома с его величественной роскошью, не существует ничего, но это было заблуждение! Зачем теперь ей золотая клетка, когда есть крылья и целый мир, чтобы летать?! Ее воспитывали в бесконечной лжи: почти подкидыш, сирота – ребенок ниоткуда… Так не бывает: все равно какая-то история да существует! Но Торпин даже не придумал объяснений, он просто скрыл чудовищную правду, похоронив ее под пеплом времени.
– …и леди не предаст, – доносится далекий хрипловатый голос.
Как может человек, погрязший во грехе, судить других?! Насквозь прогнивший, чуждый милосердию! Он порочней последнего вора. Голодный уличный мальчишка ворует жалкий пенни, чтобы выжить, в то время как его судья ворует жизни!
– Джентльмен не преследует леди, не пытается запугать ее, чтобы силой добиться своего! – Вскинув голову, Джоанна с неожиданным вызовом посмотрела на Торпина.
Она уже не та застенчивая девочка, что верит сказкам и цветистым фразам. Скрытая в ней сила внезапно вырвалась наружу, и сам судья почувствовал ее. И этой силой он не сможет управлять. Застигнутый врасплох, Торпин в замешательстве отходит в сторону.
– Возможно, я немного напугал вас, не спорю. – Он флегматично оправляет воротник. – Но это не причина выскакивать в окно! В какое положение вы ставите меня перед людьми? Меня – почтенного служителя закона! Разве я могу сказать полиции, что моя воспитанница попросту сбежала от меня?! Оставалось только заявить, что ее похитили!
Так вот в чем дело: ему нужен виноватый! Ради мнения общества и своей безупречной репутации судья придумал собственную версию. И не медля, он начал развивать эту мысль:
– В карете с вами был мужчина – кто он?.. Кто это был? Я спрашиваю, кто? – повысил голос Торпин, устремив на Джоанну пронзительный взгляд.
– Он помог мне, сначала не зная, кто я! А в тот момент, когда его арестовали, он собирался отвезти меня домой!
– Должно быть – сделав огромный крюк!
Джоанна осеклась. Но не время смущенно безмолвствовать. Ей надо было что-то говорить!
– Кроме моих у него были и свои дела! – уверенно парировала она. – Это честный порядочный человек!
– Порядочный? – Судья язвительно прищурился. – А где тогда колье с бриллиантами, которое я подарил вам?
Джоанна не умела лгать, но возмущенье помогло ей это скрыть:
– Оно пропало… Я потеряла его ночью, когда бежала по темным улицам. Был дождь и ветер…
– И его, конечно, сдуло! – Торпин порывисто прошелся по комнате. – В любом случае на мои подарки можете больше не рассчитывать!
– Извольте, сэр, извольте!
– Да вы ли это? Я с трудом вас узнаю! – Судья остановился перед девушкой, разглядывая ее, словно в первый раз увидел.
– Отпустите его: он ни в чем не виновен! – упорно повторяет она.
– Да какое мне дело до этого! Будет суд, и он сядет в тюрьму! Похищение карается строго!
– Как вы можете обвинять его: разве у вас требовали выкуп?
– Я могу доказать все, что угодно! – резко бросил ей Торпин.
О, это она знала хорошо! Глухие стены, крепкие решетки – у судьи разговор короткий. Привычный жест – и препятствие сметено с пути.
Джоанна, пошатнувшись, оперлась на спинку кресла. Мысли обрываются, холодный пот проступает на лбу. История не может повториться! Не во второй раз!.. Комната стала смазанным пятном, а свет – угасающим, неясным бликом. У нее закружилась голова, как будто она снова – у края пропасти…
И неожиданно раздался твердый голос, который показался ей чужим – он вырвался из глубины ее души:
– Если вы освободите его, я стану вашей женой!
– Что? – Широко раскрыв глаза, Торпин пристально смотрит на Джоанну.
– Освободите его – стану вашей женой! – повторяет она, крепко сжимая спинку кресла.
Да это шутка! Или нет?.. Судья смерил девушку подозрительным взглядом: уж не сошла ли она с ума? Но очень скоро недоверие уступило место торжеству. Самодовольная улыбка победителя приоткрыла его тонкие, сухие губы. Разве не так должно было произойти в итоге?
– Да!.. – протянул он, понемногу приходя в себя. – Сегодня вы не перестаете меня удивлять! И откуда такая самоотверженность, позвольте спросить?
– Я никогда не прощу себе, если по моей вине пострадает ни в чем не повинный человек!
В комнате воцарилась тишина. Бесконечно долгие несколько секунд Джоанна, затаив дыханье, слышала только стук своего сердца.
– Что ж, отпущу, – промолвил мистер Торпин со вздохом сожаления и тут же прибавил. – Через несколько дней.
– Но почему же не сегодня? – растерянно воскликнула Джоанна.
– Чтобы полностью быть уверенным в вашем согласии! – нарочито учтиво пояснил он, ни капли не стесняясь своего цинизма. – К тому же мне сказали, что ваш спутник оказал сопротивление и даже грубо оскорбил представителя закона при исполнении обязанностей. Пускай немного поостынет в камере: это послужит ему уроком впредь. Не расстраивайтесь, ждать ему придется совсем недолго: ведь в это воскресенье мы поженимся!
Джоанна не поверила своим ушам. Она надеялась, что подготовка к свадьбе продлится месяц или дольше, а тем временем найдется путь к спасению. Но все ее наивные надежды рухнули: Торпин оказался хитрей нее.
– Так скоро?.. – дрожащим голосом произнесла она.
– А зачем нам ждать? – Судья усмехнулся и небрежно передернул плечами. – Вы сделали правильный выбор, вы дали мне слово. Разве дата что-то меняет?
– Нет, – еле слышно ответила Джоанна и сжала губы.
– Тогда позвольте вас поздравить! – Не скрывая своего торжества, Торпин шагнул к ней навстречу, широко раскрывая объятья.
Джоанна напряглась подобно натянутой струне. Ей стоило нечеловеческих усилий спокойно выдержать прикосновение этих властных рук. Не закричать, не оттолкнуть – иначе все ее старанья бесполезны!
– Я рад, что вы все-таки образумились, моя милая. – Склонившись к лицу невесты, судья на удивленье сдержанно целует ее в щеку, но жадный взгляд красноречиво выдает в нем затаившегося хищника. – Вы так прекрасны, что мне трудно устоять! Я подожду… До воскресенья! А пока что – смените свой наряд. Это серое платье… вы одеты ужасно! Скромная жизнь явно не для вас, – хмыкнув, прибавил он напоследок и направился к выходу: – Я пришлю камеристку.
Джоанна знала, что его непросто обмануть: когда за Торпином закрылась дверь, она услышала, как дважды повернулся ключ в замке. Негромкий стук шагов по коридору – и все стихло.
Теперь она всецело в его власти, и если попытается сбежать, ее отец уже не выйдет из тюрьмы! Он заперт в тесной, темной камере. Сырой, холодной… Приносят ли ему еду?.. При мысли, что ему придется снова пережить весь этот ужас, Джоанна чувствовала, как необоримо-жгучее негодование закипает у нее в груди.
А когда его выпустят на свободу, она станет женой его злейшего врага! Джоанна Торпин! Это имя хуже, чем пятно помойной грязи – это клеймо, печать проклятья на всю жизнь!
Закрыв лицо руками, она бессильно опустилась на ковер. Ее душили отвращение и стыд. На миг перед ее глазами возник украшенный букетами алтарь… Благоухая ладаном, церковь мерцает сотнями свечей, и священник в торжественном облачении произносит возвышенные слова ритуала:
«Клянешься ли ты любить избранника своего в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас?».
Как просто и легко ответить «Да!», когда сердце наполнено искренней радостью, впереди – целый мир, а за спиною крылья! Но вместо этого вопроса ей суждено ответить на другой: чем ты можешь пожертвовать ради того, кого любишь?
Любовь бывает разной: влюбленность, обожание, привязанность. И ни одна из них не предает, не сомневается, не забывает. Любовь – не млечный путь, не чудеса во сне, в действительности это – испытание и жертва. Любовь – это храм, в котором тебя самого нет вообще, ни капельки нет, а есть – только тот, кого любишь!
Закрыв глаза, Джоанна ясно увидела перед собой лицо отца: оно запомнилось ей до малейшей черточки, до самой глубины его души, чуткой, мужественной и такой уязвимой.
Что будет с ней после того, как роковая клятва сорвется с ее губ? Поймет ли отец, простит ли Бог?..
Она невольно опустила руки, но тут же крепко сжала пыльцы в кулаки.
«Ты уберег меня от роковой ошибки. Ты научил не поддаваться слабости и страху. И я не подведу тебя, отец!»
Всего за несколько недолгих дней она успела полюбить его так горячо, как будто знала всю свою жизнь! Он пробудил в ней бесконечное доверие буквально с первого мгновения их встречи, оставил в ней частицу самого себя.
А если бы… Джоанна вздрогнула. А если бы полиция забрала их багаж?.. Тогда бы бегство было налицо: несколько женских платьев, колье с бриллиантами, якобы потерянное где-то в темном переулке, кое-что из одежды ее отца и самая опасная улика – его бритвы! Цирюльник! Едва услышав это слово, судья бы сразу догадался, о ком речь… Но, к счастью, все произошло иначе!
С трудом переводя дыханье, Джоанна понялась с колен. Сердце билось неистово часто, но в глазах ее не было слез.
Если Бог посылает нам испытания, значит, хочет сделать сильнее! Так написано черным по белому в старой повести, стало быть – это правда. Бог видит все. Снаружи и внутри.
Что будет с нею дальше?.. Сейчас она уверена в одном – ей хватит сил дожить до воскресенья, и тогда станет легче на душе. Если только судья не солжет…
– Мне не страшно, – сказала она себе вслух. Как можно увереннее, как можно спокойнее. И сделала короткий шаг вперед, робко ища опоры. Тишина. Неслышные шаги по мягкому ковру…
– Мне очень страшно, – прошептали ее губы, – но разве можно поступить иначе?..
Когда с мольбой о помощи ты простираешь руки к небесам, до Бога долетает лишь твой невнятный лепет. Отчаявшись, ты падаешь на землю, ползешь, со стонами глотая пыль, и слезы превращают ее в грязь, а голос обрывается от боли – и Бог тебя уже не слышит. Не потому, что глух, безжалостен и слеп, а потому, что слабых в мире больше, чем щебня на дорогах. Просить умеют все, а требовать – подавно. У Бога сотни тысяч рук, возможно даже больше, но их не хватит, чтоб поставить на ноги и половину бесхарактерных лентяев и трусов, хнычущих, забившись под кровать. Лишь только тем, кто не кричит без толку, скрывает боль и подавляет страх, он посылает силы и терпенье. Остальным они незачем: силы – это оружие, а оружие нужно для борьбы! Так было испокон веков и будет – это аксиома. И Суини испытал ее на себе. Впервые – когда наивным юношей был вырван из семьи и брошен в камеру, зловонную, сырую, где даже не подняться во весь рост. В негодовании он тряс решетки, упрямо повторяя: «Невиновен!» – а толку? Не больше, чем от крыльев мотылька, танцующего над огнем! Потом – все новые запоры, стены. Трюмы и бараки, битком набитые несчастными, утратившими волю и достоинство. Не потому, что с ними здесь обращались как со скотом: они позволили себе забыть, что родились людьми. Кто-то совершил преступление, кто-то невинно осужден – все оказались равны. А выжили единицы. Смерть в этом случае грозит гораздо раньше, чем оборвется земная жизнь. Когда ты сам себе сказал «Я уничтожен!», поверил в это и смирился – ты все равно, что мертв.
Когда дверь камеры со скрежетом закрылась, и Тодд остался в полутемном каземате, таком же узком и пропахшем плесенью, как лет шестнадцать тому назад, воспоминанья вновь ожили в его памяти. Такая же тяжелая, обитая железом дверь, и те же стены, по которым сочатся липкие, ржавые ручьи. Возможно, это та же камера…
Тюрьма, в которую, точно в помойку, бросали всякий сброд перед тем, как повесить или отправить на каторгу, располагалась на самом берегу реки. Бывало, что во время половодья Темза так сильно разливалась, что наполовину затапливала камеры.
Из-за окошка, лишенного стекол, донесся негромкий плеск. Суини быстро подошел к решетке: оказалось, окно выходило на реку! В прошлый раз из окна ему виден был только внутренний двор, а сейчас… Рука Суини скользнула вниз, к ботинку, торопливо нащупала твердый продолговатый предмет. К счастью, в тюрьме его обыскали довольно поверхностно: стоит ли рыться в башмаках заключенного, если его перед тем основательно обыскали в участке?
Да, сейчас у него целых два преимущества!
Тодд сел на ржавую решетку без матраца, которая служила здесь кроватью. В углу послышался какой-то странный шорох, затем крысиный писк… Он даже не обернулся. Только теперь, устало сидя без движения, он чувствовал, как сильно болело все его тело. Суини бросил быстрый взгляд на свои руки: наручники оставили свежие ссадины его на запястьях, полностью скрыв поблекшие рубцы давно заживших ран. Тем лучше! На какое-то время это поможет. По всему было видно, что Бэмфорд его не узнал. У тюремщиков тоже не возникнет подозрений. Суини Тодд – не беглый каторжник, он арестован лишь за похищение… А впрочем, и этого вполне довольно, чтобы засадить его в тюрьму на долгие годы! Так что особо обольщаться не стоит. Есть единственный выход – бежать до суда. Если суд вообще состоится.
Он вгляделся в окошечко на двери – никого, на минуту прислушался, – тихо как в склепе, – и медленно вынул напильник…

«Ну что ты, Нелл? Приди в себя!» Она небрежно помешала что-то в миске, добавила щепотку теста. Неплохо. Ей непременно нужно что-то делать! «Вот здесь – яичные желтки, там – пряности… Ты ничего не упустила, Нелли? Сейчас придут голодные клиенты!» – подбодрила себя миссис Ловетт.
Она попробовала пальцем вишневый джем, и, так и не почувствовав его насыщенного вкуса, машинально начала раскатывать мягкое, податливое тесто. Пять, десять… еще пять минут без него – время тянется и время летит. Порою говорят, что оно даже лечит. Время – деньги. «Да кто эту глупость сморозил?!» Чуть слышно скрипнуло под самым потолком, и Нелли встрепенулась, как будто услыхала знакомые шаги. Там наверху – лишь опустевшая цирюльня... «Это старое дерево не дает мне покоя – постоянно о чем-то скулит!» – пробормотала со вздохом Нелли.
У входа как-то странно отрывисто брякнул колокольчик. Кто бы это мог быть?
– Простите, мэм, позвольте мне войти… – раздался приглушенный низкий голос.
В просвете приоткрывшейся двери показался темный силуэт. В недоумении миссис Ловетт наблюдала, как незнакомый человек в плаще с широким капюшоном несет обратно в дом тот самый чемодан, который она с таким усердием собрала всего четверть часа назад.
– Что это значит? – Широко раскрыв глаза, Нелли уставилась на вошедшего.
– Арестовали его, мэм, – проговорил извозчик, словно оправдываясь. – А девушка… какой-то джентльмен увез ее в своей карете.
Он аккуратно поставил на пол чемодан у ног миссис Ловетт:
– Вот, все как есть – чужого мне не надо. – И, почтительно поклонившись, направился к выходу.
Застыв на месте, точно громом пораженная, Нелли растерянно смотрела, как он уходит. Одна-единственная мысль, непостижимая уму, надрывным эхом стучала у нее в висках: «Его арестовали…»
Опомнившись, она догнала кучера уже у самой двери:
– Арестовали – но за что? – Нелли буквально вцепилась в его руку, пытливо заглядывая в глаза. Как будто он мог знать!..
– Да вроде как за похищенье юной леди, что с ним была, – мужчина неопределенно пожал плечами. – Мне нужно идти, мэм. Позвольте откланяться.
Он вышел. Нелли снова осталась наедине с собой.
В одну секунду мир перевернулся и погрузился в тусклый полумрак; ей показалось, что она вот-вот лишится чувств. Миссис Ловетт поспешно опустилась на скамью. Нелл, не в твоих привычках падать в обморок от страха, пусть даже этот страх на грани паники! Нет, она не вправе отдыхать, лежа в забытьи! Пошатываясь, Нелли кое-как добралась до прилавка. Торопливо достала бутылку и дрожащими пальцами вынула пробку. Всего лишь несколько глотков, и обжигающая влага согрела ее тело живительным теплом. Ускользающий мир возвратился на место.
Миссис Ловетт прошлась по пустой пирожковой, тщетно пытаясь собраться с мыслями. Десятки беспорядочных вопросов метались в ее взбудораженном мозгу.
Было ясно одно: кто-то выследил их. Но кто же? Пока Суини Тодда обвиняют лишь в похищении… А если его узнали?.. Узнают? А вдруг… Пирелли! Об этом Нелл боялась даже думать. Побег из каторжной колонии и похищение приемной дочери судьи – его казнят! И Торпин, торжествуя, сам подпишет приговор!
– Нет, это не Пирелли! – крикнула Нелл, отчаянно сжимая кулаки.
Она не сможет больше оставаться в неведении, сидеть на месте, сложа руки и безутешно плакать у окна без всякой пользы, как Люси! Нелли прекрасно помнила дорогу до ближайшего полицейского участка. Прежде, чем посадить в тюрьму, Тодда доставят именно туда. Она должна немедленно его увидеть – любой ценой! Возможно, вместе им удастся найти выход.
Сорвав дурацкий накрахмаленный передник, Нелли бросилась в комнату одеваться. Смятение мешало ей здраво размышлять, но, тем не менее, одна настойчивая мысль перед уходом привела ее в кладовку. Откинув деревянную запыленную крышку, Нелли быстро просунула руку в ящик с инструментами…
Не глядя под ноги, она промчалась несколько кварталов. В висках неистово стучало, дыхание срывалось, сырой пронизывающий ветер дул в лицо… Неважно! Она стремительно бежала, как безумная, по самой середине мостовой. Под ногами чавкала дождевая грязь, а ботинки вымокли насквозь. На крутом повороте чья-то лошадь с пронзительным ржанием взвилась на дыбы, и Нелл едва не угодила под копыта. Наездник громко выругался вслед. Пускай! Прижав к груди забрызганный подол, она поспешно скрылась за углом.
«А если меня тоже арестуют – за укрывательство?» – мелькнула неожиданная мысль, но ноги сами упрямо несли ее вперед. Вот и участок: стертые, потрескавшиеся ступеньки, сводчатая каменная арка, дубовая двустворчатая дверь с решетчатым окошком. «Остановись, обдумай все как следует!» – подсказывает разум. «Некогда!» – Нелли торопливо поднимается по лестнице, отбросив осторожность, как лишний, бесполезный груз.
– Не велено к нему пускать. Вам ясно? – сухо отрезал пожилой сержант, услышав ее сбивчивую просьбу и с безразличным видом отвернулся.
– Но… – от волненья Нелл не находила слов. Негодование пришло на смену страху. Она готова была впиться в его руку и что есть силы потрясти: он должен ей хоть что-нибудь ответить!
Где-то за поворотом коридора с лязгом отворилась дверь. Из темноты доносятся тяжелые шаги, и полицейский, как бы нехотя, бросает ей через плечо:
– Арестованного переводят в ближайшую тюрьму.
Нелл замерла на месте: «Не успела!».
Она невольно напряглась и, затаив дыхание, уставилась во тьму. Сердце ее болезненно сжалось, когда она увидела Суини под конвоем полицейских: одежда в беспорядке, рукав оторван, а у виска засохла струйка крови… Быстрый взгляд ей в глаза – и он тотчас же опускает веки, словно боится ее выдать. И это все!.. Нет, Нелли, ты так просто не сдаешься!
И тут отчаянная мысль приходит ей на помощь. Она отталкивает коренастого сержанта – откуда только у нее берутся силы? – и, бросившись навстречу арестованному, с разбегу падает к его ногам, запутавшись в подоле длинной юбки.
За спиной раздается резкий окрик, полицейский порывисто поднимает ее. Скорее чтобы оттащить от заключенного: чужая боль здесь не заботит никого. Но перед тем ее рука, ловко проскользнув под штанину брюк, незаметно просунула нечто холодное и твердое в ботинок Суини. Готово! Охрана выводит его прочь.
– За что его арестовали? – упрямо спрашивает Нелл, для виду отряхивая платье.
– За похищение, – последовал ответ, а взгляд сержанта откровенно говорил: «Эта настырная, суматошная леди просто невыносима!»
У Нелли отлегло от сердца.
– И только? – со вздохом облегчения воскликнула она.
– А по-вашему, это пустяк? – раздраженно прикрикнул полицейский. – Балаган тут устроили! Уходите немедленно!
Но миссис Ловетт не дослушала. Зачем ей эта недовольная тирада, когда она уже узнала все, что нужно? Пара секунд – и за нею захлопнулась дверь.
Дело сделано! Если напильник, не дай Бог не отберут, Суини найдет ему применение. Теперь ей остается только ждать…
Глава 11. ЦЕНОЙ СВОБОДЫ
– Ну вот – вы снова возвратились в этот дом. Я не сомневался, что в итоге так и будет, мисс! Ни на минуту. – Торпин словно выступает перед публикой – как всегда надменный, чопорный, с полным сознанием своей бесспорной правоты. Всем своим видом он как будто заявляет: «Вы обманули мое глубокое доверие, а ваш поступок – верх неблагодарности!». Поступки Торпина не в счет: ведь он – судья. Всегда судья, и никогда не подсудимый! Чтобы не видеть этой маски, скрывающей убогий лик порока, Джоанна молча смотрит на ковер. Теперь он больше не заставит ее вздрогнуть и не смутит своим испытующим взглядом. Его напыщенность лишь вызывает приступ тошноты. Когда-то, много лет назад, тот самый Торпин, не колеблясь, обвинил ее отца. Он с легкостью исполнил свою роль: ораторствовал также убежденно, держался также уверенно, подписал приговор невиновному и отвернулся, зевая в надушенный платок, не глядя, как он гибнет!..
– Я посвятил вам годы жизни. Я воспитал вас, как подобает леди!..
Джоанна медленно обводит взором комнату. Да, она снова очутилась тут. В той самой комнате, что столько лет была ее единственным убежищем, где в одиночестве она могла мечтать и видеть сны. Раньше ей казалось, что за пределами этого мрачного, похожего на крепость дома с его величественной роскошью, не существует ничего, но это было заблуждение! Зачем теперь ей золотая клетка, когда есть крылья и целый мир, чтобы летать?! Ее воспитывали в бесконечной лжи: почти подкидыш, сирота – ребенок ниоткуда… Так не бывает: все равно какая-то история да существует! Но Торпин даже не придумал объяснений, он просто скрыл чудовищную правду, похоронив ее под пеплом времени.
– …и леди не предаст, – доносится далекий хрипловатый голос.
Как может человек, погрязший во грехе, судить других?! Насквозь прогнивший, чуждый милосердию! Он порочней последнего вора. Голодный уличный мальчишка ворует жалкий пенни, чтобы выжить, в то время как его судья ворует жизни!
– Джентльмен не преследует леди, не пытается запугать ее, чтобы силой добиться своего! – Вскинув голову, Джоанна с неожиданным вызовом посмотрела на Торпина.
Она уже не та застенчивая девочка, что верит сказкам и цветистым фразам. Скрытая в ней сила внезапно вырвалась наружу, и сам судья почувствовал ее. И этой силой он не сможет управлять. Застигнутый врасплох, Торпин в замешательстве отходит в сторону.
– Возможно, я немного напугал вас, не спорю. – Он флегматично оправляет воротник. – Но это не причина выскакивать в окно! В какое положение вы ставите меня перед людьми? Меня – почтенного служителя закона! Разве я могу сказать полиции, что моя воспитанница попросту сбежала от меня?! Оставалось только заявить, что ее похитили!
Так вот в чем дело: ему нужен виноватый! Ради мнения общества и своей безупречной репутации судья придумал собственную версию. И не медля, он начал развивать эту мысль:
– В карете с вами был мужчина – кто он?.. Кто это был? Я спрашиваю, кто? – повысил голос Торпин, устремив на Джоанну пронзительный взгляд.
– Он помог мне, сначала не зная, кто я! А в тот момент, когда его арестовали, он собирался отвезти меня домой!
– Должно быть – сделав огромный крюк!
Джоанна осеклась. Но не время смущенно безмолвствовать. Ей надо было что-то говорить!
– Кроме моих у него были и свои дела! – уверенно парировала она. – Это честный порядочный человек!
– Порядочный? – Судья язвительно прищурился. – А где тогда колье с бриллиантами, которое я подарил вам?
Джоанна не умела лгать, но возмущенье помогло ей это скрыть:
– Оно пропало… Я потеряла его ночью, когда бежала по темным улицам. Был дождь и ветер…
– И его, конечно, сдуло! – Торпин порывисто прошелся по комнате. – В любом случае на мои подарки можете больше не рассчитывать!
– Извольте, сэр, извольте!
– Да вы ли это? Я с трудом вас узнаю! – Судья остановился перед девушкой, разглядывая ее, словно в первый раз увидел.
– Отпустите его: он ни в чем не виновен! – упорно повторяет она.
– Да какое мне дело до этого! Будет суд, и он сядет в тюрьму! Похищение карается строго!
– Как вы можете обвинять его: разве у вас требовали выкуп?
– Я могу доказать все, что угодно! – резко бросил ей Торпин.
О, это она знала хорошо! Глухие стены, крепкие решетки – у судьи разговор короткий. Привычный жест – и препятствие сметено с пути.
Джоанна, пошатнувшись, оперлась на спинку кресла. Мысли обрываются, холодный пот проступает на лбу. История не может повториться! Не во второй раз!.. Комната стала смазанным пятном, а свет – угасающим, неясным бликом. У нее закружилась голова, как будто она снова – у края пропасти…
И неожиданно раздался твердый голос, который показался ей чужим – он вырвался из глубины ее души:
– Если вы освободите его, я стану вашей женой!
– Что? – Широко раскрыв глаза, Торпин пристально смотрит на Джоанну.
– Освободите его – стану вашей женой! – повторяет она, крепко сжимая спинку кресла.
Да это шутка! Или нет?.. Судья смерил девушку подозрительным взглядом: уж не сошла ли она с ума? Но очень скоро недоверие уступило место торжеству. Самодовольная улыбка победителя приоткрыла его тонкие, сухие губы. Разве не так должно было произойти в итоге?
– Да!.. – протянул он, понемногу приходя в себя. – Сегодня вы не перестаете меня удивлять! И откуда такая самоотверженность, позвольте спросить?
– Я никогда не прощу себе, если по моей вине пострадает ни в чем не повинный человек!
В комнате воцарилась тишина. Бесконечно долгие несколько секунд Джоанна, затаив дыханье, слышала только стук своего сердца.
– Что ж, отпущу, – промолвил мистер Торпин со вздохом сожаления и тут же прибавил. – Через несколько дней.
– Но почему же не сегодня? – растерянно воскликнула Джоанна.
– Чтобы полностью быть уверенным в вашем согласии! – нарочито учтиво пояснил он, ни капли не стесняясь своего цинизма. – К тому же мне сказали, что ваш спутник оказал сопротивление и даже грубо оскорбил представителя закона при исполнении обязанностей. Пускай немного поостынет в камере: это послужит ему уроком впредь. Не расстраивайтесь, ждать ему придется совсем недолго: ведь в это воскресенье мы поженимся!
Джоанна не поверила своим ушам. Она надеялась, что подготовка к свадьбе продлится месяц или дольше, а тем временем найдется путь к спасению. Но все ее наивные надежды рухнули: Торпин оказался хитрей нее.
– Так скоро?.. – дрожащим голосом произнесла она.
– А зачем нам ждать? – Судья усмехнулся и небрежно передернул плечами. – Вы сделали правильный выбор, вы дали мне слово. Разве дата что-то меняет?
– Нет, – еле слышно ответила Джоанна и сжала губы.
– Тогда позвольте вас поздравить! – Не скрывая своего торжества, Торпин шагнул к ней навстречу, широко раскрывая объятья.
Джоанна напряглась подобно натянутой струне. Ей стоило нечеловеческих усилий спокойно выдержать прикосновение этих властных рук. Не закричать, не оттолкнуть – иначе все ее старанья бесполезны!
– Я рад, что вы все-таки образумились, моя милая. – Склонившись к лицу невесты, судья на удивленье сдержанно целует ее в щеку, но жадный взгляд красноречиво выдает в нем затаившегося хищника. – Вы так прекрасны, что мне трудно устоять! Я подожду… До воскресенья! А пока что – смените свой наряд. Это серое платье… вы одеты ужасно! Скромная жизнь явно не для вас, – хмыкнув, прибавил он напоследок и направился к выходу: – Я пришлю камеристку.
Джоанна знала, что его непросто обмануть: когда за Торпином закрылась дверь, она услышала, как дважды повернулся ключ в замке. Негромкий стук шагов по коридору – и все стихло.
Теперь она всецело в его власти, и если попытается сбежать, ее отец уже не выйдет из тюрьмы! Он заперт в тесной, темной камере. Сырой, холодной… Приносят ли ему еду?.. При мысли, что ему придется снова пережить весь этот ужас, Джоанна чувствовала, как необоримо-жгучее негодование закипает у нее в груди.
А когда его выпустят на свободу, она станет женой его злейшего врага! Джоанна Торпин! Это имя хуже, чем пятно помойной грязи – это клеймо, печать проклятья на всю жизнь!
Закрыв лицо руками, она бессильно опустилась на ковер. Ее душили отвращение и стыд. На миг перед ее глазами возник украшенный букетами алтарь… Благоухая ладаном, церковь мерцает сотнями свечей, и священник в торжественном облачении произносит возвышенные слова ритуала:
«Клянешься ли ты любить избранника своего в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас?».
Как просто и легко ответить «Да!», когда сердце наполнено искренней радостью, впереди – целый мир, а за спиною крылья! Но вместо этого вопроса ей суждено ответить на другой: чем ты можешь пожертвовать ради того, кого любишь?
Любовь бывает разной: влюбленность, обожание, привязанность. И ни одна из них не предает, не сомневается, не забывает. Любовь – не млечный путь, не чудеса во сне, в действительности это – испытание и жертва. Любовь – это храм, в котором тебя самого нет вообще, ни капельки нет, а есть – только тот, кого любишь!
Закрыв глаза, Джоанна ясно увидела перед собой лицо отца: оно запомнилось ей до малейшей черточки, до самой глубины его души, чуткой, мужественной и такой уязвимой.
Что будет с ней после того, как роковая клятва сорвется с ее губ? Поймет ли отец, простит ли Бог?..
Она невольно опустила руки, но тут же крепко сжала пыльцы в кулаки.
«Ты уберег меня от роковой ошибки. Ты научил не поддаваться слабости и страху. И я не подведу тебя, отец!»
Всего за несколько недолгих дней она успела полюбить его так горячо, как будто знала всю свою жизнь! Он пробудил в ней бесконечное доверие буквально с первого мгновения их встречи, оставил в ней частицу самого себя.
А если бы… Джоанна вздрогнула. А если бы полиция забрала их багаж?.. Тогда бы бегство было налицо: несколько женских платьев, колье с бриллиантами, якобы потерянное где-то в темном переулке, кое-что из одежды ее отца и самая опасная улика – его бритвы! Цирюльник! Едва услышав это слово, судья бы сразу догадался, о ком речь… Но, к счастью, все произошло иначе!
С трудом переводя дыханье, Джоанна понялась с колен. Сердце билось неистово часто, но в глазах ее не было слез.
Если Бог посылает нам испытания, значит, хочет сделать сильнее! Так написано черным по белому в старой повести, стало быть – это правда. Бог видит все. Снаружи и внутри.
Что будет с нею дальше?.. Сейчас она уверена в одном – ей хватит сил дожить до воскресенья, и тогда станет легче на душе. Если только судья не солжет…
– Мне не страшно, – сказала она себе вслух. Как можно увереннее, как можно спокойнее. И сделала короткий шаг вперед, робко ища опоры. Тишина. Неслышные шаги по мягкому ковру…
– Мне очень страшно, – прошептали ее губы, – но разве можно поступить иначе?..
Когда с мольбой о помощи ты простираешь руки к небесам, до Бога долетает лишь твой невнятный лепет. Отчаявшись, ты падаешь на землю, ползешь, со стонами глотая пыль, и слезы превращают ее в грязь, а голос обрывается от боли – и Бог тебя уже не слышит. Не потому, что глух, безжалостен и слеп, а потому, что слабых в мире больше, чем щебня на дорогах. Просить умеют все, а требовать – подавно. У Бога сотни тысяч рук, возможно даже больше, но их не хватит, чтоб поставить на ноги и половину бесхарактерных лентяев и трусов, хнычущих, забившись под кровать. Лишь только тем, кто не кричит без толку, скрывает боль и подавляет страх, он посылает силы и терпенье. Остальным они незачем: силы – это оружие, а оружие нужно для борьбы! Так было испокон веков и будет – это аксиома. И Суини испытал ее на себе. Впервые – когда наивным юношей был вырван из семьи и брошен в камеру, зловонную, сырую, где даже не подняться во весь рост. В негодовании он тряс решетки, упрямо повторяя: «Невиновен!» – а толку? Не больше, чем от крыльев мотылька, танцующего над огнем! Потом – все новые запоры, стены. Трюмы и бараки, битком набитые несчастными, утратившими волю и достоинство. Не потому, что с ними здесь обращались как со скотом: они позволили себе забыть, что родились людьми. Кто-то совершил преступление, кто-то невинно осужден – все оказались равны. А выжили единицы. Смерть в этом случае грозит гораздо раньше, чем оборвется земная жизнь. Когда ты сам себе сказал «Я уничтожен!», поверил в это и смирился – ты все равно, что мертв.
Когда дверь камеры со скрежетом закрылась, и Тодд остался в полутемном каземате, таком же узком и пропахшем плесенью, как лет шестнадцать тому назад, воспоминанья вновь ожили в его памяти. Такая же тяжелая, обитая железом дверь, и те же стены, по которым сочатся липкие, ржавые ручьи. Возможно, это та же камера…
Тюрьма, в которую, точно в помойку, бросали всякий сброд перед тем, как повесить или отправить на каторгу, располагалась на самом берегу реки. Бывало, что во время половодья Темза так сильно разливалась, что наполовину затапливала камеры.
Из-за окошка, лишенного стекол, донесся негромкий плеск. Суини быстро подошел к решетке: оказалось, окно выходило на реку! В прошлый раз из окна ему виден был только внутренний двор, а сейчас… Рука Суини скользнула вниз, к ботинку, торопливо нащупала твердый продолговатый предмет. К счастью, в тюрьме его обыскали довольно поверхностно: стоит ли рыться в башмаках заключенного, если его перед тем основательно обыскали в участке?
Да, сейчас у него целых два преимущества!
Тодд сел на ржавую решетку без матраца, которая служила здесь кроватью. В углу послышался какой-то странный шорох, затем крысиный писк… Он даже не обернулся. Только теперь, устало сидя без движения, он чувствовал, как сильно болело все его тело. Суини бросил быстрый взгляд на свои руки: наручники оставили свежие ссадины его на запястьях, полностью скрыв поблекшие рубцы давно заживших ран. Тем лучше! На какое-то время это поможет. По всему было видно, что Бэмфорд его не узнал. У тюремщиков тоже не возникнет подозрений. Суини Тодд – не беглый каторжник, он арестован лишь за похищение… А впрочем, и этого вполне довольно, чтобы засадить его в тюрьму на долгие годы! Так что особо обольщаться не стоит. Есть единственный выход – бежать до суда. Если суд вообще состоится.
Он вгляделся в окошечко на двери – никого, на минуту прислушался, – тихо как в склепе, – и медленно вынул напильник…

Дни в тюрьме походили один на другой. Пустые, тусклые, почти что бесполезные… Почти. Время было подобно стоячей воде, но, тем не менее, насечки на решетках постепенно становились все глубже. Еще немного, и прутья можно будет отогнуть – когда стемнеет и часовой в последний раз пройдет по коридору, заглядывая в небольшие окошки на дверях. А река – возле самой стены!
Тодд подпиливал прутья с наружной стороны: из камеры они казались абсолютно целыми. Работать приходилось осторожно, стараясь максимально приглушать визгливый скрежет железных зубьев. Всего один чрезмерно резкий звук мог ненароком погубить его в одно мгновение. Как много можно распилить за день, ежесекундно оборачиваясь и, затаив дыханье, прислушиваясь к эху отдаленных голосов? Неважно сколько: полдюйма в сутки или меньше – гораздо больше, чем ничего! На третий день пила предательски сломалась пополам. Суини продолжал работу, используя по очереди то, что от нее осталось, предусмотрительно скрывая от тюремщика, который приносил ему еду, свои израненные в кровь ладони.
Ночами Тодд почти не отдыхал. Его усталые глаза не засыпали под опущенными веками. Навязчивые мысли метались в голове, а минуты бездействия были мучительной пыткой, пока Джоанна оставалась в руках судьи.
Вот уже около недели, как его держат здесь, не говоря ни слова. Суини было хорошо известно, что заключенным приходилось ожидать суда неделями и даже месяцами. Тюремщикам нет никакого дела до того, что порой страдают невиновные, а правосудие и вовсе – с повязкой на глазах. Но это тягостное ожидание, которое, бесспорно, привело бы в отчаянье других, спасало Бенджамина Баркера от неминуемого столкновения с опасным, безжалостным врагом. У Торпина не будут завязаны глаза, когда в суде они окажутся лицом к лицу. Память бывает иногда коварней времени: время стирает жизни и судьбы без следа, а память запасливо хранит. Тодд узнал бы судью, будь он хоть бесом в Аду, почему бы судье не узнать его в человеческом облике? И если это все-таки произойдет, расправа будет самой беспощадной.
Но нет! Он выберется раньше! Если Баркер и встретится с Торпином, то не как осужденный с палачом. Бенджамин Баркер уничтожит эту силу, что губит все, ради чего он дышит и живет!
Притупившиеся зубья упорно точат полуржавый прут. Еще совсем немного –возможно, этой ночью… Не обращая внимания на боль и погребную сырость, пробирающую до костей, Суини все сильнее сжимает обломок пилки в онемевших пальцах.
Внезапно стук шагов по коридору заставил Тодда насторожиться. То не была размеренная поступь часового, привычно выполнявшего обход. Шаги двух человек довольно быстро приближались, и через несколько секунд послышались глухие голоса и с лязгом повернулся ключ в замке.
С быстротою молнии Тодд спрятал в рукаве напильник и метнулся в темный угол. Все его тело непроизвольно напряглось, когда дверь камеры с надрывным скрипом отворилась: на пороге стоял сам комендант.
Глава 12. ЕЕ ДУША
Прошла почти неделя со дня ареста Тодда, а Нелли продолжала терпеливо ждать. Привычная работа давалась ей с трудом. Чтобы трудиться, человеку нужен смысл – а для нее весь смысл жизни сосредоточен за пределами пекарни, отрезан от мира и людей. «Все у тех проходит вгладь, кто умеет ждать» – частенько повторял ее покойный муж. К чему вот только, не понятно. Что толку с этой бесполезной поговорки: даже душу отвести не годится!
Томительная неизвестность угнетала. Порою Нелл пыталась утешить себя отсутствием дурных вестей. Но чем дольше тянулось ожиданье, тем сильнее в ней укоренялась мысль, что если ничего не предпринять, Суини Тодд не возвратится на Флит-стрит.
На пятый день, собрав в кулак всю свою волю и оставив страхи дома – догорать в наглухо закрытой печке, Нелли отправилась в тюрьму. На что она надеялась? Ее не пропустили дальше караула, не дали ни единого ответа! Не позволили даже передать заключенному небольшую корзинку с едой. Нечеловеческим усилием сдержав отборные ругательства, вот-вот готовые сорваться с ее уст, она ушла. Вернее, часовые любезно выпроводили ее прочь, захлопнув двери.

Закинув голову, она брела вдоль каменной стены, пытливо вглядываясь в темные провалы решетчатых окошек. В какой же камере он заперт? В какой из них? Сколько будут держать его в этом зловещем капкане? И будут ли судить? А может, вовсе повесят без суда?!.. Отчаянно ударив кулаком по каменной ограде, Нелл с приглушенным стоном опустила руку. Корзинка с пирогами упала к ее ногам. Ей хотелось отчаянно разрыдаться, но глаза оставались сухими. Безысходность все туже запутывала свою паутину. Боясь остаться в опустевшем доме наедине с собой, Нелли долго бесцельно бродила по городу. Серые улицы, серые люди, серый дым из множества труб – все слилось в один сплошной лишенный красок бессмысленный, безумный хоровод. Были первые дни апреля, но весна не спешила в этот старый вертеп, именуемый Лондоном – лишь промозглая сырость угрюмо дышала в лицо. Тусклое пятно бесполезного слепого солнца – и ни единого луча надежды…
Усталость постепенно побеждала напряжение, и мысли обрывались, как в забытье. Где ты, расчетливая предприимчивая миссис Ловетт? Сейчас, когда ты так нужна, твоя растерянность похожа на испуг! «Боишься – иди навстречу страху», – так в детстве ей говорил отец. И она упрямо продолжала двигаться вперед, страхи же оставались глубоко внутри…
Но что это?.. Мало-помалу из тумана возникают лепные арки в виде мифических чудовищ, и к горлу подступает горький ком. Нелл хорошо знакомы дубовые резные двери с тяжелым позолоченным кольцом: сюда она тайком от мужа ходила, чтобы впервые в жизни попросить. Сюда глупышка Люси летела, как на крыльях, навстречу своей гибели, искренне веря, что ей обещали запоздалую помощь…
Остановившись, Нелли смотрит вверх, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь бархатные шторы. И снова серые химеры ехидно смеются ей в лицо, хищно оскалив каменные зубы.
Там за дверью, в роскошном уюте гостиной отдыхает последняя в Лондоне тварь! Или скоро вернется домой после пламенной речи в суде… А где же девушка, которую он отнял у отца?.. Как узнать, что с ней сталось? Может, он запер ее в приют для сумасшедших… или хуже?
Нелл решительно направилась к высокой резной двери.
Ее рука сама собой ложится на кольцо, и вдруг невольно замирает. Нелли крепче сжимает озябшие пальцы, раздается чуть слышный удар… Сердце часто-часто бьется, но она не отступает. Кольцо стучит уже сильнее, все громче с каждым разом. Проходит минута, другая. Из-за двери доносится неясный шорох, приоткрывается глазок – всего на миг…
– Эй, кто-нибудь! – настойчиво зовет она, пытаясь побороть волнение.
Но крохотный зазор уже закрыт.
– Эй, вы! – Негодованье притупляет в Нелл все остальные чувства.
Ответа не последовало.
Да, это логово хуже тюрьмы: в тюрьме, по крайней мере, было с кем поспорить! В последний раз со злости ударив каблуком ботинка по резному дубу, Нелл повернулась и зашагала прочь по улице.
Над городом сгущались сумерки, и редкие прохожие спешили вернуться в дом, чтобы согреться у пылающего очага в кругу семьи. Она одна не обращала внимания на холод. Без него ей не нужно тепла.
Нелли добралась до Флит-стрит, когда уже совсем стемнело, и стали зажигаться фонари. У дверей магазина с ней столкнулся незнакомый молодой человек. Сбегая с лестницы, ведущей на второй этаж, он второпях споткнулся о последнюю покатую ступеньку и в потемках едва не покатился ей под ноги.
– Простите, мэм! – поспешно извинился он. – Мое имя – Энтони Хоуп!
И тут же, не дождавшись ответа, продолжал:
– Я сегодня заходил несколько раз, но никто не открывал. Слава Богу, появились вы! А то я уж подумал, что дом просто вымер!
– Вроде того, – машинально согласилась Нелл, думая о своем. Имя юноши было ей знакомо: мистер Ти называл его как-то, они прибыли в Лондон на одном корабле…
– А где же мистер Тодд? – не унимался Энтони. Взволнованно теребя полы сюртука, он поглядывал то на Нелли, то на темные окна цирюльни. – А девушка, что здесь живет?.. Что-нибудь случилось? – спросил он наконец, заметив, что хозяйка подозрительно медлит с ответом.
– Они уехали, – упавшим голосом отозвалась Нелли, – и неизвестно, когда вернутся…
Она открыла дверь, и Энтони последовал за нею в пирожковую. Натыкаясь на стулья, они кое-как добрались до прилавка, и когда миссис Ловетт наощупь зажгла керосиновую лампу, он снова коротко спросил:
– Куда?
Молодой человек пробудил в ней доверие. Простая и открытая душа, в которой нет укромных уголков... Суини называл его достойным другом, и значит, это было так. Но сейчас она просто не могла говорить.
– На вот, выпей. – Нелли налила ему джина. Чуть помедлила, снова взялась за бутылку и до краев наполнила еще один стакан.
Они довольно долго сидели так вдвоем у остывшей печи в полутемной пустой пирожковой, не прикоснувшись к джину и не произнося ни слова.
Догадываясь, что внутренне она пытается собраться с силами, Энтони молча терпеливо ждал. Он не осмелился утешить ее вслух, а Нелли, опустив на руки голову, как будто слушала его молчанье, ловя себя на мысли, что рядом с ним ослабевают напряженье и тоска…
Позади тихо скрипнула дверь. Кто бы это мог быть? Оба вздрогнули и обернулись, стараясь разглядеть неожиданного гостя. Не веря собственным глазам Нелли порывисто вскочила. Позабыв об усталости, об Энтони, обо всем на свете, она словно на крыльях устремилась навстречу вошедшему, широко раскрыв ему объятья:
– Мистер Ти!
Или это иллюзия утомленного разума?.. Нелл подвела Суини ближе к лампе, как будто лишний раз хотела убедиться, что перед ней и в самом деле он. Ах, что они с тобою сделали? Красноватые тени под глазами еще глубже, а в трепетных отблесках пламени резко обозначились впадины на бледных щеках…
– Боже мой, ты сбежал? – выдохнула она и пошатнулась. Ей стало страшно и легко. Он выбрался! Неважно как – он рядом.
– Нет, миссис Ловетт, нет…
От голода или от сильного волненья у Нелли подгибаются колени, и Тодд, подхватив ее на руки, почти привлекает к себе. Ее ладонь сама собой ложится ему на грудь, и за короткие секунды Нелл успевает ощутить глубокие и частые удары его сердца.
– Сбежал? Откуда? Вы ведь уехали? – Пораженный услышанным, Энтони уже не в силах был сдержать поток вопросов.
Нелли вздрогнула и с досадой обернулась. Ну почему он так нетерпелив?
– Присядьте, миссис Ловетт, вы вся дрожите. – Суини усадил ее на стул, и осторожно выпустил из рук. – Дело гораздо серьезнее, Энтони. Я знаю, что могу довериться тебе. Возможно даже, мне понадобится твоя помощь.
На удивление послушно юноша присел на табурет, настроившись на долгий разговор. Похоже, сдержанный и рассудительный характер Тодда передавался всем, кто его знал. Для Нелли это было как болезнь, для Энтони – пример, достойный подражания.
Между тем, как Суини вкратце рассказывал другу о последних событиях, миссис Ловетт критически осмотрела свое оскудевшее за неделю хозяйство. Пройдясь по кухне в поисках какой-нибудь еды, Нелли с чувством вины и стыда обнаружила, что в доме, увы, нет ни крошки. Вернее, мука еще есть и джин, разумеется, тоже, но это ведь – не пирог. А мистер Ти наверняка ужасно голоден! В тюрьме не кормят, а лишь поддерживают жизнь. Она подбросила поленья в печь и разожгла огонь: в пирожковой было холодно, как в склепе. И вскоре печка задышала ей в лицо привычным жаром. Не тратя понапрасну времени Нелл принялась за дело, украдкой поглядывая в сторону Суини из-под полуопущенных ресниц. Любуясь бледным профилем на фоне темной комнаты, она в который раз признала с восхищеньем, что ни лишениям, ни боли не под силу стереть с его лица благородную, волнующую красоту. Речь даже не о красоте – от него исходило какое-то странное притяжение, неуловимый магнетический флюид. Ради него хотелось превзойти себя, ради его улыбки – пожертвовать всем…
– …и сегодня меня вдруг отпустили. Не знаю почему – и это настораживает, – закончил Тодд. – Человек, по приказу которого я был арестован, просто так не откажется от своих обвинений.
– Но на самом-то деле, почему эту девушку отнимают у вас? Вы заботитесь о ней совсем, как отец! Я знаю вас: вы не способны причинить кому-то зло! – горячо воскликнул Энтони, по привычке порывисто привстав с табурета.
Суини медленно провел рукой по лбу. Видно было, что он старательно подбирает нужные слова.
– История так запутана, что, не зная начала, ты не поймешь ее конца. Хотя, я надеюсь – это еще не конец! – В его глазах сверкнули угрожающие искры – и вмиг погасли, словно выпавшие из печки угольки. – Я сразу назову все своими именами. Человек, преследующий девушку, которую ты видел у меня, и называющий себя ее опекуном – судья Торпин. Почти шестнадцать лет тому назад он вынес мне фальшивый приговор, отправив на пожизненную каторгу, чтоб отобрать и погубить мою жену. Сам понимаешь: мое настоящее имя – не Суини Тодд. С тех пор моя жена исчезла, и осталась ли жива – известно только Богу! А девушка… Ты ведь уже догадался об этом: она на самом деле моя родная дочь.
Застыв на месте, Энтони, часто моргая, в молчаливом изумлении глядел на собеседника. Несмотря на предельную лаконичность Суини, этого было слишком много, чтобы переварить в один момент.
– Ее зовут Джоанна… – с грустной улыбкой прибавил Тодд.
И Энтони едва заметно улыбнулся в ему ответ. Суини взял в руки стакан, приготовленный Нелл, и сделал глубокий глоток: после промозглой сырости тюремной камеры огонь печи уже не согревал его.
Он погрузился в долгое молчание, словно давая молодому моряку прийти в себя. А тот неподвижно сидел, уставившись в темноту, стараясь хоть на миг представить себе картину этих немыслимо жестоких испытаний, и не мог. Не мог принять несправедливый мир таким, как есть. Но, не приняв его, ты должен что-то изменить! Ведь именно людская слабость, лень и безразличие к чужой судьбе дают разгул пороку. Сегодня на другом конце земли страдает чужой, незнакомый тебе человек, а завтра – твой близкий друг и вместе с ним – ты сам!.. Удача переменчивей погоды. Почему же счастливые люди забывают об этом? Юноша чувствовал негодование и… стыд. За весь несовершенный мир и собственную слепоту.
– Я даже не подозревал, что вы прошли через такое, мистер Тодд!.. – воскликнул он. – Но это зло не может оставаться безнаказанным!
Суини встал и медленно прошелся по магазину.
– Не все так просто, Энтони, – ответил он совсем спокойно, без тени гнева. Но голос его был глухим.
Как обычно украдкой наблюдая за мистером Ти, Нелли невольно замерла на месте. В темных, сейчас почти черных, блестящих глазах ей приоткрылось нечто такое, от чего холодок пробежал по всему ее телу. То была роковая решимость в предчувствии последней смертельной схватки, которой уже не избежать. И лишь когда Суини повернулся к ней, она поспешно подхватила скалку и для порядка постучала ей о стол.
– Миссис Ловетт, вы не слышали, что стало с моей дочерью?.. – Мистер Ти смотрел на Нелли так, что сердце вдруг затрепетало у нее в груди. С робкой надеждой и глубокой тоской… «Моей дочерью…» – в его голосе сквозило столько нежности и невысказанной боли, что миссис Ловетт растерялась. Почти неделю в неведении, взаперти он думал только об одном – о дочери, попавшей в руки деспотичного судьи, а ей как на беду совершенно нечего ему ответить.
– Я пыталась узнать о ней хоть что-нибудь в доме Торпина… Я стучала, но мне не открыли. – Нелл виновато развела руками и замолкла.
Похоже, Тодд ничуть не удивился. Он понимающе кивнул ей головой:
– Вам лучше там не появляться: судья вас знает. Он может что-то заподозрить. Самое ужасное, – продолжал он, обернувшись к Энтони, – то, что сейчас этот беспринципный и порочный человек принуждает мою дочь стать его женой! В противном случае он угрожал упрятать ее в сумасшедший дом.
– Тогда…– Энтони запнулся. – Оттуда нам ее уже не вызволить?
– Напротив. – Суини порывисто шагнул к столу. – Так даже проще. Тебе известно, где все лондонские постижеры* добывают волосы на парики? В Бедламе: они срезают волосы у сумасшедших из дурдома. Я представлюсь, как мастер по созданию париков и тогда беспрепятственно проникну вовнутрь и заберу свою дочь!
Энтони слушал друга, затаив дыханье: его все больше поражали изобличительные факты и детали, о которых раньше он даже не догадывался.
– Но если Джоанна под замком в доме Торпина, спасти ее будет сложнее. Для начала, – Суини внимательно взглянул на молодого моряка, – мне нужно узнать, где она. Я не могу отправиться к судье: одна надежда – только на тебя.
Энтони не заставил его долго ждать ответа:
– Не сомневайтесь во мне, мистер Тодд! Скажите адрес, я пойду туда и все узнаю!
– Постой! – Суини удержал его за руку. – Ты должен быть предельно осторожен. Не стоит прямо подходить к дверям и звать привратника. Попробуй завести беседу с кем-нибудь из слуг, которые выходят за продуктами. Если повезет – со служанками. Просто приветливо поздоровайся и спроси, не требуются ли помощники: ведь у хозяина, по слухам, скоро свадьба… А там, слово за слово, ты постепенно разузнаешь все, что нужно. Ты понял, Энтони?
Тот часто закивал. Что спорить: его старший друг бесспорно опытнее и умнее!
– Ты знаешь, где находится Грейт-Джордж-стрит? – спросил Тодд.
– Да, конечно, это недалеко от Вестминстерского моста!
– Дом судьи – в самом конце улицы. Джоанна описала мне его: это высокий трехэтажный особняк из серого обтесанного камня, украшенный скульптурами. Ее комната где-то на втором этаже. Возможно даже, с окнами на улицу…
Пока Суини излагал своему другу план предстоящих действий, Нелли посматривала то на него, то на моряка. И от ее внимательного глаза не ускользнула интересная закономерность: они оба испытывали одинаковые переживания. Только немного по-разному. Когда мистер Ти говорил о Джоанне, его взгляд оживляла бесконечная нежность – так луч солнца проглядывает сквозь тучи в грозу. Когда же Энтони слышал ее имя, легкий румянец приливал к его щекам, и он смущенно отводил глаза. Но парень не умел скрывать ни чувств, ни мыслей. Эх, только бы не погубила его эта прямота!..
Наконец миссис Ловетт решительно прервала разговор двух мужчин, поставив перед ними блюдо со свежеиспеченным хлебом и полную кастрюльку дымящегося супа. В этот насыщенный волнениями вечер ей все же удалось их накормить вполне приличным ужином.
Энтони ушел довольно поздно, заверив Тодда, что вернется, как только разузнает что-нибудь. Не трудно было догадаться, что завтра он поднимется чуть свет…
Настало утро, на удивление прозрачное и ясное. Едва лишь первый луч пробился сквозь неплотно задернутые шторы, в потемках маленькой, но все же уютной комнатки раздался тихий обрадованный возглас:
– Ну, наконец-то!.. А я уж думал, в эту ночь не рассветет! – И кто-то торопливо соскочил на пол, ища ботинки.
Негромкий шорох у стены, где на крючке висит одежда, недолгий плеск воды в тазу – и Энтони, стараясь не шуметь, почти без скрипа открывает двери. Не зажигая лампы, юноша прокрался по коридору, спустился с лестницы и, отыскав в кармане ключ, беззвучно повернул его в замке. Пара шагов – и он уже на улице.
– Эй, ты куда собрался в такую рань? – высунувшись из окна, громко окликает его отец.
Не удалось-таки проскочить!.. Пожилой кузнец трудолюбив и аккуратен: встает чуть свет, ложится ровно в девять. Порядок у него на первом месте. Но не беда – отец и сын отлично ладят.
– Потом расскажу! Я, правда, должен идти! – кричит ему Энтони с другой стороны улицы, застегивая на бегу сюртук. И через несколько секунд его и след простыл.
– Ох уж эта молодежь, и вечно у них важные дела – важнее завтрака и утренних приветствий! Да ладно, сам такой же был, пока не получил в наследство кузницу да не женился. – И почтенный ремесленник неторопливо отходит от окошка, тихонько усмехаясь в густые рыжеватые усы. – Вот и Энтони скоро найдет себе пару, не успеешь и глазом моргнуть!..
Скромный домик Хоупов располагался на приличном расстоянии от Грейт-Джордж-стрит, но, несмотря на это, Энтони без труда добрался туда быстрее, чем за час. Вот он – тот самый особняк с готическими арками… Настоящая крепость! Но вместе с тем ему не приходилось видеть такой роскошной и величественной тюрьмы. Говорят, что жилище похоже на хозяина, как в чем-то схожи конь и всадник, охотник и его собака. Еще не видя самого судьи, Энтони сразу же представил его, глядя на серые, как пасмурное небо, стены, добротно сложенные из тесаного камня. Торпин словно стоял перед ним на пороге – неприступный, холодный и надменный, безразличный ко всему живому. Впервые молодой моряк ощутил нестерпимое до тошноты отвращение к богатству, праздности и блеску разряженных в шелка и бархат аристократов. До сей поры он не завидовал, не осуждал их за превосходство. Он даже не задумывался, что есть на свете люди, имеющие больше прав лишь потому, что платят больше денег. Намного больше тех, кто покупает только хлеб и целый день упорно трудится, чтобы его купить. Нет, никогда не станет угнетать себе подобных человек, достигший высокого звания честным путем! И невольно рождается возмущенная мысль – значит все, что стоит высоко – просто воры? Обычные бессовестные воры? Или хуже?..
Пытаясь разгадать эту жестокую загадку бытия, Энтони понял, что будь он хоть трижды моряком, ему так просто не распутать клубок узлов, концы которого – в воде.
Тем временем у двери дома остановилась небольшая открытая тележка, наполненная пышными букетами. Белые лилии, белый жасмин… Девушка в белом переднике весело спрыгнула с козел.
Едва не поскользнувшись на мокрой мостовой, Энтони стремительно метнулся к ней.
– Здравствуйте, мисс! – Он смущенно улыбнулся, стараясь побороть волнение.
– Здравствуйте, сэр! – полушутливо откликнулась цветочница. – Такое впечатление, что вы меня здесь поджидали! Вы кто?
– Я… – Энтони замялся. – Я просто собирался предложить свои услуги хозяину особняка… Помочь на свадьбе: например, носить букеты, – закончил он и с подозрением покосился на цветы. – Ведь это свадьба, я не ошибаюсь?..
– Конечно, свадьба! Посмотрите: какая прелесть – непорочная белизна и опьяняющий аромат! Мои цветы заказывают самые знатные персоны! И я этим очень горжусь!
С этими словами девушка протянула руку к тяжелому кольцу на двери, собираясь постучать. Но Энтони поспешно удержал ее:
– Один вопрос: а кто невеста?
– Почем я знаю? – Цветочница задорно рассмеялась. – Хотя… Наверняка она красива и молода: смотрите сколько нежности и белизны! Уж я то знаю толк в таких вещах. – И девушка решительно ударила кольцом по золоченной пластинке на двери.
Словно боясь, что ей откроет сам судья, Энтони быстро отбежал на противоположный тротуар. Дверь отворилась, вышла горничная… Но юноша уже смотрел поверх тележки и двух девушек, носивших в дом злосчастные букеты. Туда, где стрельчатые арки венчали рогатые химеры, застывшие с уродливыми хищными ухмылками на серых каменных губах. В окне под ними появился ангел…
Джоанна! Джоанна в белом платье, с фатой на золотистых волосах!.. До последнего Энтони верил, что все эти торжественные приготовления – какая-то немыслимая, нелепая ошибка. Но тонкие нити робкой надежды были резко оборваны в один миг.
Она заметила его. И, слегка отступив от окна, с опаской оглянулась вглубь комнаты. Ошеломленный, Энтони порывисто шагнул вперед, словно пытаясь удержать ее, но девушка, прильнув к стеклу, как будто предостерегая, прижала палец к сомкнутым губам. Юноша тут же осекся. Джоанна приложила руку к груди и грустно покачала головой. Казалось, будто она стыдится чего-то, и горькое чувство вины не дает ей покоя.
Но Энтони понял по-своему.
– Я знаю: это против вашей воли! – кричит ей его негодующий взгляд.
Из подъезда на улицу выезжает украшенный праздничными лентами экипаж, запряженный четверкой лошадей. Что же делать?! Ему вдруг становится трудно дышать. Готовый броситься за помощью, он напрягается всем телом и снова широко раскрытыми глазами смотрит вверх.
– Постой! Не надо! – доносится безмолвная мольба сквозь тонкую преграду стекол.
Но юноша уже не мог спокойно ждать: точно спасаясь от невидимой погони, он со всех ног помчался на Флит-стрит.
Едва лишь рассвело, Нелли не выдержала и поднялась в цирюльню. За всю ночь она так и не сомкнула глаз. Не потому, что через деревянный потолок над ее спальней все время доносился приглушенный стук шагов. И даже не из-за оттого, что под окном всю ночь орали песни пьяные гуляки: Флит-стрит отнюдь не пользовалась репутацией элитной улицы, и это еще мягко сказано. Ей больше незачем выдумывать предлоги, чтобы обманывать саму себя: душа Суини стала частью ее собственной. Да что там частью – он и был ее душой!
Через огромное окно на фоне красноватой полосы зари виднелись черные изломы крыш. Суини прислонился лбом к холодному стеклу и терпеливо ждал, пока проснется город. Когда он так стоял, безмолвный, неподвижный, словно статуя, казалось, его дух витает где-то между двумя мирами и не принадлежит ни одному из них. Недосягаемо-далекий, потерянный во времени… Ангел, у которого отняли крылья, заставив брести в одиночестве по острым камням. Нелли даже представить себе не могла, что ему довелось пережить – ей никогда бы не хватило мужества расспрашивать об этом. Но сейчас она чувствует то же, что и он. Так нелегко преодолеть незримую преграду и вдруг, не говоря ни слова, просто обнять его за плечи. Но она это сделала! Тодд слегка шевельнулся, однако не отстранился. Как необычно и до боли сладко удерживать его в своих руках, в то время, как он мысленно кружит над землей! Лишь тепло его тела сквозь одежду да легкий след дыханья на стекле выдают в нем живое существо. Их сближает не общая радость и не тихое безмятежное счастье – Нелли просто помогает ему ждать.
Суини поднял на нее глаза:
– Я забыл вас поблагодарить…
– За что?
– За напильник. Вы сильно рисковали ради меня…
– Не важно: главное – вы здесь.
И оба снова замолчали.
Шло время, минуты, часы… Для Тодда каждая минута была длиннее часа, а часы не имели границ. Миссис Ловетт пыталась накормить его завтраком, но он едва притронулся к еде. Предложила починить его порванный плащ – мистер Ти машинально кивнул головой и опять нетерпеливо зашагал из угла в угол.
Устроившись на старом скрипучем сундуке, Нелли, взяв себя в руки, принялась за шитье. Сосредоточиться почти не удавалось: несколько раз она теряла нитку и ненароком уколола палец.
Неожиданно Тодд настороженно замер; миссис Ловетт привстала, следя за ним взглядом.
– Это Энтони! – вымолвил он через пару секунд.
На лестнице снаружи раздался частый стук шагов и вскоре молодой моряк, запыхавшись, остановился на пороге. Он даже не пытался скрыть смятенье и растерянность.
– Она... Она… была одета в свадебное платье! – проговорил он наконец и виновато посмотрел на Тодда.
– Что? – миссис Ловетт не поверила своим ушам.
Лицо Суини исказилось так, что Нелл невольно содрогнулась. Из груди его вырвался сдавленный стон.
– Нет! Это невозможно! – Он резко повернулся, опрокинув канделябр, и бросился к выходу.
Энтони и миссис Ловетт едва успели удержать его у открытой двери.
– Слишком поздно! Вы все равно не успеете! Я видел у порога экипаж… Сейчас ее уже увозят в церковь!.. – Юноша крепко вцепился в руку Тодда, пытаясь поймать его взгляд.
– В какую?! – в исступлении крикнул он.
– Я не знаю!
Суини был обезоружен, однако все еще неудержимо рвался вперед – уже не тело, но его душа.
– Даже если б мы знали, где венчанье… даже если бы вы оказались там сейчас – что вы можете сделать? Только выдать себя!.. – продолжал убеждать его Энтони. Он старался заполнить словами угнетающую, напряженную тишину, сознавая, что в эту минуту молчание доведет его друга до безумия. – Вы слышите меня, мистер Тодд?..
Суини отошел вглубь комнаты и прислонился спиной к стене.
– Я должен был предвидеть это! – прошептал он, горящим взглядом устремившись в пустоту. – Сразу догадаться обо всем, как только вышел из тюрьмы! Ведь меня отпустили, потому, что она согласилась! Ее свобода – цена моей!..
Замявшись, Энтони попробовал найти слова, которые смогли бы его утешить, но рассудив, что это бесполезно, по-мужски протянул ему руку и серьезно спросил:
– Как вы намерены поступить?
Нелл с удивлением посмотрела на юношу: и откуда взялась эта зрелая рассудительность? Безусловно, у него был достойный пример!
Порою сдержанная дружеская стойкость убедительнее всяких утешений. И это возымело свое действие.
– Спасибо, Энтони. – Когда Суини Тодд ответил на рукопожатие товарища, его рука была вполне тверда.
Они вдвоем присели на крышку сундука.
– Я должен помешать ему… Сегодня же вечером. – Суини говорил спокойно, без тени гнева, но голос его был глухим.
– Позвольте мне быть рядом с вами! – воскликнул молодой человек.
– Нет, Энтони. Это слишком опасно. И не настаивай. Я должен пойти туда один.
– Но что вы сделаете? – Настойчивый вопрос был далеко не риторическим.
Суини подобрал упавший канделябр.
– Мне надо подумать, – ответил он только.
Понимая, что сейчас ему необходимо побыть наедине с собой, Нелли потихоньку вышла из цирюльни, и Энтони благоразумно последовал за ней. В теченье нескольких минут, которые тянулись дольше часа, им оставалось лишь гадать о том, на что способен решиться мистер Ти.
– Я подожду у вас, пока все не закончится, – заверил Энтони. – А лучше, – на всякий случай он понизил голос, – тайком пойду за ним и буду наготове!
Вскоре Тодд появился в пирожковой и спросил, где хранятся инструменты. Затем зажег фонарь и с полчаса возился в кладовой. Прислушиваясь к лязгающим звукам за тонкой дощатой дверью, миссис Ловетт пришла к заключению, что он подбирает железный рычаг, который заменит ему ключ. Ключ – под любой замок. Чтобы добраться до Джоанны, ему придется проникнуть в дом судьи, и если…
Раздался стук захлопнувшейся крышки, и Нелл поспешно отступила от двери.
Суини вышел из каморки, держа в руке небольшой сверток. Он был на удивление спокоен, как будто только что искал обычный гвоздь. Уж не приснился ли ей весь этот кошмар?.. Суини Тодд всегда умел держать себя в руках, но сейчас его сдержанность настораживала. Он словно заперся внутри себя – до нужного момента.
– Я закончил, – сказал он ей всего лишь два слова. И снова поднялся к себе.
Но миссис Ловетт было трудно обмануть, и все внутри нее болезненно сжималось при одной только мысли о том, для чего он берег свои силы. В нем зарождалось нечто неведомое ей – пугающее, скрытое в глубинах его духа, как сокрушительная сила шторма таится в недрах океана.
Сознавая, что сейчас он уйдет, избегая прощания, без объяснений, Нелли решительно направилась в цирюльню.
Она застала Тодда наедине с его серебряными бритвами. На тумбочке у зеркала лежала открытая шкатулка, а в углу – распакованный чемодан. Он отыскал их! Зрелище, открывшееся ее глазам, притягивало и завораживало одновременно. Впервые через столько лет Суини говорил со своим другом…
.jpg)
– Прости! Я ошибался: ты для меня – не просто серебро! – шептал он, вглядываясь в безупречно зеркальную поверхность, поглаживая остро заточенную грань.
Так смотрят в небо, дерзко вопрошая Бога, так воин проверяет острие клинка, прежде чем встретиться лицом к лицу с врагом. Его оружие! Другого нет. Наблюдая, как взгляд его бродит по лезвию бритвы, Нелли замерла, точно боясь потревожить их, оборвать этот странный разговор. Бесчувственное лезвие не плачет, не смеется – оно лишь отвечает хозяину холодным, ясным блеском, готовое безропотно служить.
– Миссис Ловетт, вы здесь? – неожиданно обратился к ней Тодд, заметив ее отражение в зеркале. Вопросительно, но не удивленно: он как будто предвидел ее появление.
– Да, это я… – чуть слышно отозвалась Нелли.
Спрятав бритву, Суини направился к ней. Или к выходу?..
– Что ты задумал? – спросила она тихо.
Остановившись у дверей, Тодд повернулся к Нелл. Он нашел в себе силы слегка улыбнуться ей, словно маленькой девочке.
– Я заберу свою дочь! – ответил он просто и коротко. И тут случилось невероятное: не дав ей возразить, Суини быстро привлек ее к себе. Нелли даже опомниться не успела, как прохладные губы едва ощутимо коснулись ее лба… И в следующий миг он осторожно отпустил ее и вышел прочь, не говоря ни слова.
Миссис Ловетт и грезить о подобном не смела. Но вместо сладостного трепета она внезапно остро почувствовала страх. Никогда он не вел себя с ней, как сейчас – даже когда в первый раз покидал ее дом! Суини Тодд поцеловал ее как дочь или сестру, и Нелли с опозданьем поняла, что он, возможно, попрощался навсегда.
– Бенджамин! – тихо позвала она. Но на улице не было ни души…
* Постижеры – мастера по изготовлению париков, усов, бакенбард, шиньонов из натуральных и искусственных волос. Кстати, люди такой профессии во все времена считались редкими специалистами.
Глава 13. ДО СИХ ПОР ЖИВА!
На город быстро опускалась темнота. У дома Торпина еще стояли экипажи, толпились в ожидании лакеи, сновали тени, мелькали огни… Окна нижнего этажа ярко освещали широкую улицу, у парадного входа зажглись фонари. Только верхний этаж оставался подозрительно погруженным во тьму. И, пристально следя за пестрой суетой внизу, Суини знал наверняка одно: пока эти окна темны – в комнатах нет ни души.
Тодд наблюдал за домом уже несколько часов. Ограда небольшого парка скрывала его от любопытных глаз, теперь же, под покровом сумерек, он мог покинуть свое укрытие. Звуки музыки стихли: торжество подходило к концу. Выйдя на улицу, Суини увидел, как отъехала первая карета. Прошло не больше получаса, и гости стали понемногу расходиться. Оживленные шутки, одобрительный смех… Скоро это фальшивое торжество завершится и наступит затишье.
В ночном тумане череда высоких окон сливается в единственное светлое пятно, и не часы, а сердце отсчитывает время, которого осталось так немного. Пора! Окна бального зала постепенно погрузились во мрак, и, как будто давая условный сигнал, зажигается свет наверху. Едва заметный сквозь задвинутые шторы, но это означает, что он там! У Тодда перехватило дыхание при мысли, что он может не успеть. Он быстро пересек пустую улицу и, торопливо оглядевшись по сторонам, нащупал на двери отверстие замка... Один из тонких железных рычагов со звоном покатился в темноту. Не тратя времени на поиски, Суини вытащил другой и осторожно повернул его в замке. Перепробовав несколько инструментов, замирая при каждом движении, он внезапно услышал негромкий щелчок. Его рука, державшая отмычку, дрожала так, что чуть не сбила механизм. Тодд ухватился за рычаг обеими руками – замок со скрежетом поддался. Не может быть!.. Прерывисто дыша, Суини прислонился к двери. Внутри ничто не нарушало спокойной тишины. Швейцар придет размеренным неторопливым шагом, только если услышит удары молотка.
Суини осторожно приоткрыл дверную створку – упругая пружина не издала ни звука. Темнота поначалу ослепила его: особняк точно вымер или – после похорон. Слуги отпущены, шторы задернуты. Пустота, гладкий мраморный пол, мягкий ковер… ступени!.. Он двигался неслышно, словно тень. Сердце все еще часто стучало в груди, только разум его был поразительно ясен – как будто скрытая неведомая сила уверенно и властно вела его вперед. Трудно поверить, что это происходит наяву: когда твой враг так близко, а ты готов на все. И, шаг за шагом приближаясь к цели, ты словно поднимаешься на эшафот – за чужие грехи, но по собственной воле!..
Вот она – полоска света на полу из щели приоткрытой двери… За нею – комната, откуда исходит свет. Непроизвольно Тодд остановился. Он знал, кого найдет за этой дверью: дверь в комнату Джоанны не может быть открыта! Устремиться сейчас в глубину коридора и пытаться ее отыскать – это значит отрезать путь себе назад.
…Чего ты ждешь – судья в твоих руках! Не ты ли говорил, что хочешь посмотреть ему в глаза?!.. Пальцы сами находят в кармане удлиненный чеканный предмет, холодок серебра обжигает ладонь. Разве со стервятником ищут соглашения? Вы сами объявили поединок, мистер Торпин – шестнадцать лет назад. Тогда вы первым нанесли удар, и рана до сих пор не зажила!..
Короткий шаг вперед, еще один. Чем ближе, тем труднее отличить горькую боль утраты от нестерпимой жажды мести. По спине пробегает озноб, но рука не дрожит…
Он сидел у огромного зеркала, подпирая руками тяжелую голову – незнакомый седой человек, удрученный глубокими думами. Разглядывая согбенную фигуру, Тодд усомнился было, что перед ним тот самый Торпин. Где ваши слуги, господин судья? Присяжные, полиция, тюремщики?.. Их нет, как вашей совести. Суини медленно приблизился к нему, и под его ногами вдруг скрипнули осколки разбитого стекла.
– Я же сказал: оставьте меня одного! – резко выкрикнул Торпин и обернулся. – Кто… в-вы такой? – с трудом проговорил он и попытался встать.
В ту же секунду сильная рука рывком вернула его на место. Он ощутил горячее дыханье… и стальной холодок – возле самого горла. Непроизвольно дернувшись вперед, он потянулся к шнуру звонка – и замер. Но его удержало не острое лезвие бритвы, а взгляд, – из зеркала, – вместивший все неистовые, яростные чувства, на которые способен человек. Взгляд, от которого бросает в дрожь и невозможно отвести глаза.
Оба смотрят в пространство – оба видят себя.
Пытаясь побороть нелепый бред, судья зажмурился: так видят сверху собственное тело в тяжелом сне, когда душа в смятении мечется над ним. Его снова преследует наваждение! Бесплотный призрак по ту сторону стеклянной грани, которого на самом деле нет! Порою, долгими бессонными ночами, ему мерещились подобные кошмары. Он убеждал себя, что искупил вину, заботясь о чужом ребенке, но совесть – этот тайный необъяснимый страх, идущий изнутри, упорно напоминала о себе. Чем ближе к вечности, тем чаще вспоминаешь Бога – это общий Закон, и, старея, ему подчиняется даже судья. При виде бритвы память внезапно приоткрыла перед ним туманную завесу: когда-то молодой цирюльник гостеприимно принимал его в своем уютном доме. Открытый и доверчивый, с душою, незапятнанной пороком, он так любил свою жену и дочь… Торпин забыл бы его имя, но год за годом рядом с ним жило напоминание о нем: Джоанна! Шестнадцать лет назад под именем ее отца судья собственноручно поставил подпись, а строчкой выше – роковое и непостижимое пожизненно! И все вопросы, оправданья и мольбы сливаются в сдавленный хрип:
– Вы… Бенджамин Баркер!.. – На этом обрываются слова, из горла Торпина исходит лишь тошнотворный запах алкоголя.
Его трясущиеся руки беспомощно хватают спертый воздух… И тут же молнией проносится в мозгу: не правда! Бенджамин являл собою свет – наивный, хрупкий, беззащитный!.. А этот – обычный грабитель, и если отдать ему золото – он уберется!
Но взгляд из зеркала ответил ему яростнее крика:
– Бенджамин Баркер!..

Суини словно оказался в прошлом: не в тесном каземате и не у треугольника под плетью палача, а на балу, где, задыхаясь от рыданий и стыда, бессильно погибала Люси. «И все стояли и смеялись!..» Что же ты не смеешься теперь?! Глаза – два мутных омута, две сточные канавы, а с пересохших губ срывается невнятный шепот:
– Пощадите…
Как это просто – нанести удар, когда перед тобой беспомощное существо!.. Именно так вы поступали, мистер Торпин! Вы всегда выбирали противников без оружия, даже без щита. Буквально ощущая, как уходит время, Суини все еще стоял не шелохнувшись. Его рука, сжимающая бритву, как будто налилась свинцом, не в силах сделать быстрое короткое движенье. И судья инстинктивно почувствовал это.
Они – у края пропасти, и нет пути назад: сейчас один из них сорвется вниз. Чего ты медлишь, Бенджамин?.. Еще минута или две – и ты не уведешь отсюда дочь!
Нет! Будь он хоть сотни раз невинно осужден, приговорен к мучениям в аду, к пожизненной разлуке с теми, кого любит, Бенджамин Баркер не способен так убивать! Не сможет уподобиться тому, кого так ненавидел и презирал!
– Вы гнусно насмеялись над беззащитной женщиной и просите пощады? Вы?.. – Смятенье снова уступило место гневу, но Тодду безразличен был ответ. – Из-за вас моя Люси умерла! – Слова острее лезвия вонзались в его собственное сердце.
И тут нелепое, немыслимое оправдание срывается с дрожащих губ судьи:
– Это… был… не я!
– Что?!
Торпин вдруг отчаянно вцепился в руку Тодда; по его телу пробежала судорога, лицо асимметрично исказилось.
– Я… п-подписал приговор… но не… трогал в-вашей жены… ее преследовал другой… – Язык не слушался его, в глазах застыло выражение какой-то странной неистовой мольбы. В них больше не было панического ужаса. Это было похоже на исповедь – горячую, настойчивую, какой не бывает ложь.
– Кто же тогда?.. – Непроизвольно Тодд ослабил хватку, но Торпин даже не воспользовался этим.
– Не важ-но… – выдавил он из последних сил, – Но Люси… до сих пор… жива!
– Что с нею сталось? Где она? – Суини напряженно вслушивался в прерывистое хриплое дыханье, склонившись к самому лицу судьи.
Удушье помешало Торпину ответить. Он снова конвульсивно дернулся – в последний раз. Его нога задела узкий туалетный столик; ночная лампа сильно покачнулась, упала на паркет, и масло, вылившись наружу, мгновенно вспыхнуло.
– Где?!.. – повторял Суини, исступленно глядя в потускневшие глаза, не замечая, как огонь бежит по длинной шелковой портьере к потоку.
Но судья больше ничего не слышал: не думал, не чувствовал, не понимал. Осталась лишь его пустая оболочка, подобно шелухе от сгнившего зерна. В надежде вырвать из оцепенения безвольно оседающее тело, Суини тряс его за плечи: он готов был молиться, чтобы Торпин воскрес! В тот самый миг, когда должна была вот-вот раскрыться правда, Ад отнял у него заклятого врага и дал взамен другого – без имени. Врага, который прятался под маской, ни разу не показав лица.

…А пламя плясало на досках паркета, рвалось к изголовью высокой кровати, лизало красный бархат покрывала. Его нельзя было уже остановить. Огонь стремился к отражению огня – зеркало треснуло от жара и брызнуло осколками разбитого стекла.
Суини бросился к выходу. Захлопнув дверь, наощупь он пробрался вдоль стены... Справа светится тонкая щель; его рука ложится на дверную ручку.
– Джоанна… – прошептал он в темноту. – Джоанна!..
Звенящая немая тишина… отчаянное биение сердца.
Прильнув к двери у самой скважины, не сознавая, почему, он был уверен, что почти нашел ее, и неожиданно услышал:
– Это ты!.. – короткий приглушенный возглас облегченья… и тревоги.
Из комнаты донесся звук отодвигаемой задвижки и скрежет мебели по полу, но дверь не поддавалась.
– Я заперта! – воскликнула Джоанна.
– Отойди: я сейчас! – Забыв об осторожности, Тодд изо всех сил налег на обе створки. Искать отмычку было некогда: по коридору уже разнесся едкий запах дыма. Нетерпеливо он ударил еще раз и с треском высадил замок.
– О Боже, ведь он услышит! – Джоанна широко раскрытыми глазами смотрела на отца.
– Не бойся. – Он прижал ее к себе так крепко, как только мог. На миг в его мозгу мелькнула мысль о том, что кровь судьи не пролилась по воле Неба, и будь иначе, он не смог бы, не посмел обнять свое дитя.
– Быстрее, в соседней комнате пожар! – Тодд осторожно разомкнул кольцо ее дрожащих рук. – Я расскажу тебе… потом! – И он увлек Джоанну за собой.
Они стремительно бежали по коридору. В огромном доме словно не осталось ни одной живой души.
– Здесь есть еще кто-нибудь из слуг? – спросил Суини на ходу.
– Им велели уйти. Они живут во флигеле, во внутреннем дворе… А где же… мистер Торпин? – неожиданно вырвалось у Джоанны.
Девушка еле поспевала за отцом; у лестницы они остановились, переводя дыханье.
Тодд повернулся к ней, стараясь разглядеть во мраке ее лицо. Звенящий напряженный голос выдавал ее испуг:
– Он… тебя видел?
Суини понимал, о чем она боится его спросить.
– Да, – коротко ответил он без колебаний. – Он умер. Но не от моей руки! – С последними словами волна какого-то неведомого прежде торжества нахлынула на Тодда. Он ощутил давно утраченную легкость, как будто с плеч его упало бремя, и заново рождается душа. Не оттого, что больше нет его заклятого врага: чужую смерть не празднуют. Он победил врага внутри себя – ту темную неистовую силу, что не давала ему быть самим собой. Нет, мистер Торпин, вам не погубить меня. Во второй раз – нет!..
Входная дверь была по-прежнему открыта. И только выбравшись на улицу, Суини обнаружил, что на Джоанне тонкое шелковое платье. Он быстро снял свой плащ и, как тогда на Лондонском мосту, заботливо набросил ей на плечи. Больше никто не отнимет ее, и они не одни в этом мире: разбитые разлукой судьбы соединятся – нужно только верить и терпеливо ждать! Тодд отвернулся от пылающего над слабо освещенной улицей окна и прошептал в сырую зыбкую ночную темноту:
– Она не умерла. Теперь я знаю точно: она жива!
– О ком ты? – Джоанна удивленно смотрела на него.
Суини глубоко вздохнул и, глядя перед собой в туман, почти позвал по имени – не призрак, а живое существо:
– Люси!
В одно мгновение его лицо преобразилось, а губы приоткрылись в трепетной улыбке – так улыбался Бенджамин Баркер. Он даже не заметил, как возле дома собралась толпа.
– Пожар! – воскликнул чей-то зычный голос. – Смотрите: в том окне!..
– Зовите помощь!
– Надо постучать! Есть кто живой?.. – Какой-то джентльмен кинулся к дверному молотку и со всех сил заколотил по позолоченной пластине.
– Нам надо уходить, – проговорил Суини, взяв Джоанну за руку. – Надеюсь, от пожара никто не пострадает…
Едва он повернулся, навстречу им из парка метнулась темная фигура.
– С вами все в порядке, мистер Тодд?.. – послышался знакомый, прерывающийся от волненья голос. Энтони!
– Я уже собирался войти вслед за вами, но тут прошел патруль… Потом – огонь!.. Я просто не знал, что и думать… Что там произошло? – Вопросы не давали юноше перевести дыханье.
– Так, пустяки: разбилась масляная лампа. – Суини удержал за плечи друга, иначе тот споткнулся бы о тротуар. Все пережитое смятенье на грани страха, нечеловеческое напряженье и затихающую лихорадочную дрожь он спрятал глубоко внутри себя.
– Пойдем скорее!
Молодой моряк привычно подчинился твердому уверенному голосу. Нет, Энтони не заблуждался относительно опасности, которая подстерегала его друга: он был наивен, но не настолько. Он просто молча восхищаться его выдержкой. В подобных случаях не спорят… А после все само собою разъяснится!
У поворота Тодд заметил свободный экипаж.
– Флит-стрит, церковь Святого Дунстана! – сказал он извозчику, отворяя дверцу.
Карета плавно покачнулась, и лошадиные копыта ритмично застучали по мостовой.
Джоанна отвернулась от окна. Высокий серый особняк исчез во мраке – навсегда остался в прошлом. Она склонила голову к плечу отца, угадывая в полутьме перед собой смущенный взгляд голубых глаз.
– Ваша дочь очень смелая, мистер Тодд! – сказал вдруг Энтони и тут же замолчал.
– Джоанна помогла мне обрести себя. – Суини в первый раз признался в этом вслух. – Спасибо, Энтони!
– За что? – встрепенулся молодой человек.
– За все, что ты сделал для нас. Я никогда об этом не забуду.
В одном из окон пирожковой за тонкой шторкой теплился едва заметный свет. Он был похож на слабый огонек надежды, которая упорно будет жить, даже когда сгорит фитиль свечи.
Суини отворил незапертую дверь, и колокольчик тихо звякнул. Нелли сидела у погасшего камина, откинувшись на спинку кресла; плед соскользнул ей на колени, а окруженные тенями усталые глаза, дремали под опущенными веками. Едва услышав, как открылась дверь, она встревоженно вскочила. Вернулись! Неужели это сон?! Нелли растерянно стояла, не смея сделать шаг навстречу своему видению. Но Тодд, не дожидаясь, подошел к ней сам, так близко, что в его глазах она как в зеркале увидела свое лицо.
– Я боялся этому поверить, – заговорил он, и голос его дрогнул от волненья, – но теперь я знаю точно: Люси жива! Жива!
Внезапно мир перевернулся, распался надвое. Она осталась по ту сторону обрыва. Он был рядом, держа ее руки в своих, а на губах его – почти улыбка… и это имя, что так безжалостно их разлучает!
– Как… ты нашел ее?.. – спросила Нелл, и ее голос показался ей далеким и чужим.
Суини даже не заметил, что миссис Ловетт обратилась к нему на «ты»: перед его глазами в этот миг стояла Люси. Нелли как будто ощутила ее присутствие: там, возле лестницы, ведущей на чердак, зашевелилось согбенная тень. Понурый взгляд из-под поношенного капора, поблекшие лохмотья, забрызганные грязью и дождем… Но не такую Люси видит он! Для Бенджамина Люси – это свет, невинный хрупкий ангел с ясными глазами цвета неба и белоснежной кожей. И даже сломленная одиночеством и горем в его воспоминаниях она останется цветком, прекрасным срезанным цветком. Как может он вообразить себе то падшее затравленное существо, в которое невзгоды превратили наивную и добродетельную Люси?
– Что с вами, миссис Ловетт, вы так побледнели!.. – Тодд заботливо усадил ее в кресло.
Джоанна потеплее укрыла Нелли пледом, а Энтони принес ей стакан воды. Но что-то словно оборвалось глубоко внутри нее. Все они снова были здесь, и только Нелли – бесконечно далеко отсюда.
«Я знала, что она жива! – стучало у нее в висках. – Бог свидетель, мистер Ти, мне было нелегко солгать тебе! Я даже не лгала – я просто скрыла правду! Ради тебя!»
– Вам лучше, миссис Ловетт? – спросил Суини, наклонившись к ней.
О, если бы ты только знал!..
Он все еще не выпускал ее руки. Но Нелл уже забыла о себе.
– А где же Люси?.. – ответила она вопросом на вопрос, оглядывая комнату поверх его плеча.
– Не знаю!.. – со вздохом отозвался Тодд. – Но мне известно, что она жива!
– Откуда же? – не унималась Нелли, всем существом боясь и требуя ответа.
– Судья признался мне перед смертью.
Миссис Ловетт испуганно вскрикнула, сжав его руку. «Ты это сделал!..» Интуитивно оба они сознавали, что так должно произойти, если роковые обстоятельства не оставят выбора. Почему же сейчас ее словно обожгло изнутри?.. Глядя на Тодда широко раскрытыми глазами, Нелли как будто видела петлю, безжалостно затянутую на его шее.
– Нет-нет, не бойтесь, я его не убивал! – поспешно успокоил ее Суини. – Судьба распорядилась по-другому: он был так жалок, что я не смог бы его убить.
Ей стало легче. Совсем немного – но мрачное видение уже исчезло.
– Расскажите мне все! – попросила она, умоляюще глядя на Тодда.
Он мягко удержал ее:
– Вам нужно отдохнуть…
Но Нелли показала головой. Она слишком долго ждала в неизвестности, чтобы щадить себя сейчас. Еще одно усилие – и пытка прекратится. Суини понимал ее, как самого себя. Без лишних слов он пододвинул стул поближе к ее креслу и сел рядом.
– Когда все гости разошлись, мне удалось пробраться в дом…
Стараясь быть предельно кратким, Тодд не рассказывал о внутренней борьбе, через которую пришлось ему пройти: для Нелл его душа давно уже была раскрытой книгой.
– Я поднялся наверх, и первое, что я увидел в темноте, была приоткрытая дверь. Я вошел и увидел его. Он был мертвецки пьян. При других обстоятельствах Торпин возможно меня не узнал бы, но когда он увидел мою бритву, то скорее почувствовал, кто я. И попросил пощады – у Бенджамина Баркера!.. Но в этом уже не было нужды: я испытал бы отвращение и стыд, лишая жизни жалкое, дрожащее от страха существо. И вдруг он признается, что другой преследовал мою жену, другой был человеком в маске на балу! Его последними словами были: «Люси до сих пор жива».
– И больше ничего? – невольно перебила его Нелл.
– От потрясения и изрядной дозы алкоголя с ним случился удар, и он умер, так и не назвав мне имя… того мерзавца, что бессовестно прятался у него за спиной. В агонии он опрокинул масляную лампу, и начался пожар, но мы с Джоанной быстро выбрались из дома. Я думаю, сейчас огонь уже успели потушить. – Суини замолчал и глубоко задумался. Его глаза сосредоточенно смотрели в полумрак, а пальцы машинально поглаживали бритву. – Я больше не раскрою это лезвие, – сказал он тихо, положив ее на стол перед собой. – Не хочу вспоминать… Теперь я знаю: месть не доставляет удовольствия и не снимает тяжести с души – ты убиваешь своего врага, а новый беспощадный враг рождается внутри тебя.
– Вы правы, – прошептала миссис Ловетт, прикрыв рукой граненую полоску серебра.
Подарок Люси, который сохранила Нелл – Бенджамин дважды принял его из женских рук. По воле роковой судьбы он слишком долго бродил по лезвию… Легко ли будет обо всем забыть?..
– А если судья солгал? – спросила она вдруг.
– Что Люси жива? – Суини устремил на Нелли изумленный взгляд.
О, в этом у нее сомнений не было! Торпин сказал ему чистую правду. Только она солгала!..
– Что это был не он, – поспешно уточнила Нелл, смущенно отводя глаза.
– Ложь не спасла бы Торпина от смерти, – убежденно заверил ее Тодд. – Он чувствовал, что умирает и говорил со мной перед лицом Того, кому не лгут. Подумать только: в юности я безмятежно жил с повязкой на глазах и даже не подозревал, откуда ждать удара!
И снова на него нахлынули воспоминания, что причиняли ему столько боли.
– Все было решено заранее: меня хотели выслать, а я не подчинился. Тогда со мной решили окончательно расправиться и гнусно обвинили в воровстве. Живейшее участие в судьбе безвестного цирюльника, почетная миссия в Бристоле… затем – арест, суд, приговор. Передо мой все время был судья! Один судья! Смотрел на Люси, точно видел пропасть под ее ногами – с каким-то странным сожаленьем, свысока, а я… был так наивен. И глуп, даже не представляя себе – насколько! – Рука Суини стиснула столешницу так сильно, что его пальцы побелели.
– Вы не могли догадываться, мистер Ти… – робко заговорила Нелл. Она не находила слов, которые могли бы ослабить его боль, но лучше разговор, чем тишина.
– Вот именно, – ответил Тодд уже спокойнее. – Судья был пешкой в этой отвратительной игре. А кто-то, явно занимавший более высокое положение, хладнокровно передвигал фигуры на доске. И до сих пор мне так и не известно его имя.
Негодование и гнев остались глубоко на дне его души: он снова трезво размышлял, оценивая положение вещей.
– А вы хотели бы его узнать? Не лучше ли оставить это в прошлом?.. – осторожно спросила миссис Ловетт.
– Нет, – коротко и твердо сказал Суини. – Лучше прямо смотреть в лицо опасности. Их было трое вкупе с Бэмфордом – три хищника из одной стаи. Сейчас, когда один из них внезапно околел, проснутся остальные. Чутье подсказывает мне, что зло, которое они способны причинить, еще себя не исчерпало. И первого удара нужно ждать от бидла: он вскоре постарается разведать, как вышло, что его высокий покровитель скончался сразу после свадьбы, и в ту же ночь исчезла его жена. Пока он рыщет неподалеку, я не могу быть окончательно спокоен за свою дочь. – И он с тревогой повернулся, ища ее глазами.
Джоанна хлопотала у очага. В большой корзине у печи она нашла немного овощей, и Энтони с готовностью помог ей развести огонь. Не спрашивая и не дожидаясь, пока ее попросят, она сама заботилась о близких, и это было самым малым, чем ей хотелось бы ответить им. Наблюдая, как юноша суетливо подбрасывает в пламя дрова, а Джоанна, склонившись над чугунным котелком, зорко поглядывает на закипающую воду, Суини неожиданно представил, что это мог бы быть их собственный очаг. Улыбка и тепло руки порою согревают сердце щедрее жаркого камина. Так было между ним и Люси…
Миссис Ловетт легко угадала его мысли. Как странно и печально сознавать: мужчина, у которого два имени, а судьба настолько переменчива, будто бы их несколько, – любил и любит лишь один раз. Так предначертано, и ей придется уступить. Уже сегодня. Смелые люди утверждают, что «суждено» – не приговор, а шанс проверить свои силы. Но Нелли не питала пустых иллюзий: она сама не полюбила бы вторично! Как и он.
– Мне не понятно лишь одно, – заговорил Суини, прерывая ее мысли. – Что побудило Торпина забрать к себе Джоанну? Желанье искупить свою вину?.. Но неужели совесть мучила его сильнее, чем того, другого?
– Возможно, Торпин поступил так потому, что не испытывал к вам личной неприязни… – неуверенно начала миссис Ловетт. – В отличие от своего сообщника, судья не жаждал вашей гибели, хоть это и не уменьшает его вины. Однажды, недели через две… после бала он снова явился сюда. В то время Люси… была уже не в состоянии сама ухаживать за дочерью: она лишь прижимала ее к себе и плакала часами напролет, отказываясь от еды. Порою, глядя на нее, мне становилось не по себе. Я опасалась оставлять ее одну. Мой муж настаивал на том, чтоб я работала, и мне нечасто удавалось менять пеленки и кормить малышку... Зайдя к ней в комнату, судья увидел Люси и понял все без слов. Он сразу предложил забрать ребенка – ненадолго, пока мать не поправится, и даже собирался поместить в больницу Люси. Но в тот день, когда Торпин прислал к ней врача, бедняжка сбежала… Так девочка осталась у него. Способен ли он был на искреннее милосердие, оказывал благотворительность или же, убоявшись Божьей кары, пытался таким образом искупить свой грех – нам не узнать. Судья унес этот секрет с собой в могилу.
Тодд мужественно слушал до конца, и только губы его плотно сжались, в то время как большие темные глаза почти просили Нелл не умолкать.
Она закончила, и между ними снова повисла тишина. Не тяжкое безмолвие, подобное стене – они лишь какое-то время обходились без слов.
– Возможно, в вашем доме меня будут искать, – неожиданно сказал он вслух.
Миссис Ловетт вздрогнула.
– Никому не известно, что Бенджамин Баркер вернулся… – прошептала она.
– А Пирелли? Ведь он обо всем догадался. Я выпроводил его прочь, но это вряд ли усыпило в нем подозрения. За крупное вознаграждение он может выдать мою тайну кому угодно в любой момент – через неделю, завтра… А может быть даже вчера. Все нити связаны одним узлом, и рано или поздно они натянутся. Сейчас, когда со мной Джоанна, я должен быть предельно осторожным.
– Я знаю. – Нелли грустно опустила голову. – Вы снова покидаете меня. Вы правы. Мне самой так спокойнее будет за вас. – Ей стоило немалого труда сложить в улыбку бледные трепещущие губы.
Суини ласково коснулся ее руки.
– Не надо. Ведь я вижу, что вы чуть не плачете.
Она едва заметно покачала головой, не в силах отвести глаза от его тонких пальцев. Ну почему он всегда так волнующе близок, перед тем как уйти?
– Вы многим рисковали ради нас, и я хотел бы, чтобы вы тоже уехали. Хотя бы ненадолго, недалеко – за город, к вашим родственникам.
– Я не боюсь, – возразила ему Нелл.
Когда он рядом, ей действительно не страшно. А если – нет, она боится только одиночества…
За ужином она почти не говорила. Весь этот день, как впрочем и последнюю неделю, ей было не до еды, и с каждой ложкой теплого отвара, с любовью приготовленного для них Джоанной, Нелл ощущала колющую боль внутри.
К счастью Энтони вскоре оживил обстановку, сообщив, что пока он «учился готовить обед», у него родилась неплохая идея.
– Я вам как-то рассказывал, мистер Тодд: у моего отца есть кузница. Заказов много, и он сильно устает. Просто не хочет в этом признаваться. Ему сейчас не помешает подмастерье. И я подумал – вы вполне смогли бы работать у него. Что скажете? – Юноша с надеждой ожидал ответа.
– Спасибо, Энтони! – Суини утвердительно кивнул. – Я не боюсь физической работы: похожим ремеслом я занимался целых пятнадцать лет. К тому же, в отличие от бритвы, кузнецкий молот вряд ли кому-нибудь напомнит о цирюльнике с Флит-стрит.
– Я предложил бы вам поселиться в моей комнате, – восторженно продолжал Энтони, ободренный согласием друга, – но, к сожалению, там не найдется места для мисс Джоанны. Хотя… неподалеку, совсем рядом, есть гостиница. Недорогая, но вполне приличная…
Они еще довольно долго обсуждали план ближайших действий, и Нелли вдруг поймала себя на мысли, что с каждым принятым решением ее тревога постепенно ослабевает. И наконец, исчезла неопределенность. Строят планы на будущее только те, у кого оно есть. А если есть надежда, то страхи отступают.
Джоанна не скрывала своей радости, услышав, что ее отец согласен поселиться рядом с домом молодого моряка. И когда ее взгляд устремлялся на Энтони, в нем читались доверие и теплота. Ее красивое, не по годам серьезное лицо, светилось умиротворением, как будто что-то новое рождалось в глубине ее души.
Прощаясь, Энтони смущенно улыбнулся девушке, набрался смелости и – протянул ей свою открытую ладонь. Ее щеки слегка покраснели, но она, не колеблясь, приняла эту руку. Так растение тянется к солнечному свету. Оба многому научились в этот день.
– Родители, наверное, переживают! – воскликнул Энтони, внезапно спохватившись. – Я буду ждать вас. Завтра утром, мистер Тодд! – напомнил он уже у самой двери и, выбегая, обернулся еще раз.
В теплой комнате слышно было лишь, как потрескивают сухие дрова в печи да мерное тиканье часов.
Джоанна робко нарушила молчание. Она впервые задала вопрос, так долго не дававший ей покоя:
– Ты, правда, не осуждаешь меня, отец?
Суини долгим взглядом посмотрел в ее глаза и бережно привлек к себе:
– Я так горжусь тобой, – ответил он, целуя ее в лоб.
– Я по собственной воле совершила отчаянный шаг. Но иначе нельзя было поступить…
– Я все знаю, Джоанна…
Им нужно было многое сказать друг другу, и миссис Ловетт тихонько вышла, оставив отца и дочь наедине.
…Нелли упала на прохладную подушку, в изнеможении закинув руки к изголовью. Ее глаза бесцельно, не мигая, смотрели в потолок. Покой расслабленного тела не приносил ей облегчения. Звенящая тьма наполняла пустую просторную комнату, а в глубине ее сознания беззвучно вспыхивали горькие, похожие на эпитафию слова: «Она исчезла и уже не возвращалась… улицы Лондона безжалостно поглотили ее…» Да, все было именно так! И где-то, в эту самую минуту, угрюмо кутаясь в изорванную шаль, по скользкой грязи мостовой бродила та, кого при встрече Нелли, не показывая виду, узнавала уже не по лицу, а по лохмотьям. «Думаю, она умерла…» Да, уничтожена, потеряна, отвержена, но все еще страдает, а значит – она жива!
Нелл умолчала и о том, что Люси, возвратившись от судьи, пыталась отравиться, и доктор чудом спас ей жизнь. Что через месяц после ее исчезновения Альберт с руганью выгнал из дома какую-то нищенку, умолявшую дать ей приют. А потом оказалось, что это была миссис Баркер…
Нелли знала, что Люси приходилось не только просить подаяние, но за бесценок продавать последнее, что от нее осталось. И этим она выживала… до сих пор! От горя и лишений бедняжка перестала быть собой – снаружи и внутри.
Но как же можно было говорить… почти сказать, что Люси умерла?!
Нелли отчаянно пыталась заглушить укоры совести.
«Я не хотела, чтобы ты испил до дна всю правду!..» – упрямо повторяло ее сердце.
Довольно! Нет смысла искать оправдание тому, что его не имеет. Рассудок непрестанно твердил ей: ты солгала не столько ради Бенджамина – ты солгала ради самой себя. А стало быть, ее любовь – бесчувственный, жестокий эгоизм? Но все внутри нее сопротивлялось обвинению рассудка и приговору совести: для меня это горькая правда, для него – нестерпимая боль!
Глупышка Люси! Наивная красивая глупышка… Что толку с твоего упорства: тебя не смог купить за драгоценности богач, а ты теперь дешевле куска сухого хлеба.
…Перед глазами Нелли – клочок бумаги, исписанный короткими прямыми строками. Размашистый небрежный почерк, а вместо подписи – чернильное пятно.
– Прочтите, – шепчет Люси, испуганно оглядываясь, и тут же краска приливает к ее щекам. – Мне не с кем посоветоваться, кроме вас.
Нелли откладывает в сторону противень, вытирает передником руки.
– А ваш муж? – удивленно восклицает она.
Супруги Баркер жили душа в душу, и вдруг…
– Только не он! – И Люси еле сдерживая слезы, протягивает Нелли смятое письмо. А на ее ладони остается перстень с изумрудом. – Я обнаружила его внутри… – с ужасом шепчет она.
«Некто, жаждущий вашей любви…» – Так начиналась та бесстыдная записка, и обе женщины решили, что лишь судья мог написать ее!
Посланье, вопреки его началу, вовсе не было признанием в глубоких чувствах – скорее договор с открытой датой, который непременно должен быть подписан. А самым страшным было то, что независимо от ответа Люси, Бенджамин Баркер уже был обречен. И доказательством тому – его арест.
Бесспорно, неизвестный был, по меньшей мере, титулованной особой, однако не считал необходимым называть себя. Странные письма, которые он продолжал посылать, всегда начинались роковым, угрожающим «Некто…» Писавший требовал от Люси одного – слепого и безоговорочного подчинения. Не важно, как она посмотрит на него, когда придется встретиться лицом к лицу. Достаточно того, что снизу вверх.
…Сырой осенний вечер. Нелл возвращается из конторы нотариуса. Ей удалось отсрочить выплату долгов, которые нажил ее супруг, все тот же непутевый и несносный Альберт. Теперь ей придется трудиться и ночью, и днем – иначе скоро и работать будет негде!
Нелли быстро шагает по узкой слабо освещенной улице. Глухо хлопают ставни, закрываются лавки… Из таверны доносятся крики и смех. У дверей копошатся какие-то тени. Короткая возня, угрозы, ругань, женский плач.
– А ну иди отсюда, пока цела!
Растрепанная женщина с разбегу падает на мостовую, прямо в грязь.
– Ничего я тебе больше не должен! Десять пенсов – чего захотела!?* – кричит ей вслед порядком подвыпивший ремесленник, брезгливо оправляя помятую одежду. – Кому еще ты жаловаться будешь?..
Но женщина не издает ни стона, только беззвучно сотрясаются ее худые плечи.
Нелл в замешательстве сморит на спутанные золотистые волосы.
– Люси?!..
Невозможно поверить, но это и вправду она! Запавшие огромные глаза, во взгляде – испуг и голод… Но в сотни раз сильнее – нестерпимое жгучее чувство стыда!
– Стойте!..
Поздно: бродяжка со вскриком бросается прочь.
Прошел всего лишь год с тех пор, как Бенджамин был осужден…
Нелли больше не в силах была вспоминать.
Легче вновь оказаться во власти беспутного, деспотичного Альберта и терпеть эту пытку до конца своих дней, видя Бена в объятиях Люси, только бы не было ареста, суда и приговора!..
Время, минута за минутой, час за часом, сочилось ручейком навязчивых мучительных вопросов. Что толку изводить себя напрасными «ну почему?» и «если бы…» – ведь завтра на рассвете он уйдет!
Никогда она не привыкнет с ним прощаться!
Бог видит, ради его счастья она без колебаний готова умереть, но как ей снова жить в разлуке с ним? Сможет ли Нелли выдержать и это испытание? Сможет ли?..
* В исторических статьях о викторианской Англии упоминается, что уличные женщины зарабатывали за ночь всего лишь несколько пенсов – буквально на еду и ночлежку.
Глава 14. КОГДА СУДИТ БОГ
Она не уехала. Какое-то необъяснимое шестое чувство удерживало ее в этом, снова опустевшем, старом доме, где маленькая Нелли так рано перестала быть ребенком. Тогда она впервые поняла, что в лабиринте жизни есть и темные тоннели. И вместе с этим научилась верить, что, где-то впереди, за поворотом, еще незримый человеческому глазу, сквозь крошечную щель проглядывает свет. Здесь слишком многое напоминало ей о нем. Сюда он обещал прийти, как только сможет.
– Я все-таки останусь, мистер Ти, – проговорила миссис Ловетт, передавая Тодду чемодан, который так и не распаковала с того дня, когда… Нет, больше не бояться, не вспоминать о зле! А помнить волшебные три слова, которым нужно беззаветно верить:
– Все будет хорошо.
Ее лицо на удивление спокойно, а голос абсолютно не дрожит. Суини долгим взглядом смотрит на нее. Внимательно, немного с удивлением, как будто перед ним другая Нелли, родившаяся только этим утром.
– Ну почему вы так упрямы? – с мягким упреком говорит он ей на прощанье.
Утро сереет сквозь тонкие шторки, мелкие брызги дождя падают на стекло. Как же ей удалось отпустить его без единого вздоха?.. И тихо улыбаться, глядя в след? На самом деле, так, и правда, намного легче. Их судьбы похожи на чей-то безумный, болезненный бред. Но все наладилось и снова обрело опору. Пока…
Ближайшие несколько дней проходят размеренно, тихо, по-лондонски серо. Падения и взлеты позади, и жить становится на удивленье просто: в печи – огонь, а на прилавке – пироги. Ни слухов, ни сплетен, ни подозрений. Тарелки, миски, сковородки… тараканы – как ни старайся, не прогонишь эту нечисть! Как и печаль из сердца… Нелли устало присела на скрипучий деревянный стул. «Ну что ты? Ненадолго же тебя хватило!» – одернула она себя и тут же подскочила от испуга: у входа резко брякнул медный колокольчик. Табличка с надписью «Закрыто», по-видимому, не имела для посетителя особого значения. На улице уже смеркалось, и Нелли с опозданьем пожалела, что не заперла на ключ двери магазина.
Довольно плотный невысокий господин остановился на пороге, оглядывая слабо освещенную большую комнату. Круглый живот, упитанные щеки, неторопливые жеманные манеры… «Любитель сытно пообедать, – мелькнуло в голове у Нелл, – и крепко выпить», – мысленно прибавила она не без иронии, заметив дряблые мешки под маленькими глазками клиента. «По крайней мере, не грабитель, и не вор». Осмелев, миссис Ловетт направилась в сторону гостя:
– Простите, сэр, но на сегодня у меня закончился товар, и… – Что-то в его внешности вдруг показалось ей до остроты знакомым. Вглядевшись повнимательней в самодовольное одутловатое лицо, Нелл инстинктивно ощутила скрытую угрозу. Чутье подсказывало ей, что он уже здесь появлялся… и не раз.
– Я испугал вас? – ухмыляется толстяк, слегка приподнимая котелок, и не спеша заходит в пирожковую. И снова подозрительно оглядывается, словно желая убедиться, что они одни.
– Меня привел сюда не запах вашей выпечки. Хотя, признаюсь, я не прочь ее отведать – возобновить знакомство, так сказать. Я – бидл Бэмфорд, – заявляет он, усаживаясь поудобней у стола и пристально смотрит на Нелли.
Вот оно что! Охота началась, и первый пес уже бежит по следу! Подозревая, что затишье долго не продлится и в тайне опасаясь появления Пирелли, Нелл, несмотря на предостережение Суини, не ожидала этого визита. Ну что ж, расспрашивайте, если вам угодно, мистер Бэмфорд, я здесь затем, чтоб опровергнуть все ваши догадки и доказательства!..
– Плесните мне хотя бы немного выпить, – прервал молчанье бидл, скользнув небрежным взглядом по прилавку.
– Извольте. – Нелли неторопливо направилась к буфету. Противник сам дает ей время собраться с силами и приготовиться к защите! И миссис Ловетт осенила довольно дерзкая идея, когда ее рука нащупала на полке шкафа прохладное стекло бутылки. Возможно, это слишком смело, самонадеянно… Во всяком случае, попробовать будет не лишним, и она от души налила ему полный стакан.
– Хмм… Ваше заведение, конечно, уже не то, что прежде, – начал Бэмфорд издалека, сделав пару солидных глотков. – Но ведь бывало и похуже… Давненько я здесь не бывал.
Достаточно давно – еще бы столько же!..
– Я, собственно, зашел по делу. – Он выдержал значительную паузу, и, пожевав губами, продолжал: – Вы, вероятно, слышали: совсем недавно известный лондонский судья Уильям Торпин скончался при весьма таинственных и странных обстоятельствах?
– Примите искренние соболезнования, мистер Бэмфорд, – сдержанно отозвалась Нелли. Она была уверенна, что не побледнела.
– Мой друг и покровитель перед смертью женился на своей воспитаннице, Джоанне Баркер…
«Чего теперь он выжидает – неужто поздравлений?..» – Нелли пыталась подбодрить себя острым словцом, помимо воли ощущая, как внутри нее все туже натягивается струна.
– В ночь после свадьбы девушка исчезла. Как выяснилось позже, входная дверь была открыта самодельным подобием ключа: утром отмычку нашли у порога. При этом кто-то с силой выбил двери в комнату Джоанны, сломав замок…
– Возможно, это сделал мистер Торпин, – довольно нервно усмехнулась Нелли.
– Зачем, когда он мог открыть ее своим ключом? – возразил с возмущением Бэмфорд. – Кроме того, в его покоях в ту же ночь произошел пожар! По-вашему, он сам развел огонь?
– При чем тут я? – не вытерпела миссис Ловетт. Язвительный тон и пронзительный взгляд собеседника на миг лишили ее самообладания.
– Ну что вы, дорогая? – фамильярно ухмыльнулся пристав, отодвигая от себя пустой стакан. – Я разве обвиняю вас? И в мыслях не было! Но вы могли бы мне помочь. Я кое-что припомнил и сделал определенный вывод: у маленькой Джоанны есть защитник. Не знаю точно, что у него за интерес, – он иронически хмыкнул, – но девушка послушно следует за ним… уже не в первый раз! Вы знаете, о ком я говорю. Он вышел из вашего дома с ней вместе в тот день, когда был арестован! И вы будете это отрицать?
Бэмфорд явно перешел в наступление, рассчитывая захватить ее врасплох. Он видел в Нелли ту же хрупкую чувствительную девочку, какой она была шестнадцать лет назад, забыв, что время беспощадно уничтожило ее.
«Вам не удастся одолеть меня так просто: по вашей милости я научилась выживать!» – мысленно отпарировала миссис Ловетт, а вслух произнесла, пожав плечами:
– Мужчина с девушкой снимали комнату на чердаке. Недолго. Но мне и в голову не приходило, что девушка – воспитанница Торпина. Как я, по-вашему, могла узнать Джоанну через столько лет? В последний раз я видела ее грудным младенцем. И как я могла догадаться, что мой постоялец – преступник? – почти возмущенно закончила Нелли. Еще немного, и она поверит в собственную ложь, а это маленькая, но уже победа!
Пристав насмешливо прищурил свои свиные глазки, кивая в такт ее словам.
– А после ареста того, кто якобы вам не известен, к нему в участок приходила женщина, по описанию похожая на вас…

Всего одной лишь меткой фразой он ловко выбил щит из ее рук. Что бы она сейчас не говорила, дрожащий голос выдаст ее бидлу с головой!
– Я мог бы привлечь вас к этому темному делу. Но я не доношу на женщин. – И на губах его мелькнула плотоядная улыбка. – Меня интересует Суини Тодд, – многозначительно прибавил Бэмфорд. – И в благодарность за мое молчание, вы скажете, куда он собирался ехать и где он может быть сейчас!
– А где он может быть сейчас, как не в тюрьме? Когда вы сами сообщили мне об этом! – Нелли нервно всплеснула руками, теряя терпение.
– За день до свадьбы его выпустили. Джоанна так просила за него судью! И даже согласилась выйти замуж за своего опекуна! Теперь я понимаю, в чем тут хитрость: он снова должен был прийти за ней! Наверняка, они любовники, ведь правда?
– Мой постоялец расплатился и ушел – дней десять тому назад и больше здесь не появлялся! – резко бросила бидлу миссис Ловетт. Под маской раздражения она с трудом скрывала охвативший ее страх. Она была в ловушке! И если не удастся выбраться, они погибнут вместе – и она и Бенджамин! Ей нужно выпроводить Бэмфорда во что бы то ни стало – ни с чем, потом она уедет и предупредит… А если за ней проследят?!
Неожиданно вкрадчивый голос прервал ее мысли:
– Ну, полно, не упрямьтесь, Нелли. На вашем месте, я был бы полюбезнее, гмм… в дань нашей старой дружбе. – Бэмфорд поднялся со стула и направился к ней неуклюжей развязной походкой. – Помнишь доброе старое время, когда я заходил в твой магазин отведать лучших в Лондоне черничных пирогов. – Он как будто бы невзначай перешел на фамильярное «ты».
– Тогда я был так молод… Но разве годы причинили мне ущерб? – Самодовольная ухмылка растянула его губы.
Нелли и впрямь не видела существенных различий… между молодым и старым свином: он был противен ей, как таракан, барахтающийся в супе! Но в данном случае ее саму вот-вот поглотит зыбкая трясина, а значит, нужно улыбаться и молчать! Вместо ответа миссис Ловетт снова щедро наполнила стакан и твердым, уверенным движением поставила его на стол. Еще усилие: короткий шаг к прилавку... Руки ее как будто жили сами по себе, но не имеющие смысла действия не возвращали сердце в прежний размеренно-спокойный ритм. А перед бидлом – аккуратная хозяйка старательно, пожалуй, даже слишком, стирала масляные пятна, смахивала крошки, переставляя стопки невымытых тарелок. Работы, к счастью, предостаточно!
– В ту пору я довольно часто приходил... к тебе! Правда, здесь постоянно торчал твой зануда-муженек, а ты все с нежностью поглядывала на этого… как же его… – Бэмфорд наморщил свой низкий лоб, тщетно пытаясь припомнить имя, но Нелли сразу поняла, о ком он.
Вот и коснулись старой истории. О, если бы ей только удалось умело повести беседу и выведать у бидла, кто на самом деле стоял за всей этой игрой! Нелли бросила взгляд на стакан: зажатый в толстых пальцах Бэмфорда он был уже наполовину пуст. Ничтожно мало, чтобы рисковать, расспрашивая обвинителя на собственном допросе!
Он подошел почти вплотную к Нелл.
– Бенджамин Баркер, ведь так его звали?.. – раздалось у нее за спиной. Миссис Ловетт замерла. В наступившей вслед за этим тишине громко зазвенело фарфоровое блюдце, и черепки рассыпались по полу.
– Вы приходили к Люси, не ко мне! – со злобой в голосе отрезала она, брезгливо отстранившись.
– Я?! – Бэмфорд прыснул и поперхнулся.
– А кто же – судья Торпин? – с иронией бросила Нелл. Нелепые фразы, спонтанно приходившие в голову, служили ей слабой, последней защитой.
– Ничуть не бывало: она не в его вкусе.
– Потому он прислал ей кольцо с изумрудом!
– Кольцо стащил пронырливый цирюльник, ее муж! За что и получил пожизненную каторгу! – Бэмфорд начал уже понемногу хмелеть, и почти не скрывал своего раздражения. Не понимая толком, к чему все эти странные вопросы, он приписал их женскому ревнивому капризу. – А жена его – та еще штучка: закрутила с одним из гостей на балу и забыла про беды и слезы. А ведь она явилась к Торпину подать на апелляцию!
Мало было назвать это просто бессовестной ложью! Но Нелли с честью удержалась от искушения вцепиться острыми ногтями в щеки бидла и выцарапать его лживые глаза.
– Да с кем же это? – усмехнулась миссис Ловетт так, словно похожденья Люси разожгли в ней самое живое любопытство.
– Ах вы, маленькая сплетница! – Бидл снова нахально придвинулся к ней. – Почем я знаю, если там все были в масках?.. Да сколько можно говорить об этих Баркерах, в конце концов? – Джин против ожиданий не развязал ему язык. Зато, хмелея, Бэмфорд, безо всякого стеснения, позволил себе распустить руки.
Но миссис Ловетт явно не стремилась потворствовать его развязным прихотям. На этот раз она не только отстранилась, но весьма ощутимо оттолкнула его прочь.
Бэмфорд икнул и, покачнувшись, оперся о дубовый стол. Не хватало, чтобы эта дурочка вздумала кричать и привлекла сюда пол-улицы! Ему не нужно славы – он скромный, но… кажется, под пирожковой есть подвал? Уж там они договорятся обо всем!.. Он ухмыльнулся, по привычке оправляя кружева своих манжет.
– Да что вы позволяете себе!? – И Бэмфорд принял вдруг официальный вид, насколько позволяло состояние. – В первую очередь я здесь по долгу службы! Видите ли, поступили жалобы по поводу удушливого запаха из вашей трубы, и мне необходимо увидеть ваш подвал. А заодно проверить, в каких условиях у вас хранится и разделывается мясо! Насколько мне известно, именно в подвале устроены большая мясорубка и большая печь?
Неуклюжей походкой бидл направился к низкой, обитой железом двери. Как оказалось, он прекрасно помнил каждый закоулок в этом доме, который так и не научился уважать.
– Откройте мне и посветите! – приказал он тоном, не допускающим ответных возражений.
Не нужно было обладать особой проницательностью, чтоб разгадать его коварный замысел. Там, в глубине глухого подземелья их никто не услышит. Вернее – ее! И все ниже спускаясь по длинной, узкой лестнице с короткими неровными ступенями, Нелл инстинктивно чувствовала, что движется навстречу какой-то роковой, зловещей неизбежности. Выбора нет. Осталось только несколько шагов… «Ты смогла пережить и нужду, и невзгоды, и разбитые вдребезги девичьи мечты, а во тьме ты лелеяла в сердце надежду на то, что однажды наступит рассвет…» Еще четыре шага. Три… Ей почему-то именно сейчас припомнились слова священника, который принял ее краткую, но искреннюю исповедь. То было накануне свадьбы с Альбертом. «Бог никогда не посылает больше испытаний, чем мы способны вынести…» – сказал он Нелл и отпустил ее грехи. «Ты выдержала бесконечные шестнадцать лет в разлуке с собственной душой – не дай же запугать себя сейчас! Ради него!» Осталось две ступеньки... Ее пальцы ложатся на холодный железный засов. Протяжный скрип еще одной тяжелой двери – и зловонная сырость пахнула ей в лицо. Похоже, эта участь не миновала Бэмфорда: поспешно вынув из кармана надушенный платок, он тут же прикрыл свой не в меру чувствительный нос. Пропустив миссис Ловетт вперед, он осторожно, при каждом шаге постукивая тростью по каменному полу, проследовал за ней. При тусклом свете фонаря Нелли увидела, как под ее ногами метнулось что-то темное. В углу послышалось шуршание и слабый писк. Извольте, сэр, вы сами этого хотели: добро пожаловать!
Внезапно миссис Ловетт содрогнулась: раздался гулкий звук захлопнувшейся двери. Тем лучше! Мы заперты в одной ловушке! Но вы забыли, что я тоже способна на борьбу!
Остановившись посреди подвала, пристав, брезгливо морщась, осмотрел его нехитрое убранство: большая мясорубка, большая печь, в которой, затухая, тлеют угли, а чуть поодаль – водосточный желоб, по стенам кое-где сочатся ручейки… Все как и полагается в подобных помещениях: длинный, темный приземистый коридор вел в зловонные лабиринты лондонской канализации.
– Хмм… Не особо здесь уютно, зато никто не помешает разговору! – заметил Бэмфорд. – Итак, на чем же мы остановились? Ах, да, – насмешливо продолжил он, – Суини Тодд! Уверен, что теперь вы мне расскажете, где скрывается этот человек!
«Разговор» сильно смахивал на допрос в камере пыток, но миссис Ловетт больше не пугали нападки самоуверенного пристава. Она, сама не понимая, почему, вдруг ощутила себя на равных со своим врагом.
Бидл Бэмфорд еще раз огляделся в полумраке. Довольная ухмылка скользнула по его губам, и медленно, подобно зверю, крадущемуся к жертве, он начал приближаться, выжидая удобного момента для броска… Огромная уродливая тень ползла по стенам за его спиной. Вот ваша истинная сущность – жирный ненасытный хищник, жаждущий легкой добычи. Вам лучше, как шакал, питаться падалью! Не ожидали, что охота превратится в схватку?
Нелл оперлась рукой о жерло мясорубки, следя за каждым его движением. Перед ее глазами вдруг пронесся хоровод разряженных аристократов – пестрая масса сотрясалась в приступе злорадного веселья. Свиные рыла и кабаньи морды, оскаленные волчьи пасти… Вы думаете, вы надели маски: вы их сняли!
– Не смейте! Прочь отсюда! Я вам не Люси! – в негодовании вскричала Нелл.
Она схватила толстяка за ворот и с силой оттолкнула от себя. В ответ послышалось утробное рычанье. Его намерения были очевидны: Бэмфорд избрал насилие угрозой, которая заставит ее заговорить. Они отчаянно боролись несколько секунд. Не издавая даже сдавленного стона, Нелл яростно царапала ногтями нависшее над ней лицо, а в это время мерзкие лапищи пытались разорвать на ней одежду. Ее безмолвное сопротивленье было вызовом, и бидла поразила ее реакция. На миг он выпустил из рук свою добычу, прикрыв рукой израненную щеку. Когда боятся, умоляют о пощаде, кричат и плачут – значит, миссис Ловетт не боится? Или боится, но не за себя?.. Да кто же этот чертов Тодд, который так ей дорог?
– Ты защищала бы так только одного! – со злобой прошипел сквозь зубы Бэмфорд. – Когда его отправили на каторгу, ты места себе не находила, точно готова была последовать за ним! – Он пристально уставился на Нелл… И неожиданное подозрение почти мгновенно превратилось в твердую уверенность.
– Это Бенджамин Баркер, ведь так!?
Нелли застыла, точно Бэмфорд одним ударом поразил ее насквозь. «Все погибло!» – звенящая тьма застилает ей глаза, а мысли ослепительными вспышками проносятся в мозгу. Даже не мысли, а инстинкты, молниеносные порывы, которые не передать словами. И между частыми толчками пульса – их сразу несколько. «Бежать, отрицать!.. Поздно!» Рывок – и она устремляется к выходу: «Замок! Скорее!.. Успеть!»
– Куда?! – Тяжелая рука отбрасывает Нелл назад, железный выступ мясорубки впивается в ее плечо.
– Ни ты, ни твой любимый Баркер – не уйдете от суда!
Скользя по влажному от сырости железу, ее пальцы нащупывают деревянную рукоять... Прерывистое хриплое дыхание – снова над самым ухом. Тупой удар – истошный гневный вопль, падение грузного тела… Закрыв глаза, она не слышит больше ничего. Тьма становится белой, как снег, тело не чувствует боли. Мысли замерли, словно исчерпали себя. Время сочится где-то бесконечно далеко, за смутными пределами сознания…

Внезапно чей-то голос вырывает ее из забытья, прохладная ладонь приподнимает ее голову.
Нелли робко вгляделась во мрак. Воображение порою преподносит нам сюрпризы, играя с нами злую, но такую сладостную шутку! Мираж становится реальностью и обретает дух и плоть. Ты прикасаешься к нему и ощущаешь теплое дыханье…
– Миссис Ловетт, очнитесь! Вы ранены? – Большие темные, блестящие глаза с тревогой ищут ее взгляда. Черные волосы влажными прядями падают на бледное лицо, по лбу стекают капельки дождя.
Он возвратился. Как и обещал. А если обещал, то так и будет…
Суини осторожно приподнял ее с земли. В его объятиях тело становится невесомым, как воздух. Такое чувство, будто снова учишься дышать, пускай вокруг зловоние и сырость. Подвал! Нелли со страхом посмотрела в темноту поверх его плеча и различила очертания лежавшего неподалеку тела. А в двух шагах, у желоба – окровавленный топор.
– Я… убила его? – прошептала она. – Я убила его! Это правда?..

Тодд не ответил, только крепче прижал ее к себе.
– Он догадался, кто ты! – срывающимся голосом проговорила Нелл, и горло ее сжалось от рыданий. Внезапно слезы брызнули у нее из глаз. Сейчас, когда опасность миновала, силы, в конце концов, покинули ее: миссис Ловетт опять превратилась в беззащитную хрупкую девочку. Суини понимал, что каждая слеза излечивает раненную душу и помогает побороть свое бессилие. Он опасался, что жестокая, непостижимая измученному разуму реальность, заставит ее спрятаться внутри себя, и там останутся и боль, и страх, и слезы. Он был мужчиной, но ему понадобились месяцы, чтобы впервые после страшного удара вновь ощутить спасительную горечь слез, и годы, чтобы научиться их не проливать. Тогда он был совсем один… Но Нелли справилась. Когда ее рыдания затихли, Суини наконец решился с ней заговорить:
– Не вы убили Бэмфорда – он сам нашел заслуженную им участь, – тихо произнес он.
Нелли невольно поймала себя на мысли, что Тодд не задал ей не единого вопроса: он просто верил ей, ни минуты не колеблясь, и поэтому знал обо всем!
– Я попыталась выведать… имя человека в маске. Но не смогла! Теперь мы так и не узнаем, кто он… – Нелл подняла на него влажные, покрасневшие глаза.
– Не важно. Главное, что все закончилось. Почти. – И Тодд внимательно вгляделся в ее лицо, как бы желая убедиться, что она действительно пришла в себя. Им предстояло выполнить нелегкую задачу, и лучше было сделать это поскорее.
– Кто-нибудь видел, как он сюда входил? – спросил он, мягко отпуская миссис Ловетт.
– Не знаю… – в замешательстве проговорила Нелл. – Но он пришел один…
Суини медленно приблизился к печи, осматривая стену. Там, чуть поодаль, каменная кладка немного отличалась по форме и размеру кирпичей.
– Нужно избавиться от тела, – сказал он как можно спокойнее.
– И мы сожжем его в печи? – чуть слышно выдохнула Нелли.
– Нет, это слишком долго*… и отвратительно. К тому же, не удастся сжечь его дотла.
Вернувшись к мясорубке, Суини наклонился над лежавшим навзничь телом Бэмфорда. Сомнений не было: он умер, причем почти мгновенно. Лицо застыло, искаженное чудовищной гримасой, а неподвижные открытые глаза бессмысленно смотрели в потолок. Тодд набросил ему на лицо свой платок и подвел миссис Ловетт к стене возле печки.
– Послушайте, о чем я думаю, – ощупывая кладку, начал он. – Там, наверху, справа от дома – церковь святого Дунстана. А за перегородкой, по моим расчетам, расположен склеп. Если ее разобрать, мы попадем туда и спрячем тело в чью-нибудь могилу.
Нелл, затаив дыханье, молча слушала Суини. Щадя ее, он выражался лаконично, но действия и вещи приходилось называть своими именами. Могила, склеп… Живые никогда не ужасают так, как мертвые. Особенно давно усопшие… Но рядом был решительный и чуткий человек, готовый разделить с ней все невзгоды, и это возвращало силы жить, какой бы ни была их жизнь! Стараясь раньше времени не представлять себе пугающую мрачную картину, Нелли отправилась в кладовку. В последнее время они посещали ее слишком часто, а инструменты приходилось применять при обстоятельствах, которые хотелось бы забыть. Сегодня ей понадобится то, чем можно расшатать глухую стену… в небытие. И каждое движение впечатывалось в память, не оставляя шанса на забвение, а сердце билось коротко и часто, как будто не стена подвала, а крохотный уступ у края возбужденного сознания вот-вот обрушится, и все сорвется в темноту.
Лом, несколько железных кольев, большой тяжелый молоток… Руки Нелли до сих пор лихорадочно дрожали, когда она, спустившись в подземелье, передала все это Тодду.
– Хватит или нужно что-нибудь еще? – Она смотрела только на него: так было легче говорить.
– Достаточно. – Суини одобрительно кивнул. Он снял свой плащ и завернул повыше рукава рубашки. – Может, вам лучше подняться наверх? – спросил он, с беспокойством глядя на миссис Ловетт.
– Нет! Я останусь! – Нелл почти была готова уцепиться за его тонкое запястье, на котором виднелся побелевший от времени шрам. Она не бросит его, что бы ни случилось, не согласится трусливо отсиживаться в спальне! Или… она так сильно боится саму себя? Тем лучше! Но никакая сила не заставит ее сейчас уйти. И Тодд не тратил больше времени на споры.
– Хорошо, – сказал он только и молча принялся за дело.
Рассохшаяся кладка довольно быстро поддавалась, ссыпаясь после каждого удара молотка, и вскоре длинный острый кол вонзился в стену больше, чем нам половину. Предположения Суини оправдались – за каменной преградой оказалась пустота. Не отрываясь, он упорно продолжал работу, расшатывая каждый дюйм цемента по краю небольших продолговатых кирпичей, и монотонный стук железа о твердый камень помимо воли пробуждал в нем болезненные воспоминанья. Те же движения, те же усилия – дни напролет, месяцы, годы… Несчастные, отверженные Богом и людьми, покорно следуя жестокому приказу, бесцельно пробивались в темноту. По роковой иронии судьбы туннель, в конце которого уже не будет света, в последний раз становится для Бена тем самым рудником. Но в эту ночь он снова выйдет на свободу, а зло останется под каменной плитой. Здесь нет ничьей вины. Нет ненависти больше, нет угрозы…
Осталось вытащить еще десяток кирпичей, и перед ними приоткроются врата в небытие. Из черного провала повеяло колючим холодом, и Нелли, ощутив его, непроизвольно отступила. Если в подвале чувствовался дух огня и острое зловоние канализации, то эта беспросветная дыра дышала завораживающей, потусторонней пустотой, лишенной даже запаха. Отбросив инструменты, Суини повернулся к Нелл, переводя дыхание.
– Насколько мне известно, могилы в склепе очень давние и отравленье трупным ядом невозможно. Но все же я сперва проверю сам. – Он взял фонарь и, наклонившись, осторожно шагнул в тоннель. – Вы сможете немного подождать меня?
– Да, смогу, – ровным голосом ответила Нелли. Ей даже удалось поверить в собственную храбрость, хотя бы ненадолго.
Шаги Суини стихли где-то вдалеке, а свет совсем исчез из виду. И вот она осталась в полной темноте – наедине с собой! Что видят мертвые, когда закрыты их глаза? Как выглядит дорога в ад?.. Безмолвие становится пронзительнее крика, отрывистые звуки падающих капель врезаются в глухую тишину. В ушах стоит какой-то странный шум, похожий на шуршанье крыльев…
Под сводами подвала проносится сухой щемящий скрежет, как будто сдвинули тяжелую каменную плиту. Пора!
Суини возвратился через минуту, которая ей показалась вечностью.
Дальше все происходит как в тумане: тело, точно машина, повинуется разуму, короткие шаги – почти вслепую, и тяжело, безумно тяжело!..
Впервые в жизни Нелли испугала пыль, посыпавшаяся со стены; на глаза упала липкая полоска паутины. Даже при помощи Суини, ей стоило огромного труда протиснуть грузную бесформенную ношу в довольно узкое отверстие стены.
Ноги скользят по выщербленным плитам, порывистый сквозняк врывается в тоннель. Они в заброшенном церковном склепе, почти у края приоткрытой каменной могилы. И Нелл изо всех сил сжимает веки, боясь увидеть, чтó проглядывает между гробовыми досками, прогнившими от времени.
Бесчувственное тело, которое покинула бесчувственная, жалкая душа, соскальзывает в черную дыру. Без эпитафии, без отходной молитвы. Тодд рывком возвращает на место плиту… Все завершилось? Или новые невзгоды и страдания подстерегают их впереди? Перед рассветом ночь непроницаемо темна. Судьба непредсказуема, как эта ночь. Порою сила свыше останавливает нашу руку в тот самый миг, когда мы в ярости готовы отомстить. Но бывает и так, что Бог избирает орудием своей воли человека, чтобы свершить земное правосудие. Это самое трудное испытание, и его нужно выдержать! Несмотря ни на что.

Не выпуская руку Нелли, не оглядываясь, Тодд вывел ее из подвала и запер железную дверь.
– Я больше не оставлю вас, миссис Ловетт. Вы уедете вместе со мной, – сказал он ей.
Сквозь окна уже брезжила заря: прошло немало времени, пока они опять сложили кирпичи на место, закрыв зияющий провал в стене. Топор был убран, пятна крови смыты в водосточный желоб. И нет следов, как будто все произошло в бреду. Но они никогда не забудут об этом.
Нельзя по-настоящему понять чужих переживаний, не испытав их самому хотя бы раз. Нельзя судить о человеческих поступках, не ведая их истинной причины. Угроза, боль, отчаянье и безысходность, сплетенные в одну тугую цепь, лишают воли, увлекая нас на дно. Такая участь выпала на долю Люси Баркер, и Нелл на краткий час как будто стала ею в эту ночь. На грани между ужасом и полной отрешенностью она почти утратила себя. Но рядом с нею оказался друг. Он отыскал ее, помог подняться – и увел. А Люси некому подать руки! Как можно было даже в мыслях допустить, что ради Бенджамина Люси следует исчезнуть с лица земли лишь потому, что она больше, чем когда либо, нуждается в защите? И Нелл не вправе обрекать ее на одиночество! Бенджамин стал ей братом, даже ближе, не оставляя между ними места для другой любви…
Зыбкие призрачные тени отступили, как только они вышли за порог. Утро дышало влажной прохладой и едва уловимой горечью дыма – запахом будней в мире живых.
Тодд помог ей подняться в экипаж. Дверца со стуком захлопнулась, послышался сухой щелчок хлыста, и лошадь тронулась.
Нелли устало закрывает воспаленные глаза. Тело словно уносит по течению реки, странное чувство зарождается в душе. Он рядом, а тоска разлуки позади. Но труднее всего отпустить, не прощаясь, не выпуская его руки – навсегда отказаться от мечты. Нет, ей не обмануть себя: любовь не подчиняется законам, ее нельзя сослать в изгнание и не казнить, пока живет и бьется сердце. Но любовь измеряется жертвой ради счастья того, кого любишь. Это самая чистая боль, без которой скудна и бессмысленна жизнь. Для нее и для Бенджамина. И для Люси.
– Прости, любимый! Твое счастье будет горьким, как печаль. Но я найду ее и приведу к тебе. Чего бы мне не стоило, – чуть слышно прошептала Нелли, пытливо вглядываясь в темные провалы закоулков, как будто вопрошая свою судьбу. – Если еще не поздно…
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:
* В бытовых условиях сжечь труп взрослого человека почти невозможно. Рассказы о сжигании трупа в печи за 3-4 часа следует считать вымыслом. Для сжигания трупа весом 60 кг Бруарделю понадобилось 40 часов, а А.С. Игнатовскому – 50 часов.
(Очерки судебной медицины (курс лекций) / Десятов В.П. — Томск, 1975. — С. 176-177)
Глава 15. МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ЗНАЮ ВАС...
Крутая лестница, ведущая во мрак и бесконечно длинный коридор... Ступая по неровным, стоптанным ступеням гораздо легче сорваться в никуда, чем выбраться наверх. Со всех сторон – глухие стены темноты, а тишина отрывисто роняет капли влаги в пустоту. Нелл настороженно застыла, не смея шелохнуться. Путь к отступлению отрезан: она окружена. Незримые путы натянуты до предела. Одно движение – и каменные своды подземелья обрушатся, не станет ничего, и даже этот странный, завораживающий кошмар исчезнет вместе с нею навсегда… Бежать!
«Ты убиваешь своего врага, а новый – зарождается внутри тебя…» И о нем невозможно забыть, как не стереть из памяти невыносимый запах смерти, вдохнув его хотя бы раз! У человека лишь одна душа, одна судьба и их не заменить другими. Убежать от себя не удастся!
Нелли бессильно опускается на скользкий выщербленный пол. Ей суждено остаться в этом замкнутом аду, где даже нет ни искры пламени. Могильный холод пробирается под кожу; еще немного, и ее измученное тело навеки станет частью каменной тюрьмы…
Но чей-то голос, глубоко внутри нее упорно требует ответа на вопрос: «А если бы все снова повторилось? Смогла бы ты осознанно убить?» – «Нет! Тысячу раз нет!» И в тот же миг бесплотный призрак, проникший в ее раненную душу, как будто рассыпается на части. «Хоть он и умер от моей руки – я не убийца! – беззвучно шепчут губы Нелл. – Мы боролись как жертва и хищник – и лань защитила себя!»
Безмолвие. Кругом темно. Время сочится, словно тонкий ручеек песка, и гулко капает вода…
«…И я спасла того, кого люблю!» – Неудержимый возглас торжества внезапно вырывается на волю, а вдалеке, сквозь трещину в стене, проглядывает ровный белый свет!
Он рядом.
Страхи исчезают, и не нужны слова. Надежная опора крепких рук и легкое дыханье у щеки… Он рядом! Так просто и непостижимо смотреть на бледное прекрасное лицо – закрыв глаза! Нелли искренне верит, что это не сон. Внутри нее рождается неведомая сила, ей не хватает воздуха и хочется кричать! Кто не терял себя, тот, не поймет. Надежда, смысл жизни, каждое мгновение и даже каждый вздох – все это для нее имеет имя – Бенджамин.
Он так близко, что ближе нельзя! Его прикосновения вызывают дрожь, а губы все настойчивее ищут ее тепла. Тревоги растворяются во тьме – она уже не кажется колючей, беспросветной и немой. А ночь – не больше, чем полоска черной ткани на глазах… Но почему сейчас ее уже не хочется сорвать?
– Я ждал так долго … – В жарком шепоте слышатся нотки невысказанной, затаенной боли.
– И я… Несмотря ни на что.
Невидимые ласковые волны уносят Нелли к свету, окутывая разум легкой дымкой забытья, а Бенджамин все крепче прижимает ее к своей груди… отталкивая, убивая одним единственным, безжалостным как правда, словом:
– Люси… Люси!..
Нелли проснулась в холодном поту. В ее оцепеневшем теле сердце билось, точно птица в клетке, а пальцы лихорадочно сжимали простыню. С трудом переводя дыханье, она в изнеможении опустила руки. Ее любовь – наивное дитя иллюзии и мать печали.
Утро. В комнате пусто и тихо. Низкий деревянный потолок, светлое пятно окна. Нелл осторожно поднялась с кровати, ища одежду. Постель Джоанны чуть поодаль была уже накрыта покрывалом, на стуле в изголовье осталась только шелковая шаль. Куда она могла пойти так рано?
– Спасибо, папа! – Звонкий девичий голос доносится сквозь неплотно закрытую дверь. – Мы вернемся сразу после службы! Ну что с нами может случиться?
В ответ – недолгое молчание, в котором Нелл угадывает еле слышный вздох.
– Прошу тебя, Джоанна, береги себя…
Их шаги удаляются.
– Обещаю!
– До вечера.
Как много времени прошло с той страшной ночи в подземелье? Порою кажется –целая вечность, а иногда – что все это произошло вчера. Дни протекали незаметно, не оставляя за собой следа. Суини снял две маленькие комнатки в сравнительно недорогой гостинице. Одна из них служила убежищем для Нелли и Джоанны, вторую занимал он сам. Суини покидал их рано утром и возвращался только к ужину. Последовав совету друга, он овладел еще одной профессией, и вскоре мистер Хоуп с одобрением признал, что у него вполне достойный ученик. Каждый из нас – кузнец своей судьбы. Для Тодда эта поговорка за годы испытаний приобрела гораздо более глубокий смысл. Не достаточно просто решить – нужно выполнить. И не чей-то, а собственный жизненный опыт поможет нам не оказаться между молотом и наковальней.
Он мог бы продать ювелиру один из бриллиантов колье, что все еще хранилось в том самом чемодане Нелл, и ему не пришлось бы трудиться от зари до зари. Но только крайняя нужда или опасность могли заставить Тодда коснуться денег, в которых заключалось для него проклятье прошлого. Он привык зарабатывать их сам.
А в это время Люси неприметно жила по-прежнему вдали от них. А может, совсем рядом? Как отыскать ее в огромном городе, среди толпы чужих людей?
– Ах, Нелли, вы уже проснулись! – Лицо Джоанны светилось радостью. – Вы не забыли: сегодня мы вместе идем в церковь. Папа все-таки разрешил! Мне кажется, я не была там сотню лет!
Нелли слегка опешила. Сколько же лет не посещала церковь она сама? Наверное… с тех пор, как поставила свечку за упокой души бедняги Альберта. А церковь на Флит-стрит была как раз напротив ее дома! Почему же она отдалилась от Бога, перестала молить Его о спасении? Не оттого, что потеряла веру, нет. Возможно, потому, что Он был недосягаемо далек…
– Мне хочется успеть уже на утреннюю службу! – живым певучим голосом воскликнула Джоанна. – Сегодня будет солнечный прекрасный день!
– Ну-ка, посмотрим. – Нелли улыбнулась и подошла к окну. Пора проснуться, вырваться на волю, вдохнуть живительный весенний ветер. – Какое восхитительное утро! – задумчиво сказала она вслух, украдкой провожая взглядом стройную фигуру в темном кожаном плаще.
– Сейчас я заверну рубашки – мы отнесем их в лавку по пути. – Джоанна выпорхнула в комнату отца, тихонько напевая на ходу.
Неподалеку от гостиницы располагался магазин, где продавали ткани и готовое белье. Безделье не было привычкой миссис Ловетт, и ей пришла идея предложить хозяйке лавки свои услуги в качестве швеи. Попытка, откровенно говоря, довольно смелая, учитывая, как давно она не прикасалась к иголке с ниткой. Но Нелли удалось добиться своего: всю прошлую неделю они вдвоем с Джоанной усердно выполняли первый полученный заказ.
На ремесленной улице не было места тавернам и прочим притонам, по ночам здесь царили тишина и покой, а в рабочие будни – оживленье пчелиного улья. Флит-стрит жила совсем иначе и, к счастью, далеко отсюда. В этом квартале миссис Ловетт никто не знал, а Тодда и подавно. Никто не задавал им подозрительных вопросов, ничто не предвещало новых бед. Но непредвиденное происходит гораздо чаще ожидаемого. Суини ни на миг не забывал об этом. Джоанне стоило немалого труда уговорить отца позволить ей хотя бы ненадолго выйти в город. Она легко могла бы отказаться от прогулки, но церковь с детства стала частью ее жизни. И, наконец, Суини уступил.
Воздух был свеж и прозрачен. Утро дышало приятной прохладой и запахом теплого хлеба. Весна заполнила собою все вокруг безоблачной лазурной синевой и нежным воркованьем голубей, и Лондон словно родился заново. Неважно, на неделю или только на день – счастье живет настоящим, и поистине ценно лишь то, что не вечно.
– Люди чем-то похожи на деревья и травы – также тянутся к солнцу, – с улыбкою заметила Джоанна, любуясь яркой зеленью листвы. – Не понимаю, – вдруг спросила она Нелли, – почему мой отец до сих пор так боится за вас? Возможно, мистер Бэмфорд вам не поверил, но разве что-то угрожает вашей жизни… или свободе?
– Конечно, ничего, – поспешно согласилась миссис Ловетт. – Но ты ведь знаешь: человек, подобный Бэмфорду, способен легко отправить за решетку невиновных. Прошлое пока не отпускает нас, и мы должны быть осмотрительны.
– Вы правы. – Девушка вздохнула и с тревогой оглянулась по сторонам. – Иногда мне кажется, что у него повсюду сотни глаз: они за каждым поворотом, за каждой занавеской проезжающей кареты! Но так не может продолжаться бесконечно…
– Я тоже часто задаю себе вопросы, ответить на которые способно только время, – задумчиво проговорила Нелли. – Нам остается терпеливо ждать.
Она забыла, сколько раз произносила это слово наедине с собой. Короткое, вместившее в себе полжизни, а может быть и всю. Томительнее разве что молчание – суровый спутник и… надежная защита.. Суини разделил с ней тайну той ужасной ночи, по-братски поровну, и не осталось даже крохотной частицы: Джоанна так и не узнала, что Бэмфорд больше не способен им вредить.
– Придраться не к чему: работа очень аккуратная, – довольно улыбнулась хозяйка магазина, внимательно рассматривая швы на шелковой сорочке. – Такой товар здесь долго не задержится. Даже как-то жаль… Пожалуй, я не стану дожидаться, пока его раскупят, а заплачу вам сразу. Держите деньги, вы их честно заслужили!
– Вам, правда, нравится? – переспросила Нелли, не скрывая удивления.
– Конечно. Приходите через пару дней – получите новый заказ.
От радости Джоанна захлопала в ладоши: она впервые заработала на хлеб своим трудом.
– Действительно сегодня прекрасный день: уже с утра нам улыбается удача, – воскликнула она, выйдя из лавки. Ее небесно-голубые глаза сияли, а щеки окрасились легким румянцем. – Пойдемте же скорее, вот-вот начнется служба!
Свежий воздух и яркое майское солнце чудесным образом преобразили девушку. В ней пробудилось прежнее восторженное беззаботное дитя, испуганно притихшее на время. Ее волнение похоже было на бодрящий теплый ветерок, и с непривычки от него слегка кружилась голова.
– Я совсем разучилась ходить, – шутливо поругала себя Нелли. – Остановись, я еле поспеваю за тобой!..
– Давайте я вас научу! – И Джоанна, смеясь, протянула ей руку.
Почти безлюдная извилистая улочка довольно скоро привела их к церкви.
На паперти уже собралась кучка нищих. Одетые в потертые лохмотья, они стояли в молчаливом ожидании, в надежде, что мелкие монетки сердобольных прихожан согреют их протянутые руки.
Заранее достав из кошелька немного мелочи, Джоанна протянула деньги женщине, стоявшей чуть поодаль, у стены. Та робко приоткрыла исхудавшую ладонь, и медная монетка, блеснув на солнце, осталась в ее дрожащих пальцах. Спасительная тонкая соломинка – несчастной удалось поймать один ее конец. Всего секунда-две, и оборвется невидимая нить – на том, другом конце соломинки останется лишь еле уловимое тепло, которое развеется как пепел на ветру. И так бесчисленные сотни раз: люди протягивают руку, затем уходят. Никто не в праве их за это упрекнуть.
Не поднимая головы, покрытой серым капором, поношенным до дыр, женщина тихо пробормотала что-то. От голода она с трудом держалась на ногах, и трудно было разобрать ее невнятные слова. Но внезапно пронзивший сознание внутренний голос заставил Нелли вздрогнуть. Непомерно свободное платье с чужого плеча, шерстяная потертая шаль… и тусклая, почти седая, прядь волос, случайно выбившаяся из-под капора…
Нелл осторожно наклонилась к нищенке, пристально вглядываясь в ее бледное лицо.
– Возьмите… – Поднявшись на крыльцо, Джоанна раздавала монеты остальным. – Жаль, что я не могу дать вам больше.
– Джоанна… Джоанна, постой, мне кажется, Бог нас услышал! – Голос Нелли дрожал от волнения. – Да, это вы. – Она не спрашивала, хоть и не была еще полностью уверенна. – Вы – Люси Баркер…
Женщина вдруг встрепенулась: два имени, подобно ярким вспышкам, как будто вырвали ее из забытья. Первое нежно манило к себе, словно потерянный рай, второе… уже почти ничье – коварная игра до странности знакомых звуков, обманчивый мираж. Болезненные потускневшие глаза поймали изумленный взгляд небесно-голубых – всего на краткий миг. Монетка звякнула о камни мостовой и закатилась в трещину.
– Нет, нет… – Не в силах отвести глаза, женщина быстро заслонилась тонкими руками и отступила вдоль стены.
– Подождите! – Джоанна была уже рядом. – Никто не причинит вам зла! Послушайте: мои родители – Люси и Бенджамин Баркер. Скажите только… – Она присела, чтобы снова встретить этот взгляд, в котором промелькнула слабая, почти невидимая искорка, похожая на радость и испуг одновременно. – Вы… Мама, это ты? – Девушка спросила вдруг прямо и легко, не подбирая слов, как задают вопросы только дети. Не замечая бренной оболочки, которой так стыдилась Люси, она настойчиво искала душу – раненную душу, потерянную много лет назад.
– Я… – Женщина склонила голову, закрыв лицо руками, и так и не смогла договорить.
– Чего вы от нее хотите? – прервал их чей-то хрипловатый голос. – Раздавайте уже, что осталось, и топайте дальше!
Джоанна опасливо оглянулась. Из-под широкого помятого плаща к ней угрожающе тянулась довольно грязная костлявая рука. И тут же позади нее послышался негромкий вскрик и частый торопливый стук шагов по мостовой. В отчаянии Люси убегала, не оборачиваясь, будто все ее терзания и страхи гнались за нею по пятам. Она сама казалась призраком, нечаянно явившимся живым при свете дня.
– Нет! – Нелли подхватила за руку Джоанну и устремилась вслед за ускользающим виденьем.
Люси бросилась в сторону перекрестка. Прерывистое хриплое дыхание мешало ей бежать – она искала близкого убежища, укромного заброшенного закутка, куда не проникают яркие слепящие лучи и человеческие взгляды. Сейчас она свернет за угол…
При мысли, что они найдут за поворотом пустую улицу, похожую на тысячи других, ведущую в десятки переулков, у Нелли закружилась голова. Прижав к груди подол, она едва успела уклониться от фонарного столба, внезапно выросшего на ее пути. Ступенька тротуара, колючие ветки кустов, торчащие из-за ограды… С разбегу Нелли налетела на плотное, широкое препятствие, увенчанное шлемом. Полицейский! Пытаясь высвободить руку, Люси из последних сил сопротивлялась крепко державшему ее мужчине.
– Она украла у вас что-то? – произнес суровый голос.
Нелли понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. В глазах рябило от волнения, точно от света на воде, сквозь пляшущие блики постепенно проступало хмурое, недовольное лицо.
– Конечно, нет! – испуганно воскликнула Джоанна. – Мы лишь хотели ей помочь! Прошу вас, отпустите!..
– Вы уверенны, мисс? – Полицейский недоверчиво посмотрел на девушку.
– Да, сэр! – ответила она уже настойчиво, и тот, помедлив для порядка, уступил.
– Что ж, честь имею, – пробасил он напоследок и удалился ровной размеренной походкой.
– Он до смерти меня перепугал, – проговорила Нелли, с трудом переводя дыханье.
Люси стояла неподвижно, точно статуя. Она прильнула лбом к решетчатой ограде, за прутьями которой виднелся небольшой церковный сад. Джоанна осторожно взяла ее за локоть.
– Ты боишься меня?.. Почему? – спросила она шепотом, как будто опасаясь, что кто-то может их услышать – возможно, затаившиеся тени прошлого, преследующие каждую из них. – Посмотри на меня, – попросила она.
Они молчали долго, пока не стихли частое дыхание и мысли, не дающие покоя. Люси по-прежнему не поднимала глаз, только едва заметно дрожали ее веки, и слезы изредка катились по щекам.
– Пойдем. – Джоанна понемногу разжала ее пальцы, крепко обхватившие решетку, и Люси подчинилась робкому и вместе с тем уверенному голосу. Она пошла – не спрашивая куда, зачем, что ожидает ее в конце пути, и первые шаги дались ей нелегко.
Те, кто ни разу в жизни не терял, не в состоянии представить, какой ценой дается возвращение назад. Той же дорогой, на которой каждый камень напоминает об ушибе или ране и где за каждым поворотом боишься встретиться с самим собой. Прошлое замерло, подобно старому портрету, а настоящее похоже на кривое зеркало, в котором даже правда себя не узнает. Это мучительное сновиденье, когда отчаянно стремясь прийти в себя, ты снова просыпаешься в бреду. Израненное сердце уже не верит миражам, и радость причиняет ему больше боли, чем утрата.
У Люси не осталось ничего, кроме души и хрупкой оболочки. Благодаря чему она еще дышала? Покорность или тайное необъяснимое упорство вели ее по скорбному пути? Возможно, Люси не искала смерти лишь потому, что больше не жила. Нелли впервые разглядела вблизи ее болезненно осунувшееся лицо: в нем не было безумной отрешенности от мира, который безучастно отвернулся от нее. Безумие могло бы стать ее спасением, но Бог зачем-то сохранил ей разум, а вместе с ним и горькую неистребимую годами память. Нелли могла поклясться, что Люси чувствует и понимает все, только в десятки раз острее других людей.
Когда разряженная, опьяненная пороками толпа жестоко растоптала ангельские крылья красивой беззащитной девушки, позор убил ее надежду, веру в справедливость, но вместе с ними умерла наивность – добродетель, что делает нас уязвимыми. Тогда рассудок Люси помутился лишь на время. Всего за несколько недель помимо ее воли в ней родилось иное существо – так подло его больше не обманут, больнее уже не ударит никто. Нельзя разбить мечту, которой нет… И вот к ней снова возвращается надежда, настойчиво, стремительно врываясь в заброшенный тупик опустошенного, отверженного сердца!..
– Пожалуйста, возьмите, вам надо подкрепиться. – Нелли держала на ладони ватрушку, еще теплую: она купила ее в лавке по пути.
Люси робко притронулась к мягкому тесту. Ей редко приходилось видеть так близко свежий хлеб. И рука потянулась к нему инстинктивно, раньше, чем осторожность успела ее удержать. Она прижалась бледными губами к хрустящей золотистой корочке, непроизвольно затаив дыханье: от аромата сдобы у нее кружилась голова.
Джоанна еле сдерживала слезы, глядя на нее. Люси ела медленно, будто бы хотела наслаждаться этим даром бесконечно, каждой крошкой.
– Сразу много вам сейчас нельзя, – заботливо предупредила Нелли. – Потерпите, скоро мы придем домой и заварим чаю.
Прохожие бросали на них подозрительные взгляды: две дамы, хоть и не богатые, но вполне опрятные на вид, в компании голодной попрошайки, благоговейно поглощающей бесплатную еду, невольно привлекали их внимание. Люди привыкли забавляться, глазея на себе подобных – на эшафоте, в клетке, на краю моста… – особенно когда причиной скуки становятся достаток и спокойствие. Даже чужое счастье веселит их меньше.
Узенькая улочка вскоре осталась позади. На полутемной лестнице гостиницы, к счастью, не оказалось ни души. Нелли поспешно отперла дверь в комнату.
– Входите, здесь вы в безопасности, – позвала она Люси, видя, что та не двигается с места. – Ну что же вы?
Внизу послышались шаги и чьи-то голоса.
– Скорее, там кто-то идет!.. – заторопила ее Джоанна.
– Кто здесь живет? – встревоженно проговорила Люси, переступив порог. То были первые слова, которые она произнесла с того момента, как позволила увести себя. После скитаний под открытым небом ее страшило замкнутое тесное пространство незнакомого жилища.
– Мы, – как можно спокойнее ответила Нелли. На самом деле это слово могло объединять не только ее с Джоанной, но оно прозвучало легко и естественно. Входя, она украдкой оглядела комнату: мужской жилет на табурете и бритва возле зеркала! Обычная, стальная, без чеканки – Суини больше так и не коснулся рокового серебра. Но женщины не пользуются бритвой! Угадывая мысли Нелл, Джоанна быстро бросила на табуретку свою шаль и, заслонив собою туалетный столик, тихонько спрятала улику в ящик.
Все, больше вроде ничего не может испугать или насторожить их гостью. Еще не время встретить прошлое лицом к лицу.
– Джоанна, помоги мне: нам понадобится мыло, подогретая вода и полотенце, – тихонько попросила Нелли. – И нужно незаметно закрыться изнутри.
Вопреки опасениям Нелли, желание исчезнуть, убежать, угрюмо уклониться от заботы мало-помалу отпустило измученную душу Люси. Дырявое поношенное рубище, которое служило ей одеждой, привычной, хоть и не спасающей от холода, теперь подобно камню, тянуло ее к земле. Бедняжка ощущала себя похожей на запыленный осенний лист, случайно залетевший в дом. В глазах ее мелькнули смятение и благодарность, когда она увидела приземистую, но вместительную ванну, ведро с водой, кувшин и мыло, специально приготовленные для нее. Она лишь робко попросила оставить ее одну.
– Зовите, если вам понадобится помощь. Вот полотенце, платье. Возможно, туфли тоже подойдут: они из мягкой кожи. – Интуитивно Нелли старалась ненавязчиво заполнить напряженное молчание обыденными фразами. Слова помогут Люси осознать, что рядом с нею люди, которые желают ей добра.
– Ей нужно время, чтобы снова научиться жить… по-прежнему, насколько это возможно, – тихо сказала она Джоанне, выходя в переднюю.
– А папа? – спохватилась девушка. – Все так непросто! Он будет счастлив, но сегодня слишком рано… для мамы.
– Да, ты права. – Присев на край кровати, Нелли глубоко задумалась.
У них осталось несколько часов, а к вечеру из кузницы вернется Бенджамин. Невозможно предвидеть реакцию Люси, когда она увидит и узнает… Узнает ли она его? Ведь даже Нелли только заглянув ему в глаза не догадалась, а скорее сердцем почувствовала, кто он. Тогда в ней пробудилась и распахнула крылья неудержимая, переполняющая душу радость. Бенджамин, сам того не ведая, помог ей заново поверить в чудеса. Но Люси… Сможет ли она перенести такое счастье, омраченное стыдом, мучительным сознанием своего падения? А если нищета, невзгоды и людское безразличие с годами стерли образ горячо любимого мужчины из ее души? Или она не смела больше его любить?..
Любовь – сосуд, наполненный священным эликсиром. Порой он лишь наполовину полон, а иногда – уже наполовину пуст. Увы, ничто не остается неизменным. Сосуд легко слепить из мягкой глины, но трудно заново сложить из черепков…
Дверь комнаты, где находилась Люси, тихонько скрипнула. Джоанна обернулась и порывисто вскочила.
– Присядь, – шепнула Нелли. – Веди себя так, словно мы давно живем все вместе.
Долго никто не выходил, как будто дверь приотворилась сама собой.
– Я приготовлю чаю, – деловито объявила Нелли и, как ни в чем не бывало, принялась за дело.
Вероятно, слова ее наконец разогнали навязчивое напряжение, и дверь довольно широко открылась: на пороге стояла опрятно одетая женщина в белом чепце. Одной рукой она придерживала на груди платок, наброшенный на плечи. Простое бежевое платье с отложным воротником, хотя и не скрывало худобы, сидело аккуратно. Бледная кожа, тонкая, почти прозрачная, казалась на свету голубоватой. Она медленно сделала несколько осторожных шагов, как будто только встала после долгой изнурительной болезни, и оперлась о спинку стула. Ее пересохшие губы слегка задрожали, точно слова искали выхода и угасали, так и не найдя его.
– Не надо, мама, лучше просто посиди со мной. – Джоанна подвела ее к кровати и помогла облокотиться на подушку. – Вот так. Теперь я буду постоянно о тебе заботиться.
Люси молча внимала спокойному мягкому голосу. Ее глаза, отвыкшие смотреть на собеседника, сомкнулись, точно задремали, и только пальцы чуть заметно теребили кончики платка. Джоанна потихоньку накрыла ее пледом.
– Я благодарна Богу за то, что он помог нам найти друг друга. Не торопись, не разговаривай пока. У нас впереди еще так много времени. Ты наберешься сил, и мы…
Внезапно в коридоре послышались негромкие шаги и оборвались – возле самой двери, и в тот же миг в замке со скрипом повернулся ключ. Нелли, стоявшая поодаль с чайником в руках, метнулась к выходу, но было слишком поздно: испуганная Люси широко-раскрытыми глазами смотрела на вошедшего.
– Я выполнил заказ, и мистер Хоуп отпустил… – Суини замер, так и не закончив.
Его не ожидали. Что-то произошло в его отсутствие, чему он в первые секунды не мог найти названия. Необъяснимое волненье подтолкнуло его вперед, навстречу женщине, привставшей на кровати. Ее рука в руке Джоанны и бежевое платье… Он подарил его недавно дочери. Пускай он бредит или просто грезит наяву, его глаза узнали эти тонкие черты. Не может быть!.. Когда же? Как?.. Внезапно все сомненья и вопросы сливаются в одно-единственное слово:
– Люси?..
Она затрепетала. У нее больше не было имени – только прозвища. Обидные или правдивые – она носила их как рубище, за неимением иного. Кто мог позвать ее с таким смятеньем в голосе, как будто от ее ответа зависит его жизнь? Лишь один человек… Затуманившимся взором она ошеломленно всматривалась в его бледное красивое лицо, но сердце видит глубже и острее глаз, и оно отозвалось:
– Мне кажется, я знаю вас... – У нее вдруг защемило в груди. – Бен… Бенджамин… – рыдания душили Люси. Она непроизвольно протянула руку к серебристо-белой пряди над его виском с каким-то изумлением, растерянностью, близкой к ужасу:
– Тогда на пристани… О, Боже! – проговорила Люси и без чувств упала на руки Бенджамина.
– Что?.. Что она сказала? – переспорил он, глядя в ее полузакрытые глаза.
– Должно быть «пристань» означает «возвращение», – предположила Нелли неуверенно.
Никто из них не понял истинного смысла этих слов.
Глава 16. БРЕМЯ ПРОШЛОГО
Стоя на коленях, Бенджамин рассматривал забрызганное грязью изорванное платье, небрежно брошенное в угол… Нелли так и не успела его выбросить.
– Она сказала мне: «На пристани»… – проговорил он, глядя перед собой в пространство, и память снова вернула его в то пасмурное утро, когда он с замираньем сердца сошел на берег с корабля. Мучительное выражение бессилия и боли исказило его тонкие черты. – Значит, это была она… Я мог бы уберечь ее от унижений, холода и одиночества – уже тогда! Но я не сделал этого. Я не узнал ее!..
– Когда? – переспросила изумленно миссис Ловетт.
– Я встретил ее в первый день своего возвращения. Она умирала от голода, просила о помощи… – Голос Бенджамина стал вдруг хриплым и глухим.
– Невозможно было узнать ее… – со вздохом прошептала Нелли.
– Но вы ее узнали, – возразил он, с горечью глядя на нее.
– Прости меня. – Она присела рядом и сцепила руки на коленях.
– За что?
– Неважно. Просто – прости.
Бенджамин выпустил потертое сукно и, опершись о стену, прикрыл рукой глаза, но тягостные мысли не отпускали его.
– Тогда в обмен на несколько монет она мне предложила… – выговорил он с усилием. – Вы понимаете?.. Теперь она стыдится жизни, на которую была обречена!
– Не признавайтесь ей, что догадались обо всем. – Нелли потихоньку собрала злосчастные лохмотья. – А там – время покажет.
В комнате повисла тишина. Слышно было только тиканье часов и приглушенный гул за окнами.
Люси уснула: переживания лишили ее последних сил. Джоанна ни на миг не отходила от ее постели. Как поведет она себя, когда проснется? Что может успокоить, излечить ее израненное изболевшееся сердце?
Бенджамин медленно поднялся на ноги. Нет смысла и не время страдать о том, чего не изменить. Прошлое властно лишь над нашей памятью – действительностью правят мужество и разум. Люси слишком слаба для борьбы, но он выдержит! И с каждой прожитой минутой рядом с ней в его груди еще сильнее крепло самое глубокое из всех невысказанных, нерастраченных им чувств, способное объять собою целый мир. Сегодня в полной мере в нем возродился человек, имя которого не было маской, скрывавшей роковую тайну – Бенджамин Баркер.
Стемнело. Люси до сих пор не просыпалась, но сон ее был неспокойным, порою напряженным: она едва заметно вздрагивала, словно от внезапного прикосновения чужой руки. И вместе с тем, хотя бы изредка наполненный чарующими отголосками потерянного счастья, сон был ее единственным убежищем последние шестнадцать лет. Часы, а иногда недолгие минуты, украденные у реальности, подаренные бредом…
В неверном свете тлеющей свечи лицо ее казалось восковым, а веки были воспаленно-красноватыми. Стоя у кровати, Бенджамин чутко вглядывался в изменившиеся, но не забытые, родные тонкие черты. Похожая на неземное существо, рожденное во мраке подземелья, она, до боли, вопреки всему, была собою – его Люси.
Ночное небо озарила полная луна, и Джоанна тихонько задернула шторы.
– Ложись, а я останусь с ней, – шепнул ей Бенджамин. – А рано утром, перед уходом, я разбужу тебя.
Не споря, девушка кивнула, и, поцеловав отца, направилась к себе. Она привыкла исполнять без возражений любую его просьбу. Когда он защищал, оберегал, заботился о близких ему людях, никто не смог бы переубедить его. И сейчас было ясно без слов: этой ночью ее отец ни на минуту не сомкнет глаза.
Бенджамин ушел на рассвете. Теперь единственным его желаньем было поскорее покинуть Лондон и вырваться из плена неопределенности, непредсказуемой угрозы, подстерегающей их здесь. Для этого необходимо было потрудиться, собрать еще немного денег – и, наконец, как только Люси придет в себя и наберется сил, уехать, отправиться навстречу новой жизни за пределами былого.
Джоанна поднялась чуть свет, чтобы сменить отца. Неслышно подойдя к окну, она присела на высокий подоконник и занялась шитьем. Люси еще дремала, выражение испуга постепенно исчезло с ее лица, словно в душе ее, наполненной печалью, все же осталось крохотное место, свободное для теплого покоя, и Бог добавил туда каплю благотворного бальзама, в котором растворились опасения и горечь. Когда она очнулась ото сна, вокруг царили свет и тишина. Как в храме… Так странно, непривычно и легко.
Люси растерянно обвела глазами комнату, словно ища кого-то, и в то же время, опасаясь встретиться с ним взглядом. Джоанна угадала ее мысли.
– Отец ушел, – сказала она мягко. – Он работает в кузнице, неподалеку отсюда.
Люси вздохнула. Воздух крохотного, но уютного жилища, согретый первыми лучами солнца сквозь стекло, заставил ее грудь затрепетать.
– Он просидел вот здесь, рядом со мной. – Она коснулась кончиками пальцев подлокотника пустого кресла у кровати. – Всю ночь!..
– Мистер Ти попросил передать, что сегодня вернется пораньше, – донесся из-за двери голос миссис Ловетт.
Люси встревоженно взглянула на Джоанну.
– Ах, да: у папы сейчас другое имя, – поспешно объяснила девушка. – После побега… с каторги, – прибавила она, слегка запнувшись, – его зовут Суини Тодд. Так безопаснее. Вряд ли кто-то узнáет его по лицу, но все же нам приходится скрываться. На самом деле, несмотря на это, я очень счастлива. Подумать только, раньше я и не подозревала, что жизнь может подарить так много за короткий срок. Совсем недавно мой отец нашел меня, и вот теперь мы вместе – все втроем. Нет, вчетвером! Я очень привязалась к миссис Нелли! Ты можешь доверять ей, как сестре. Она нам очень помогла, и ей сейчас опасно возвращаться на Флит-стрит.
Джоанне не терпелось рассказать еще о многом, но их история была столь непростой… Уж лучше ни о чем не вспоминать, а говорить о будущем с надеждой – неважно, знаешь ты его наверняка или пытаешься предвидеть.
Люси приподнялась и села на постели.
– Ты знаешь… – вдруг произнесла она. – Я никогда не забывала о тебе. И я… я видела, как ты росла, хоть и всегда издалека.
Это были первые ее слова, обращенные к дочери. И словно рухнула стеклянная стена, казавшаяся Люси непреодолимой. Ее дитя – живое существо, не кукла за витриной дорогого магазина, которой можно только любоваться, не смея прикоснуться. Не пленница за позолоченной решеткой, какой она привыкла ее видеть. Ее дитя! Люси училась на нее смотреть – глаза в глаза – безмолвно спрашивать и отвечать. Слова порой так трудно подобрать, как будто наш родной язык беднее обездоленного нищего – глаза же сами говорят за нас. Даже тогда, когда нам хочется молчать.
«Ты так невинна и чиста, но ты не отвернулась от меня! Ты даже не подозреваешь, через какие муки мне довелось пройти…»
– Тогда… после пожара… я думала, что ты исчезла навсегда. – Люси больше не сдерживала слез: они впервые приносили ей облегчение.
Счастлив тот, кто, разучившись улыбаться, все еще может плакать, не таясь! Так скованная одиночеством душа освобождается от бремени тоски. Так ребенок, рождаясь на свет, откликается на зов самой жизни. И в этот миг Джоанна ощутила всю силу запертой, запретной, нерастраченной любви, которая переполняла сердце ее матери. Нам только кажется надломленным весло, наполовину скрытое водой; корни, питающие дерево, уходят глубоко под землю… А человек, способный так любить, не может безвозвратно потерять себя! И вместе с тем, Джоанна поняла, что матери ее известно все: о свадьбе, вспыхнувшем в особняке пожаре и странной смерти Торпина в ту ночь.
– Не бойся, мамочка, с тех пор я была уже рядом с отцом. – Джоанна крепко обняла ее за плечи, прильнув щекой к ее виску. Они сидели долго, не разнимая рук. Все остальное отступило, развеялось, и даже время будто бы замедлило свой бег…
Прошло несколько дней, и Люси понемногу начала вставать с постели. Узнав, что Нелли и Джоанна шьют сорочки на заказ, она вдруг попросила дать ей кусочек ткани и иголку, чтобы попробовать самой. Бездействие томило ее, удручая не меньше, чем горькие воспоминания. Едва оправившись, она уже стремилась убежать от них, пусть ненадолго, на какой-то час или всего лишь на минуту, но стать свободной наяву, а не во сне. Пальцы ее, поначалу неловкие, вскоре стали послушными, упорно повторяя простые забытые движения. Теперь ее время бежало быстрее, влекло за собою вперед, почти не давая оглядываться. Люси, во что бы то ни стало, хотела быть полезной, и эта выбранная ею цель была сейчас ее спасением. Но все же, погруженная в работу, она отчаянно искала в себе что-то, постоянно ускользающее от нее, словно болотный огонек. То были не физические, а иные неосязаемые внутренние силы для шага, на который рано или поздно она должна была решиться…
Однажды, вернувшись из кузницы, Бенджамин принес ей небольшой букет ромашек, ее любимых. Все эти дни он был необычайно чуток, хотя они почти не говорили. Как будто даже звуки голоса могли вспугнуть, нарушить едва лишь зародившийся покой. По вечерам, усаживаясь в кресло у ее постели, он тихо дожидался, пока она заснет, и лишь когда ее дыханье становилось ровным и глубоким, укладывался на матрац, лежавший рядом на полу.
Только миссис Ловетт понимала, что на самом деле происходит между ними. Бенджамин принимал жену такой, как есть, не осуждая, без упреков, но в глубине его души засела скорбь, перерастающая в яростную ненависть к недосягаемому неизвестному врагу, который причинил им столько зла. Он знал то, о чем Люси не отваживалась ему рассказать, и это знание порою мучило его так сильно, что Нелл буквально кожей ощущала его боль. Взгляд его, казалось, устремленный, за пределы комнаты, сквозь стену, заставлял ее невольно вздрагивать. Не будучи пугливой или слабонервной, Нелли не в силах была справиться с тревогой, как будто снова видела перед собой Суини Тодда, сжимающего остро наточенную бритву. Но Бенджамину всякий раз удавалось превозмочь себя – ведь он поклялся не растрачивать впустую их новую, поистине невероятным чудом дарованную жизнь.
Совсем иное происходило с Люси. Внимание, забота Бенджамина, его нежность усиливали в ней два противоречивых чувства. Одно из них влекло к нему, стремилось отозваться в полный голос, не таясь, как это было прежде; другое не давало ей дышать, жестоко сдавливая грудь, лишая дара речи, и чем теплее он заботился о ней, тем тяжелее было ей молчать…
В тот вечер, когда Бенджамин принес ей те самые цветы, которые так нравились когда-то жизнерадостной, наивной Люси, она не выдержала – слезы покатились по ее щекам. Они стояли в комнате одни: Джоанна прибиралась в соседней спальне, а Нелл предусмотрительно последовала за ней.
Бенджамин бережно взял ее запястье в кольцо прохладных пальцев и усадил на кресло. Люси долгим странным взглядом посмотрела на него.
– Послушай, Бенджамин… – вдруг начала она. – Джоанна – чистое дитя, Бог уберег ее от… от того, что я пережила. Ей лучше нас не слышать… но ты должен узнать обо всем. Я хочу исповедаться перед тобой.
– Не сейчас, тебе надо отдохнуть… – Губы Бенджамина дрогнули и сжались. Он ожидал и опасался этого момента, когда душа ее достаточно окрепнет, чтобы раскрыться.
– Я многое пережила за эти годы… – повторила Люси. Глаза ее горели каким-то непривычным блеском, но то были уже не слезы. Она решилась: все произойдет сегодня. Если пытка продлится, ее сердце не выдержит.
Бенджамин ясно видел, что спорить бесполезно.
– Но это не грехи, а беды, – сказал он тихо.
– Все равно. Я расскажу, и ты рассудишь сам.
– Я? – вырвалось у Бенджамина. Слово «суд» вызывало в нем дрожь отвращения. Сколько еще им предстоит страдать, упорно продлевая собственную боль?
– Я не сумела уберечь от бедствий нашу дочь, и ее у меня отняли… – В огромных серо-голубых глазах читался напряженный немой вопрос. Она ждала ответа, словно приговора.
– Люси…
– Я недостойна тебя, Бенджамин! Я… перестала быть твоей женой! – Жестокие признания сжимали ее горло, не давая говорить. Она бессильно соскользнула вниз, но раньше, чем ее колени коснулись пола, Бенджамин крепко прижал ее к себе.
– Посмотри на меня. – Он осторожно приподнял ее лицо. – Тебе известно, где я был все эти годы – мне довелось пройти там через сущий ад. Разве я не смогу тебя понять?
– Это совсем другое, – пересохшими губами прошептала Люси. Во взгляде ее вспыхнула какая-то неистовая, лихорадочная решимость обреченного. Она прерывисто и глубоко вздохнула, всей грудью, и торопливо продолжала, словно боялась не успеть, лишиться сил: – Судья пообещал подать на апелляцию. Он пригласил меня к себе, и я пошла. Тогда я верила, что можно все исправить и вернуть. Ведь этот суд… ужасный приговор – чудовищная и непостижимая ошибка! Меня впустили в особняк – а там был бал…
– Я знаю. – Два коротких слова внезапно прекратили ее пытку – призраки прошлого исчезли, и наступила тишина. Люси прислушалась, тревожно затаив дыханье. Бенджамин все еще удерживал ее в своих руках, не отстраняясь и не отпуская от себя.
– Кто рассказал тебе? – спросила она робко, как бы недоверчиво.
– Миссис Ловетт. В первый день моего возвращения.
– И больше ничего не говорила?
– Нет. Сказала только, что ты исчезла.
И оба замолчали. Минуты тишины не разделяли их, подобно пустоте, но Люси словно затаилась в ожидании. Обнимая почти невесомое, хрупкое тело, Бенджамин инстинктивно чувствовал, что бремя ее стало легче, но что-то еще неусыпно точило ее изнутри, не давая покоя.
– Судья… – сорвалось с ее губ. – Почему он забрал нашу дочь? Я признаю: со мной она не выжила бы… Но почему он отнял у меня ее, загородив стеной?
– Торпин умер, – спокойно и твердо ответил ей Бенджамин.
– Да, умер, – эхом отозвалась Люси.

Она вдруг поднялась и подошла к окну. Движения ее были свободны и до странности легки, и на мгновенье Бенджамину показалось, что перед ним та самая, по-прежнему юная Люси, какой она запомнилась ему шестнадцать лет назад. Тонкая, словно молодое деревце, которое доверчиво протягивает ветви к солнцу. А зимний холод неизбежно оставляет под корою темное кольцо – неизгладимый след, напоминание о том, что жизнь когда-то прервалась на время.
– Я не помню, как это случилось, – снова заговорила Люси. Слова срывались с ее губ, как стоны, которых она больше не могла сдержать. – Однажды я проснулась и не ощутила тепла ее беспомощного маленького тельца. Тогда, не осознавая, откуда и куда иду, я вышла из дому – искать… Я оказалась за чертой и больше не смогла вернуться!
– Люси… – позвал ее Бенджамин. Тонкая фигура замерла на фоне светлого окна. И внезапно он понял: сейчас она там – за пределами действительности, в мире, которого уже не существует. Но этот мир не хочет отпускать ее.
– Люси, – негромкий голос позади нее звучал уверенно и ясно, как вызов, брошенный тревоге и сомнениям, – о чем бы ты не рассказала, я никогда, – ты слышишь? – никогда не обвиню тебя. Ни в чем. Я просто тебя знаю.
На этот раз она услышала его и обернулась.
– Нет! Ты не можешь знать!.. Я не однажды предала тебя… – Невыразимый ужас исказил ее черты. – Тот человек под маской на балу был только первым! Я перестала быть твоей, снова и снова совершая этот грех… за горсть монет, за корку хлеба… за… – Ее тело дрожало от беззвучных рыданий, но глаза оставались сухими, а щеки горели, как в лихорадке.
– Я знаю. – Бенджамин сделал шаг ей навстречу. – И это.
Люси невольно отпрянула, словно не смея к нему прикоснуться.
– О Боже! – тихо вскрикнула она. – Ты знал – и смог простить?
– Мне нечего прощать.
– И не заговорил об этом. Ни разу…
– Не хотел, чтоб ты снова страдала.
Люси медленно подняла на него глаза. Бенджамин навсегда запомнил этот взгляд, которого не передать словами: она смотрела так, как будто перед нею был ангел или Бог, до дна испивший боль земных страданий, умеющий великодушно, искренне прощать.
Бенджамин бережно взял ее руку в свою.
– Послушай, ты сказала – «тот человек»? – спросил он осторожно. – Значит, это был не Торпин?
Люси молча покачала головой.
– Кто же тогда?
Она прерывисто и глубоко вздохнула. Воспоминания словно теснили ее грудь, но губы приоткрылись без усилий:
– Я расскажу тебе все. Все…
– Да, – неожиданно ответил Бенджамин. – Разделим это бремя на двоих. Теперь я понимаю: так будет легче нам обоим.
Он даже не подозревал, насколько сильно разбередит в его душе глубокую незаживающую рану горькая повесть ее жизни…
Глава 17. В ПРИЮТЕ ФОГГА
Тонкая полоса заката догорела, и огромный город погрузился в туманный сумрак, в котором затерялась белая фигура одинокой женщины. Никто не провожал ее, даже небрежным взглядом искоса. А она просто шла по извилистой улице – мимо запертых темных дверей и слабо освещенных окон чужих домов. Силы были почти на исходе, а ей неудержимо хотелось убежать. Куда? Откуда? Кто ответит на эти вопросы? Она не помнит даже собственного имени… А, может быть, его и не было, как нет ее самой? Остались только ночь, глухой собачий лай и отдаленный стук колес – единственные звуки в темноте. Но если нет на свете ни ее, ни существа, ради которого ей стоит жить, откуда же берется щемящая тоска и это тянущее напряжение внутри? Чье отражение там, перед ней, в окне?
Прижавшись лбом к холодному стеклу, она с трудом перевела дыханье. Внезапно сквозь прозрачную преграду донесся громкий плач. Прорезав тишину, он многократным эхом отозвался в сердце женщины: кричал младенец. Она порывисто сорвала с плеч теплую шерстяную шаль. Руки сами собою свернули ее в мягкий комок.
– Тише, дитя мое, тише – я рядом… – Женщина бережно прижала его к груди. Сырой осенний ветер пронизывал ее насквозь, но крохотное «тельце» согревало. Нужно уйти отсюда поскорей. Куда? Неважно – главное не знать. Не будет больше ни тоски, ни страха, ни…
– Уже не плачет? – Незнакомый голос позади нее звучал невыразительно и сухо, как будто исходил из каменной стены.
– Не-ет… – Она покрепче обхватила сверток обеими руками и быстро обернулась.
– Кто ты? – снова спросили из темноты.
– Никто. – В ее ответе сквозило изумление.
– Пойдем со мной.
– Куда?
– Никуда…
Неужели кто-то знает, как туда добраться?
…Ноги несли ее по узкому извилистому коридору, а чьи-то руки, цепкие, точно с когтями хищника, все дальше увлекали в темноту. Свет керосинового фонаря слепил глаза, от невообразимого зловония кружилась голова. Как она оказалась в этой жуткой подземной норе? Или это – тюрьма?.. Вокруг мелькали только стены и решетки. Они остановились в тупике. Ребенок подозрительно молчал, она не ощущала ни единого движения сквозь шаль. Раздался лязг ключа в несмазанном замке.
– Прошу! Располагайтесь поудобней! Но осторожно: вы здесь не одна. – Дверь приоткрылась, и ее втолкнули внутрь.
Споткнувшись обо что-то мягкое у входа, похожее на человеческое тело, она со стоном уронила ребенка в темноту.
– Нет! Отпустите! – Пронзительный крик прокатился под каменным сводом и замер где-то в глубине темницы. И тут же тьма как будто ожила. Рядом закопошились бесформенные тени… или живые существа? При тусклом свете уличного фонаря, сквозь узкое окошко проникавшем в камеру, к ней потянулись с десятки рук. Невнятный гул, лишенный выражения истошный хохот, вскрики… Словно в бушующем море – бессмысленный, бесцельный плеск воды о камни. Эти дикие волны вот-вот захлестнут ее с головой. Несчастная неистово заколотила в дверь:
– Откройте!
Никто не отозвался. Чьи-то пальцы запутались в ее длинных волосах, чьи-то острые ногти царапали кожу.
– Мой ребенок! Не троньте его!
На ней уже нещадно рвали платье, пытаясь повалить на пол. Закрыв глаза и заслонив лицо руками, она не видела, что нападавших было только двое, и эти двое – доведенные до истощения, изголодавшиеся женщины. Их сил хватило ненадолго, и в следующую секунду резкий окрик из-за двери заставил их ослабить хватку:
– Что, снова в карцер захотели! А ну заткнитесь!
Возня затихла. Волны откатились, и обессилевшая женщина в разорванном, белеющем во мраке платье осталась на пустынном берегу. «Мое дитя…» – почти беззвучно прошептали ее губы, целуя каменные плиты пола. Стихия поглотила беспомощное крохотное тельце. Маленький ангел больше не заплачет. Все ее существо охватило какое-то странное неодолимое оцепенение, унося в неизвестность сознание, мысли и чувства. И, словно невесомая песчинка, она безвольно затерялась в бесконечности.
– Люси… – Далекий голос прорывается сквозь мутную туманную завесу и замирает, как приглушенный стон. Видение неуловимо исчезает, не успевая обрести телесной формы, и остается лишь мучительная головная боль…
За оконной решеткой серело дождливое утро. Темнота отступала; вместе с ней понемногу рассеялось и забытье. Не может вечно пребывать в покое тот, кто еще жив. Тревожные глухие шорохи наполнили пространство, которое совсем недавно казалось пустотой. Из полумрака возникали лица: одни – отрешенные, хмурые, другие – напряженные и настороженные – ни одного приветливого, умиротворенного. Кто эти женщины в серых одеждах, среди которых лишь она одна одета в белое?
Прохладная, необычайно мягкая ладонь ложится ей на лоб:
– Как твое имя? Как сюда попала?
Что значит имя?.. «Люси», – доносится из глубины ее сознанья, и тут же что-то сжимается внутри.
– Люси, – бессознательно повторила женщина, с опаской вглядываясь в незнакомые черты склонившегося к ней округлого, чуть полноватого лица. Густые вьющиеся волосы – светлые, как и у нее самой, внимательные карие глаза… Первый осмысленный взгляд в этой странной обители!
– Где мы? В тюрьме?
– Нет. Хуже – в приюте для умалишенных. Сюда сажают без вины.
Люси отпрянула, как от удара. Небеленые каменные стены качнулись и поплыли у нее перед глазами.
– Но я не сумасшедшая! – изо всех сил воскликнула она.
– Возможно, – возразила незнакомка, удержав ее за руку. – Но незачем кричать об этом – так ты только докажешь обратное.
Люси в отчаянии сжала пальцами виски. Тупая, ноющая боль стирала смутные следы коротких мыслей, мешая ей сосредоточиться.
– Сумасшедшие редко попадают сюда – здесь такими становятся, – слышится осторожный полушепот. – Мне кажется, у нас двоих еще остался шанс…
За дверью в коридоре раздались шаги и бряцанье ключей.
– …не потерять себя.
Люси растерянно взглянула на собеседницу, не понимая смысла ее слов. Чем живет этот загнанный в клетку, враждебный, пугающий мир? Кем придуман, для чего существует?..
Затворы скрипнули, и резко отворилась дверь. Женщины беспокойно встрепенулись.
Низкого роста худощавый человек остановился на пороге, пренебрежительно оглядывая серую копошащуюся массу: кто-то бросился в сторону и, забравшись на низкую койку, прижался к стене; иные, с жалобным, невнятным бормотаньем присели на пол. Вошедший ухмыльнулся со злорадным удовольствием. Пронзительные, глубоко посаженные глазки осмотрели каждый прут решетки, каждый угол. Похоже, власть над слабыми, лишенными свободы и рассудка существами, за неимением другой, была единственной утехой этой ограниченной натуры.
– Вот так. Потише! – И с нарочитой угрозой он порывисто шагнул вперед. В ответ по камере пронесся многоголосый ропот. – Эй, Бенсон!
Следом зашел пожилой надзиратель, катя перед собой тележку с большим дымящимся котлом и сложенными стопкой жестяными мисками. Мгновенно позабыв про свой недавний страх, женщины подались вперед, жадно следя за каждым его движением. Толкаясь и пошатываясь на ходу, они нетерпеливо протягивали руки за скудной порцией какой-то липкой серой кашицы.
Люси молча сидела, не двигаясь с места. Когда толпа заметно поредела, невысокий человек, вошедший первым, наконец, заметил ее белеющее среди серых балахонов, платье. Забрызганное грязью и разорванное во вчерашней схватке, оно напоминало больше лохмотья, чем на одежду.
– А, новенькая! – Подойдя, он наклонился, с каким-то плотоядным интересом разглядывая настороженную женщину. – Надо переодеть ее.
– Поешь-ка. – Бенсон протянул ей миску каши, чудом оставшейся на дне котла. – Кто ее покровитель, мистер Фогг? – спросил он низенького, явно своего начальника.
– Я нашел ее ночью на улице: брела без памяти и разговаривала… с тряпкой. У нее пока нет покровителя. Но скоро найдется.
– А если кто-то будет ее искать?
– Ну… – Фогг слегка присвистнул, небрежно отмахнувшись. – Если и найдет, придраться не к чему: благое дело делаем. Поосторожней с ней: она довольно буйная. Вчера как бешеная колотила в дверь, перебудила всех сумасшедших! Ешь поскорее, дурочка, – прикрикнул он на Люси. – Ешь, сказал! – И, развернувшись, направился к выходу.
Люси неловко ковыряла ложкой клейкую, ничем не пахнущую массу, так и не отваживаясь поднести ее ко рту.
– Дай мне! – Чьи-то широко раскрытые глаза, смотревшие из-под нечесаных волос, блеснули в предвкушении добычи.
Люси бессильно опустила миску на колени: от боли в голове ее тошнило, любая пища вызывала отвращение.
Миска тут же исчезла.
– Зачем ты отдала еду? Теперь до вечера ни крошки не получишь.
Узнав этот негромкий ровный голос, Люси растерянно обернулась.
– Я не хочу… – простонала она.
Внимательные светло-карие глаза поймали ее взгляд.
– Ты не безумна – просто сильно напугана. Но кем? – задумчиво помолвила молодая женщина, усаживаясь рядом на полу. – Вчера ты постоянно говорила о ребенке. Ты замужем?
– Н-не знаю... – Люси тщетно искала в себе ответа. Но с ней осталось лишь ее бессилие, натянутое до предела, зажатое в тиски.
– Ты потеряла память. Бедная… – сочувственно отозвалась собеседница. – Будь у тебя хотя бы обручальное кольцо, ты знала бы, что не одна на этом свете. Хотя бывает, в этом и причина бед. – Тяжелый вздох сорвался с ее губ. – Но теперь уже поздно: здесь отбирают все, что хоть чего-то стоит. Они продают даже трупы… – Женщина ласково погладила Люси по голове. – У тебя прекрасные золотые волосы – скоро их тоже отнимут.
– Что это значит?..
– Ты заметила: в этой палате – только блондинки. Одни длинноволосые, как ты. Другие коротко острижены: их волосы купили постижеры – на парики. Брюнетки, рыжие шатенки – все заперты в отдельных помещениях. Лишнее доказательство, что этот дом не для лечения больных.
Как отличить здорового от сумасшедшего, когда здесь даже правда похожа безумный бред? Внимая непонятным ей речам, Люси не в состоянии была поверить в реальность происходящего. Ей вдруг припомнилась ехидная ухмылка Фогга и странные слова, насторожившие ее.
– Тот человек сказал, что скоро у меня найдется покровитель, – спросила Люси. – Что он имел в виду?
Ее вопрос неловко оборвался и замер в спертом воздухе. Прошла минута, Люси напряженно ждала ответа.
– Ну, пожалуйста! Говори! – Слезы выступили у нее на глазах. – Да кто же ты, в конце концов? – Она не выдержала и разрыдалась.
– Я – Элис. – Женщина печально улыбнулась и снова замолчала.
– Что от меня скрывают? Что тебе известно? – допытывалась Люси, лихорадочно вцепившись ей в плечо.
– Мне? – Элис осторожно разжала ее пальцы, причинявшие ей боль. – Ничего. Заранее здесь лучше ничего не знать. – Она по-матерински мягко обняла ее, укачивая, как ребенка. А может, бессознательно ища защиты?
– Трудно, невероятно трудно одной бороться с окружающим тебя безумием, – послышался ее усталый, бесконечно печальный голос.
– А как долго ты тут?
– Целую вечность – около месяца…

Под вечер процедура кормления повторилась. И женщины, полуголодные, мало-помалу затихли и улеглись на койки в ожидании утра. Несчастные жили буквально от миски до миски. Так, от рассвета до заката, тянулась череда однообразно серых дней. В камерах, которые язык не повернется назвать больничными палатами, все время было холодно и сыро, и многие страдали от простуды. Их не лечили, только изредка переводили в лазарет, чтобы инфекция не распространилась.
Время текло подобно ручейкам дождя по мутным стеклам, порою останавливаясь вовсе, и тогда под гулкими приземистыми сводами вдруг воцарялось непривычное молчание. Но вскоре зыбкие потемки прорезáли неожиданные возгласы: безумные боялись тишины.
– Подайте пенни, кто-нибудь!
– Не велено: жди воскресенья, Мэри!
– Пода-а-айте! – Душераздирающие вопли сотрясали воздух до тех пор, пока не появлялись надзиратели, и яростно брыкавшуюся Мэри не уводили в карцер. И снова – бормотание, бездействие и полузабытье… Звери, и те, не созданы для замкнутых пространств, а здесь людей держали в клетке, как зверей. Даже кровати были накрепко прибиты к полу.
Однажды в камере надолго повисла тишина. Снаружи по стеклу уныло барабанил дождь, под самым потолком потрескивало пламя в газовом рожке.
– Чего не просишь, Мэри? – раздался чей-то боязливый голос.
Двое или трое женщин слегка приподнялись на койках, напрягая слух. Никто не отозвался.
– Неужто померла? – прошелестело из угла.
Кто-то встряхнул неподвижное тело:
– Не дышит!
– Спаси-и-ите! – истошно завопила какая-то старуха, набросив на лицо покойницы обрывок простыни, и бросилась к дверям. Железо отозвалось на удары гулким эхом.
На крики прибежали часовые… Вызвали Фогга.
– Ах, эта, – бросил он, брезгливо заглянув под простыню. – Невелика потеря! Позовите доктора.
– Она же умерла, – не понял один из надзирателей.
– Вы здесь недавно, Никлсон, – резко одернул его Фогг. – Могли бы догадаться, что нужно засвидетельствовать смерть. Зовите и не спорьте.
– Да, доктор хорошо заплатит, – довольно потирая руки, ухмыльнулся Бенсон, переглянувшись с хозяином приюта.
– И правда: с мертвой больше проку. Ее давно уже никто не покупал, – ответил Фогг и удалился.
Ухватив Мэри за ноги, Бенсон выволок мертвое тело из камеры, как мешок с требухой, и дверь с надрывным скрежетом захлопнулась.
Оставшиеся взаперти притихли, пораженные увиденным: одна из них сегодня навсегда покинула тюрьму…
После смерти Мэри, Люси долго не могла прийти в себя. Она была потрясена не столько грубым нескрываемым пренебрежением к живым и мертвым, заточенным в этом странном, жутком месте, сколько последними словами Фогга, которые засели в ее памяти. Они посеяли в ее душе необъяснимый затаенный страх. Кому, зачем их собирались продавать? Каким еще страданиям и унижениям подвигнут? Она теперь уже и не решалась расспрашивать об этом Элис. Люси пыталась убежать во сне от мучившей ее тревоги, но это удавалось ненадолго. Одно из преимуществ человека над животным – способность мыслить и говорить. Боясь утратить этот бесценный дар, она порою разговаривала вслух сама с собой. И в эти трудные минуты Элис была единственной, кто приходил ей на помощь.
– Почему тебя заперли здесь? Неужели нет на свете человека, который заступился бы за тебя? – спросила ее однажды Люси.
Элис печально улыбнулась, глядя в потолок, как будто там, над нею, промелькнули светлые видения ее воспоминаний.
– Есть, – отозвалась она со вздохом. – Мой брат. Но он сейчас так далеко.
– Ты хотя бы помнишь, кем была на воле, – с грустью прошептала Люси. – А я…
– Что толку помнить о своей беспечности и роковых ошибках, которых не исправить? Все самое прекрасное, что подарила мне эта жизнь, было лишь опьяняющей иллюзией. Моя история похожа на тысячи других, но раньше мне казалось, что со мною произойдет иначе. Я полюбила. Незнакомая, наполненная светом, радость окрыляла мое сердце и до неузнаваемости преображала все вокруг. Испытывал ли мой избранник те же чувства? Я не смогла бы без него дышать. А он, возможно, как одежда в холод, согрел меня моим же собственным теплом. Тогда мне было бы и этого довольно! Мы повенчались. Позже умерли родители, оставив мне и брату небольшое состояние. Вскоре мой брат уехал из столицы. Прошло еще несколько лет – в каком-то тревожном затишье. Мой муж нередко оставлял меня одну и возвращался поздно вечером, не говоря ни слова. Я не расспрашивала – просто молча обнимала его, но он уже был не со мной. Я слишком поздно поняла, что он по крупному проигрывает в карты и еще… другая женщина, расчетливая, злая, всецело завладела им. Я упустила время, когда он окончательно повернулся ко мне спиной. Должно быть, это все моя вина и тех немногих злополучных денег, что достались мне в наследство. Должно быть, он, и правда, не любил меня, раз предал так легко! Я стала лишней в его жизни: та, другая, победила. И вот мой муж однажды вечером обманом увез меня из дома и запер здесь! Он заплатил хозяину приюта моими же деньгами! Подозреваю, что он сам не догадался бы так поступить… – Элис умолкла. Несколько минут она сидела, крепко сжав руками свои колени, не поднимая глаз.
– Бог дал нам одни крылья – на двоих. Они остались у Фердинанда. У Фердинанда! – неожиданно с глубоким отвращением и ненавистью произнесла она.
– Но твой брат – он хоть изредка приезжает к тебе? Или пишет? – вырвалось у Люси.
– Да, раз в полгода… или реже. Уверена, мой муж придумает, как обмануть его. Я так боюсь остаться здесь до самой смерти. Как Мэри! – Элис задыхалась от подступающих рыданий и непреодолимого желания кричать. Впервые Люси видела ее такой. Обычно сдержанная, рассудительная, эта женщина сейчас нуждалась в утешении гораздо больше, чем она сама. На грани жгучего негодования и страха Элис отчаянно пыталась превозмочь свое бессилие.
– Не надо, не терзайся понапрасну! – Люси бросилась в объятия подруги. В эту минуту собственное горе показалось ей ничтожным. – А лучше – плачь! Ты не одна. Поплачь, родная…
Элис наконец сдалась, и слезы, вырвавшись на волю, понемногу принесли ей облегчение.
Вскоре ее рыдания затихли.
Тишину нарушали теперь только чей-то безрадостный хохот и бессвязное бормотание. Время от времени под потолком трещало пламя в газовом рожке. Покинутые всеми, голодные, больные женщины постепенно забывались сном.
Ни одна из них не знала, что ждет их впереди….
Следующее утро началось почти как предыдущее.
Вчерашний день, без всякой пользы проведенный в этой сумрачной обители, стирался в тусклом свете нового. Свободным людям не понять, что значит жить, не зная счета времени, при этом остро ощущая каждую минуту, прислушиваясь к лязгу отпираемых дверей и эху чьих-то замирающих вдали размеренных шагов. Тревога познается взаперти, а страх – в кромешной темноте.
Едва лишь рассвело, в «палате» появился Бенсон. Со своей неизменной тележкой и котлом полусгнившей вареной крупы он, как всегда, невозмутимо протиснулся сквозь обступившую его толпу и быстрыми небрежными движениями наполнил миски. Сразу после трапезы неожиданно вошел Фогг. Он медленно проследовал вдоль коек, окидывая пристальным, оценивающим взглядом притихших женщин.
– Ну что ж, настало время для прогулки, – сообщил он, приоткрывая в плотоядной ухмылке длинные пожелтевшие зубы. – Но не для всех! Я выберу… Эй, Бенсон, посвети мне!
Тот приподнял фонарь повыше, и женщины тревожно зароптали. Фогг был похож на фермера, который ищет у себя в загоне лучшую овцу, чтоб отвести ее на бойню. Он уже выбрал пятерых, и надзиратель силой подталкивал их к выходу, когда вдруг красноватый отблеск трепетного пламени упал на Люси. Фогг наклонился и откинул спутанные волосы с ее лица.
– А, вот ты где. Вставай! – приказал он, схватив ее за руку.
Люси инстинктивно попыталась воспротивиться, но надзиратель грубо вытолкал ее из камеры. У выхода она успела обернуться. Ее насторожил испуганный взгляд Элис, но было уже поздно: их повели по длинному, извилистому коридору с двумя рядами темных запертых дверей. Через узкие решетчатые прорези окошек доносились пение и стоны. В этих камерах тоже держали больных. И не только... В глаза внезапно ударил яркий свет. На самом деле день был пасмурный, промозглый и дождливый, но после душного зловония и мрака он ослеплял, дыша в лицо порывистым, упругим ветром, от свежести которого кружилась голова.
Окруженный высокими стенами внутренний двор, как и все помещения в этом приюте, походил на тюремный. Или даже скорее на вольеру для хищников, отделенную прочной решеткой от довольно широкой боковой галереи.
Несколько девушек, рыжеволосых и брюнеток, бродили по двору, угрюмо кутаясь в обрывки одеял, которые успели захватить с собой. Но кто там, по ту сторону решетки?.. Те джентльмены, что непринужденно прогуливаются, беседуя между собой, – не сумасшедшие, не надзиратели, – зачем они пришли сюда? Неужто из простого любопытства разглядывают пленниц, точно диковинных зверей? Люси заметила, как Фогг о чем-то оживленно рассказывает одному из них, а тот, опрятно и со вкусом одетый господин, похожий на чиновника, в ответ надменно кивает головой.
– …премного благодарен. – Фогг заискивающе заглядывает собеседнику в глаза. – Все средства, милостиво предоставленные вами, пойдут на благо, уж не сомневайтесь! Я вот о чем: посмею предложить вам... – Он понижает голос.
Люси почти приблизилась к решетке, настороженно ловя обрывки фраз. Она интуитивно ощущала какую-то завуалированную, скрытую угрозу – совсем рядом. Все ближе, в нескольких шагах. Еще немного – и она коснется ее рукой!.. Люси вдруг замерла на месте: оба смотрели на нее. Под этими бесцеремонными и пристальными взглядами она была словно прикована к позорному столбу. В горле внезапно пересохло. Уже не холод, пробираясь под убогую одежду, пронизывал ее насквозь – необъяснимое предчувствие парализовало ее волю изнутри…
Когда их снова затолкали в коридор и повели обратно, ноги почти не слушались ее. Однако в прежние палаты вернулись далеко не все. Люси и несколько девушек с нею заперли в комнате верхнего этажа. Решетчатые, но обычного размера окна освещали небольшое помещение, обставленное исключительно кроватями. По-видимому, здесь располагался лазарет. Что это значит? Почему их привели сюда? Люси присела на краю постели, бессильно прислонившись плечом к стене. Ее глаза перебегали от одного лица к другому, ища хотя бы искорку здравого рассудка, который вот-вот утратит она сама. Возможно, некоторые из этих женщин еще сумели сохранить свой разум, но не волю. Отчаяние делало здоровых похожими на обезумевших – их трудно различить, когда они отводят от тебя глаза...
Дверь отворилась на удивление неслышно.
– Настало Время принимать лекарства! – раздался громкий голос Бенсона. – Ну что, приступим? – спросил он с иронической усмешкой.
– Нет! – Люси попыталась оттолкнуть от себя пузырек. Но тут же крепкая рука зажала ее нос, заставив запрокинуть голову. Люси беспомощно ловила воздух открытым ртом, при каждом вдохе ощущая, как горькая и обжигающая жидкость, капля за каплей, течет ей в горло.
Закончив, Бенсон выпустил ее и отошел.
Люси, закашлявшись, упала лицом в подушку. До слуха ее доносились невнятные звуки: глухие окрики, возня, чье-то сухое одинокое хихиканье… Затем все стихло, еле слышно открылась и закрылась дверь, и темнота окутала пространство, утратившее четкие границы.
Прошли минуты или несколько часов? Боясь остаться в этой зыбкой неизвестности, Люси попробовала осторожно приоткрыть глаза. Вокруг царили тишина и ровный белый свет. Тело ее, разбитое гнетущей, как оковы, слабостью вдруг стало непривычно легким, невесомым. Оно как будто опустело изнутри, и безмятежное спокойствие наполнило его. Теплые волны омывали ее кожу, тонкие ласковые ручейки струились по лицу, и в каждой капельке таилась не губительная горечь яда, а чистое сиянье жизни! Вода в неведомой реке стремительно спадает, убегая из-под ног, и плечи вздрагивают от прикосновенья шелка…
Таинственные коридоры, тысячи дверей – и снова тьма, густая тьма вокруг. А может, просто ночь простерлась над бескрайней ширью горизонта, и стены – смутная иллюзия защиты? Черный – один из множества оттенков белизны. Она идет по краю пропасти, легко переступая с уступа на уступ, и темнота не кажется холодной и колючей: кто-то ведет ее во мраке.
Перед глазами вспыхивает яркое пятно, похожее на пламя огромного камина. Чье это странное жилище на самом пике неприступного утеса? Кто приглашает ее войти? Гостеприимная семья шотландских горцев или изголодавшийся греческий циклоп? Люси была уверена в одном: ее не привели сюда насильно – она пришла сама…
Пробуждение было мучительно долгим. Сознание на краткий миг проглядывало сквозь туманную завесу забытья и тут же камнем срывалось в никуда. Веки отяжелели, словно налились свинцом. Люси лежала, распростершись на жестком тюфяке. От шелкового платья не осталось и следа; ни проблеска, ни искры от согревающего ослепительного света. И не единого намека на покой и безмятежность. Пронизывающая, как холод, боль текла по венам, не выпуская из своих сетей ее измученное тело.
Когда она впервые смогла открыть глаза, прохладная рука скользнула по ее пылающему лбу. Люси увидела склонившееся к ней знакомое лицо.
– Элис, – простонала она. – Элис…
Мысли ее бессвязно шелестели подобно осенним листьям на ветру: «Ее давно уже никто не покупал…», «Нет покровителя… пока. Скоро найдется…» Последние ее воспоминания прервались во дворе. И двое, Фогг и неизвестный, смотрели на нее, как хищники, через решетку клетки… Нет, была еще светлая комната, там, наверху! И странное лекарство, которое ее заставили принять. Потом… ей стало так спокойно и легко, но именно тогда – Люси готова была поклясться в этом – что-то ужасное произошло с ней – то, чего она больше всего боялась! Откуда следы синяков на запястьях, точно ее распяли, и ноющая боль внутри?..
– Что они сделали со мною, Элис? – прошептала Люси, не сводя с подруги широко-раскрытых глаз.
Та молча опустила голову. Ответить правду было также тяжело, как сообщить о чьей-то смерти.
– Ну почему ты всегда молчишь, когда… когда… – Люси вцепилась в ее руку, не в силах подобрать слова. И в лихорадочно горящем взгляде, устремленном на нее, Элис прочла неизъяснимое отчаяние и горестный упрек. Ей стало ясно – ложь во спасение бессмысленна: Люси догадывалась обо всем.
– Тех, за кого не платят – продают, – проговорила Элис так тихо, что сама едва могла себя расслышать.
– Но почему ты сразу не сказала мне об этом?!
– Так тебе было бы еще тяжелее!
– Нет! НЕТ! – Уже не слезы, не рыдания, а жгучая неистовая ненависть душила Люси, вырываясь из ее груди сдавленным криком, похожим на рычание затравленного зверя. Вырвавшись из объятий Элис, она вскочила на ноги и устремилась к выходу. Ее рука, мгновение назад беспомощно простертая на тюфяке, с невероятной силой ударила по кованой двери. Раскатистое эхо пронеслось от камеры по коридору и возвратилось, подхваченное десятком голосов.
– Мерзавцы! Палачи! Насильники! – Люси царапала ногтями ржавое железо, трясла решетку узкого окошка и снова колотила кулаком.
– Остановись! – Элис повисла на плече подруги, горячо дыша ей в щеку. Но бесполезно: никакая сила не удержала бы ее сейчас.
Дверь распахнулась так неожиданно и резко, что обе еле устояли на ногах.
– Что происходит? – В камеру ворвался Бенсон. – Кто поднял этот дикий шум?
– Вы… Вы! – Люси в исступлении бросилась к нему. – Грязный торговец, негодяй… бездушное животное!.. – Слова оборвались: вцепившись острыми ногтями в ненавистное лицо, она могла только хрипеть.
– Сюда, скорее! – судорожно крикнул Бенсон, тщетно пытаясь освободиться.
Из темноты со всех сторон к нему под угрожающее бормотанье медленно подступали согбенные тени. Привыкшие покорно ползать по земле и подчиняться существа, стряхнув с себя оковы страха, постепенно выпрямлялись во весь рост. Вот-вот неуправляемая, как поток реки, толпа тугим кольцом сомкнется и поглотит его…
– Даркед! – Полупридушенный вопль замер под сводом темницы.
По гулким плитам коридора уже стучали башмаки.
– Прочь! На место! – В камеру ворвались надзиратели. Жестокие удары палок в одно мгновение отбросили назад охваченных безумной жаждой крови несчастных, готовых разорвать на части своего тюремщика. Одна из женщин, падая, расшибла себе голову о косяк двери. Ее рывком подняли на ноги и грубо втолкнули внутрь. Неистово ругаясь, Бенсон, выволок ожесточенно отбивавшуюся Люси в коридор и с грохотом захлопнул дверь, отрезав путь всем остальным.
– Ну как, удобно? – Вкрадчивый скрипучий голос заставил Люси вздрогнуть.
Руки и ноги ее были туго закреплены на подлокотниках и ножках кресла, стоявшего посередине пустого помещения без окон с высоким потолком. Она была похожа на дикую раненную птицу, попавшую в силки. Склонившись к самому ее лицу, Фогг с иронической усмешкой разглядывал оковы.
– Отлично, – заключил он. – Я вижу, ты присмирела. Не хочешь еще покричать?
Не отвечая, Люси с отвращением смотрела на его торчащие на фоне света уши и угловатый облысевший череп. Неудержимая отчаянная сила, которую питала внезапно вспыхнувшая ярость, покинула ее – осталась только ненависть, как язва, разъедающая душу. Натянутая до предела тетива порвалась, выпустив на ветер бесполезную стрелу… Послушная марионетка в руках своих мучителей, она не сможет защитить себя! Они коварно усыпили ее разум, опоив каким-то зельем. Ее вымыли, нарядили, а после – надругались над ней! И она приняла это с бессознательной радостью! Почти как в тот раз! Она все вспомнила! Ту ночь, ужасный маскарад, позор и боль… А самое ужасное – тогда она могла еще видеть, слышать и понимать! Безумное веселье, словно в приюте для умалишенных, и отвратительная маска с пустыми черными провалами глазниц, нависшая над ней… Как просто и легко, имея власть, играть чужими жизнями, втаптывая в грязь чужую честь!
Фогг и его сообщники даже не прятали лица. Удобно продавать несчастных, которые впоследствии не смогут об этом рассказать, а если и расскажут – никто им не поверит. Одно название приюта, где совершались эти преступления, красноречиво говорило за себя: дурдом! Сумасшедшие, бешенные, бесноватые! – кто воспримет их обвинения всерьез?
– Ну что ж... – Все тот же иронический скрипучий голос вырвал Люси из ее воспоминаний. – Ремни пристегнуты – пожалуй, можно приступать.
Фогг сделал знак рукой кому-то позади нее. Раздался скрежет приведенного в движение рычага; веревки, прикрепленные к сиденью кресла, натянулись. Что это? Для чего их протянули от кресла к потолку? Люси не успела даже вскрикнуть, как оказалась в нескольких футах над землей.
– Подъем – лишь незначительное преимущество, которое дают качели Кокса*, – ехидно засмеялся Фогг, заметив ее испуг. – Сейчас я, так и быть, поведаю тебе еще один секретик этого устройства.
Под самым потолком послышалось какое-то жужжание, и кресло начало вращаться, все больше набирая скорость с каждым оборотом. И в мгновение ока угрюмая, голая комната – стены, красноватое пятнышко света внизу – все превратилось в мутный темно-бурый хоровод. Тем лучше! Она, по крайней мере, не видит ухмыляющегося злорадного лица этого Фогга – оно осталось там, внизу, размазанное, смятое, растертое в бесформенную массу, похожую на уличную грязь!
Жужжание переросло в пронзительный невыносимый свист. Люси буквально ощущала, как он врезается в ее пульсирующий, воспаленный переживаниями мозг. Мучительная, удушающая тошнота подкатывала к горлу. Она с трудом сдержала стон и, крепко стиснув зубы, зажмурила глаза. Незримый вихрь продолжал неистово кружиться внутри нее. Только лик ее муки оставался поразительно четким до малейших деталей. Чего они хотят добиться? Ей показалось, это длилось бесконечно…
Мир постепенно замедлял свое вращение. Прошли минуты или несколько часов?.. Гигантский шершень у нее над головой затих, но тишина еще гудела сотнями пчелиных крыльев. Подобно брошенному якорю, кресло со стуком ударилось о пол и замерло.
– Может, поместить ее в ванну с ледяной водой? – доносится из темноты.
– Зачем? Теперь она спокойна даже без смирительной рубашки.
Люси с усилием приоткрыла глаза. Стен больше не было – от них осталась только мутно-серая метель. А тело ее, связанное, онемевшее, все дальше уносил неосязаемый стремительный поток. Куда бегут его бушующие волны – на волю или в бездну забытья, где непроглядный мрак – иллюзия свободы? Водоворот сомкнулся у нее над головой, и в нем исчезли, наконец, тюрьма, тюремщики и пленница.
Больница Фогга не исчезла. Не растворилась в тумане, не провалилась сквозь землю. Стены ее по-прежнему прочны и неприступны. Не так уж много камня нужно, чтоб разделить на две неравных части грешный мир. Снаружи – небо, а внутри – птицы, лишенные крыльев.
Припав к решетке узкого окошка, молодая женщина, не отрывая взгляда, смотрит на грозовые облака, словно ища меж ними проблеск синевы. Голубые глаза покраснели от слез и бессонницы, а ее золотистые волосы срезаны нерадивой рукой. Но имя ее по-прежнему Люси, а рассудок по-прежнему ясен. Порою у нее мелькает мысль: «Не лучше ли действительно сойти с ума?» Не может здравомыслящее существо выдерживать такую пытку! Изо дня в день без дочери и без него! Безжалостный жестокий человек разбил ее прекрасный хрупкий мир. От очага, дарившего тепло, остался только горький пепел памяти.
Постижер обрезал ее волосы – она не выразила ни возмущения, ни сожаления. Чтó бесполезные пряди волос, когда из груди ее вырвали сердце!
Последнюю неделю Люси почти не говорила: она уже не верила, что это облегчит ее страдания.. «Лечение» на кресле Кокса заметно подорвало ее силы: тяжесть во всем теле и головокружение долго не давали ей подняться, а скудная гнилая пища, которой здесь кормили, только усиливала тошноту.
– Ну почему ты все молчишь? – послышался негромкий грустный голос. – Я не могу так больше… Ведь мы пообещали говорить друг с другом.
– Я вспомнила, – вдруг отозвалась Люси.
Минуты две она молчала, собираясь с силами.
– Я вспомнила, кем была Люси. Люси Баркер… Он погубил меня, разбил мою семью… Но у меня осталась дочь, и я должна отсюда выбраться! Ради нее!
«Где сейчас моя Джоанна, кто заботится о ней?» – Бесполезные вопросы в пустоту остаются без ответа.
– Что мне делать? – Люси больше не смотрит на небо.
– Расскажи, что ты вспомнила. – Элис тихо садится рядом с ней.
– Слушай…
Едва лишь различая друг друга в осенних сумерках, они и не подозревали, как близка развязка…
Однажды утром Фогг пришел в «палату» в сопровождении незнакомца.
– Вы так торопитесь! Их еще не накормили! – предупредил он с выражением наигранного ужаса.
– Это опасно? – невозмутимо отозвался его спутник.
– Как знать? – пожал плечами Фогг и ухмыльнулся. – Вы говорили, вам нужны блондинки? – услужливо переспросил он.
– Да, – последовал краткий ответ.
Высокий молодой мужчина шагнул вслед за хозяином приюта в полутемное сырое помещение, слабо освещенное газовым рожком.
– Смотрите. – Фогг услужливо поднял фонарь повыше. – Какой оттенок вас интересует?
Люси встревоженно приподнялась на локте, прислушиваясь к звукам голосов. Откуда эти бессознательные страхи, что еще можно у нее отнять? Она устало опустилась на матрац. Но Элис напряглась всем телом и крепко сжала ее руку.
– Пожалуй, этот. – Мужчина указал рукой прямо на них.
– Ну, в первом случае, вас опередили. – Фогг пренебрежительно кивнул на Люси. – А эта, за ее спиной, вполне заслуживает вашего внимания. Прошу вас. – Он протянул своему спутнику большие ножницы, которыми скорее можно было стричь овец.
– Ни с места! – В полумраке позади него послышался щелчок взведенного курка.
От неожиданности Фогг оторопел: ему ни разу не грозили здесь, где он был абсолютным господином – только беспрекословно подчинялись.
– Стоять!
Элис порывисто вскочила, не выпуская руку Люси.
– Скорее! – В голосе ее звучала нескрываемая радость, в которую не верила она сама.
То, что случилось вслед за этим, было как во сне. Так не бывает! Или Бог и вправду не забыл о них?
– Бежим! – воскликнул незнакомец, увлекая Элис к выходу.
Услышав эти дерзкие слова, Фогг попытался было преградить им путь, но дуло пистолета заставило его умерить пыл.
– Она со мной! – шепнула Элис молодому человеку, кивнув на Люси.
Еще два шага, два удара сердца, и дверь – на расстоянии протянутой руки!
– Вы не посмеете! – в бессильном гневе крикнул Фогг.
– Я оставляю вас на милость ваших чад! – услышал он в ответ, и ножницы со звоном полетели на пол камеры.
– Не-ет! – Вслед беглецам донесся жуткий вопль, потонувший в многоголосом диком реве неукротимой ярости.
На улице, за поворотом, их ожидал готовый тронуться дорожный экипаж. Как только дверца захлопнулась за ними, кучер без всякого приказа пустил коней в галоп. Вскоре длинная, к счастью, совершенно безлюдная в этот ранний час улица осталась позади. Погони не было, и кучер, миновав еще квартала два, поехал тише.
– Куда мы едем? – спросила Элис, придя в себя.
Задернув занавеску, мужчина повернулся к ней, переводя дыханье. Его большие светло-карие глаза сверкнули из-под нахмуренных бровей:
– Ко мне. Я больше не отдам тебя ему, – решительно ответил он.
– Это Ричард – мой брат, – с улыбкою сказала подруге Элис. Ее лицо преобразилось: впервые оно словно излучало свет. – Без Люси я не выжила бы там, – добавила она, и голос ее дрогнул, но глаза сияли, а губы улыбались.
– Кажется, я ранил одного из надзирателей, – вспомнил вдруг Ричард. – В противном случае, мне даже и представить страшно, чем все могло закончиться!.. – Он замолчал и крепко обнял сестру за плечи. Его опущенные веки тревожно вздрагивали, точно перед его глазами все еще метались фигуры сторожей и вспыхивало пламя. Но Ричард поборол в себе смятение. – Спасибо! – Он с глубокой благодарностью взглянул на Люси и спросил: – Чем я могу помочь вам?
– Мне? – Она затрепетала. Неужели свершится чудо, и вскоре она увидит дочь – единственное, для чего стремилась обрести свободу?
Когда к ней возвратилась память, Люси вдруг поняла: в отчаянии, близком к помешательству, она бродила по ночному городу, ища свое дитя, а девочка на самом деле осталась дома! Как же иначе? Нелли просто могла унести ее покормить! А Люси вышла незаметно, словно тень, и не сказала никому ни слова.
Прошло так много времени с тех пор. А если… Все у нее внутри похолодело при мысли о приюте для сирот. Нет, миссис Ловетт не оставит беззащитного ребенка!
– Отвезите меня к моей дочери! – попросила Люси. Голос ее дрожал от лихорадочного нетерпения.
– Где вы живете? – Ричард внимательно вгляделся в ее взволнованное лицо, словно хотел удостовериться, что с нею все в порядке.
– На Флит-стрит!..
– Вам точно ничего не угрожает там? – на всякий случай спросил он.
– Нет, нет! Пожалуйста, скорее, – порывисто проговорила Люси, с мольбой протягивая к нему руки.
Ричард отдал распоряжение, и кучер развернул карету. Сердце Люси билось в такт с ударами подков, несколько минут показались ей бесконечно долгими. Наконец из тумана донесся густой голос колокола, возвещавший об утренней службе. Церковь святого Дунстана!
– Стойте! – воскликнула Люси, глядя в окошко. – Мы подъезжаем.
– Наденьте-ка вот это, так будет лучше. – Ричард накинул ей на плечи свой длинный плащ, прикрыв убогий серый балахон. – И будьте осторожны.
– Спасибо! – Люси с благодарностью взглянула на него. – Я никогда тебя не забуду, – горячо шепнула она Элис.
Подруги крепко обнялись – в последний раз. Прощальный взгляд в глаза друг другу, и Люси спрыгнула на мостовую. Дверца захлопнулась, лошади тронулись. Карета быстро покатила дальше по узкой улице, до самых тротуаров залитой дождем. Вскоре она исчезла за поворотом.
Закутавшись плотнее в широкий теплый плащ, Люси торопливо зашагала к дому. Сердце ее стучало все быстрее: прошло не меньше месяца с тех пор, как она покинула Флит-стрит.
* Качели Кокса.
Еще в 18 веке Эразм Дарвин предположил, что с помощью колебания или вращения можно попытаться вылечить безумие. Его идею воплотил в жизнь Джозеф Мэйсон Кокс в начале 19-го века, создав рабочую модель «Качели Кокса». Это приспособление использовали для лечения безумия и лунатизма.
Помогало лечение или нет — неизвестно, но после этой процедуры буйные пациенты долго не могли прийти в себя, что считалось неплохим результатом.
Примечание автора: В одном источнике написано, что сумасшедших (или называемых таковыми) крутили в этом кресле до четырех минут, в других – по несколько часов. Как быть? Но автор ловко ВЫКРУТИЛСЯ из этой ситуации: смотрите текст. Безвыходных положений не бывает!
P.S. Хотелось бы еще для верности проверить на себе – да, жаль негде!
Глава 18. ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Подойдя к пирожковой супругов Ловетт, Люси, дрожа от волнения, взялась за ручку двери. Заперто! Ей показалось это странным: обычно в магазине с самого утра царило оживление. Люси осторожно постучала.
– Кого еще там принесло? – донесся раздраженный мужской голос. – Иду!
Минуты через две за дверью послышались тяжелые, шаркающие шаги, и на пороге появился Альберт Ловетт.
– Вы?! – Его припухшие с похмелья круглые глаза расширились, как будто он увидел призрак.
– Впустите меня, – робко попросила Люси, поежившись от холода.
Но Альберт продолжал стоять на месте, загородив собой проход.
– Что?.. А какого черта вам здесь нужно? – возмущенно выругался он, придя в себя. – Опять явились дармоедничать?
– Прошу вас, мистер Ловетт! – Люси ухватилась за косяк, боясь, что он сейчас захлопнет перед нею дверь. – Пустите меня к моей дочери!
– Забавно… – Альберт уже начал подозрительно разглядывать ее неровно остриженные волосы и распахнувшийся от ветра мужской плащ, из-под которого виднелось неопределенного фасона одеяние.
– Вы снова с маскарада? – язвительно заметил мистер Ловетт.
Люси сжалась всем телом, как будто он ударил ее, но не ответила на оскорбление. Пусть насмехается и осыпает бранью, сколько угодно! Единственное, что важно для нее сейчас – ее дитя!
– Я хочу увидеть мою дочь, – повторила она, пристально глядя на Альберта.
Широкое мясистое лицо хозяина пекарни скривилось в издевательской усмешке.
– Ну так ступайте к своему судье, – заявил он грубо. – Мистер Торпин забрал ее к себе в особняк. Там вам обеим будет очень хорошо!
– Что? – Люси побледнела как полотно и отшатнулась. Если Альберт хотел уничтожить ее одними словами, то ему это удалось. Жестокое, непостижимое «забрал», которое он выплюнул, точно кусок, застрявший в горле, стояло у нее в ушах, перекрывая его ругань и непристойные сравнения. Не стесняясь прохожих, он выкрикивал что-то еще, вымещая накопившуюся злобу на безответной жертве, но Люси больше не слышала его. Она смогла лишь вымолвить: «Зачем?» – и без сил опустилась на порог.
Все остальные вопросы были бессмысленны. Она отказывалась верить, что человек, отнявший у нее любимого, забрал единственное, ради чего ей оставалось жить – ее дитя!
Накричавшись досыта, мистер Ловетт наконец ушел. Со скучающим видом соседи захлопнули окна: представление было окончено.
Люси так и сидела на мокрых ступенях, когда внезапно снова приоткрылась дверь, и рядом с ней на землю бросили какой-то узел.
– Вот твои тряпки, – раздался хриплый голос Альберта. – И убирайся поскорее!
«А что если он мне солгал? Конечно же, судья не мог забрать ребенка!..» – пронеслось у нее в голове и замерло одновременно с сердцем.
– Позвольте мне хотя бы увидеть миссис Ловетт, – с надеждой попросила Люси.
– Ее нет дома, – отрезал Альберт. – А чего здесь торчать? После истории с арестом и судом клиенты так и валят в пирожковую – не видишь? – И он широким жестом указал на полутемный магазин.
Возможно, он солгал и в этот раз: Нелли могла находиться в подвале и не услышать оттуда его криков. Но спорить было бесполезно.
Мистер Ловетт не скрывал своей ненависти к Баркерам, чьи беды столь заметно отразились на его делах. Особенно к жене цирюльника, из-за которой, собственно, все и началось. А то, что Торпин взял к себе ребенка Люси, неоспоримо доказывало Альберту ее вину. Сейчас он явно упивался ее страданиями и унижением.
– Чего уставилась? Пошла отсюда! Или полицию позвать?
Закашлявшись, он злобно сплюнул на тротуар и скрылся в доме, хлопнув дверью так, что задрожали стекла.
Люси машинально прижала к себе узел. Месяц назад она ушла отсюда, не взяв с собою ничего. И вот сегодня, как в ту ночь, ей снова предстояла дорога в никуда. Что ждет ее в конце пути, и будет ли конец?.. Всего за несколько минут она успела умереть десятки раз и с ужасом понять, что до сих пор жива. Когда она пыталась отравиться, Господь внезапно отобрал у нее смерть, словно игрушку у несмышленого младенца. Значит, она не заслужила избавления. Для чего же тогда Он вернул ей свободу? Люси покорно подчинилась Его воле, так и не найдя ответа на вопрос. Жить – из последних сил, не смея больше верить и надеяться; смириться с тяжким приговором: жить! Поднявшись на ноги она, не оборачиваясь, побрела по улице.
Над городом дымились трубы множества заводов. С утра до ночи тысячи людей не покладая рук работали за жалкие гроши. Каким трудом смогла бы зарабатывать она? И где найти приют?
Ей нужно было поскорее где-нибудь переодеться, чтобы не вызывать опасных подозрений. Люси свернула в переулок, осторожно пробралась в какой-то двор и торопливо развязала узел. Конечно, Альберт вернул ей далеко не все, – чудо, что вообще вернул! – но, кроме пары платьев, в свертке оказалось теплое пальто. Что-то тяжелое вдруг выпало и глухо ударилось о землю. Люси готова была расплакаться: ботинки! На обуви, в которой она была, едва держалась тонкая подошва. Там же нашелся капор, и Люси прикрыла им свои короткие растрепанные волосы. Теперь ее хотя бы не примут за бродяжку и не прогонят, как собаку, когда она пойдет искать работу. Но сначала…
Напротив парка, над широкой улицей величественно возвышается роскошный особняк из тесаного камня. Серый, как пасмурное небо, и неприступный, как утес над пропастью. Люси с закрытыми глазами нашла бы сюда дорогу, и снова роковая неизбежность привела ее в это проклятое место, откуда ей неудержимо хотелось убежать. Страх, как зазубренная на конце стрела, засел в ее груди, а боль воспоминаний все глубже загоняла его в тело.
Люси ни за что бы не решилась постучать. Остановившись возле самого угла, она, не отрываясь, следила за задним входом в надежде, что оттуда выйдет кто-нибудь из слуг. Так продолжалось несколько часов. Она уже совсем отчаялась, когда вдруг пожилая женщина, скромно и опрятно одетая, пройдя мимо нее, направилась к заветной двери.
Люси, запыхавшись, подбежала к ней:
– Простите, мэм, вы здесь работаете?
– Да, – отвечала женщина спокойно и с достоинством, повернувшись к незнакомке.
– Позвольте вам задать один вопрос?
– Позволю, только побыстрее: я спешу.
– Скажите, правда ли, – заговорила Люси, едва переводя дыханье, – что мистер Торпин взял в дом маленькую девочку?
– А кто вы, собственно? – последовал осторожный вопрос.
– Я… знала ее мать.
– Тогда вы знаете, что девочка – все равно, что сирота. Отец – на каторге. Судья-то даже приговор ему смягчил, я слышала, – великодушный человек. А мать… – Женщина со вздохом перекрестилась. – Одному Богу известно, где она. Хозяин девочку сначала забрал к себе на время, да так и оставил. Господь вознаградит его за благое дело… Простите, я должна идти. – С этими словами, она поспешно скрылась за низкой дверью, и ключ, слабо звякнув, повернулся в замке изнутри.
Вот и все! Люси в отчаянии опустила руки. Больше она ничего не может сделать, не сможет позаботиться о дочери без денег и без крыши над головой! Ей даже не удастся ее увидеть. «Все равно, что сирота…»
Слушая, как добропорядочная женщина в наивном неведении или считая это своим долгом по отношению к хозяину, превозносила самого безжалостного и бесчестного преступника, Люси дрожала с головы до ног. Раскаяние, сожаление? Торпину не знакомы эти чувства! О, Боже, неужели, воспользовавшись маленькой Джоанной, он снова хочет заманить ее к себе? Гнетущее предположение закралось в ее душу, но тут же полностью разбилось о вопрос: не проще ли похитить женщину, которую преследуешь, вместо того, чтобы забрать ее ребенка? А может быть, после всего случившегося, ей и вправду следует благодарить его за доброту?! Но, так или иначе, она вернет свое дитя! Для этого ей нужно поскорей найти работу. «Сначала он забрал ее к себе на время…» А вдруг потом судья отдаст Джоанну в какой-нибудь приют? О, только бы не опоздать!..
Люси стояла на пороге небольшой, но респектабельной гостиницы. На улице уже темнело, и зажигались первые фонари.
– Желаете снять комнату? – любезно обратился к ней хозяин. Приятная наружность джентльмена средних лет, одетого хотя и строго, но со вкусом, невольно вызывала доверие и симпатию.
– Нет, я ищу работу, – поспешно ответила она.
Тот с интересом пригляделся к незнакомой женщине. Ее болезненная бледность и худое истощенное лицо не сразу бросились ему в глаза. Когда же он заметил эти признаки, которые, к несчастью, неизменно сопутствуют нужде, его любезность испарилась в один миг. Обманутый в своей надежде сдать очередную комнату, хозяин отошел за стойку и принялся перебирать какие-то бумаги.
– Какого рода мм… работу? – поинтересовался он, на этот раз довольно сухо.
– Хотя бы горничной, – проговорила Люси и пошатнулась. – Простите, сэр, вы не позволите мне сесть?
Она на ела уже сутки и едва держалась на ногах.
– А есть у вас рекомендательные письма? – Голос хозяина гостиницы звучал отрывисто и холодно. Больная и голодная – только этого ему не доставало!
– Нет, сэр, я не работала ни разу… – Так и не дождавшись разрешения, Люси присела на табурет.
– Сожалею, ничем не могу вам помочь.
Ответ был равносилен требованию немедленно уйти. Предвидя, что через минуту ее с презрением прогонят, Люси, пошатываясь, направилась к дверям. Черные точки кружились у нее перед глазами. Едва она успела выйти, как слабость охватила все ее тело. Выронив узел с единственным оставшемся в нем платьем и плащом, Люси наощупь дотянулась до стены и без сознания соскользнула вниз...
Она не помнила, как долго пролежала в забытьи. На улице совсем стемнело. Очнувшись, Люси огляделась вокруг себя. Весь подол ее платья оказался забрызганным грязью, а сверток бесследно исчез. Теперь у нее снова не осталось ничего.
Когда, мы, сидя в кресле у горящего камина, читаем на досуге роман о чьих-то злоключениях, и вдруг невольно представляем себя – на улице, голодными, раздетыми, без средств к существованию, это приводит нас в невыразимый ужас. На самом деле мы просто не способны себе этого представить!
Бедность похожа на клеймо, а обеспеченные люди отшатываются от бедности, как от чумы. Найти приличную работу бедняку во много раз сложнее, чем человеку среднего достатка. Не каждый лавочник доверит уличному бродяге даже мытье полов. Доверие не так-то просто заслужить. Если бедняга неделю не ел, значит, он может украсть, пойманный на горячем – явно способен убить. Такими общество воспринимает нищих, такими ежедневно вынуждает их становиться. Когда за кражу и убийство один и тот же приговор – повешенье*, им нечего терять.
Люси могла продать старьевщику на рынке вещи из своего свертка, чтобы купить еды, но не успела. Боясь лишиться и той одежды, что была на ней, она искала закуток, в котором можно было бы укрыться на ночлег. Невзгоды научили ее остерегаться подобных себе существ, особенно во мраке. Ни у кого при виде одинокой женщины, бредущей наугад по незнакомым ей улицам и переулкам, не пробудится ни сочувствия, ни доброй мысли. Сама она уже не думала, не размышляла – только прислушивалась, всматривалась в темные провалы поворотов и трепетала, уловив отрывистые звуки приближающихся шагов.
Люси нашла себе убежище в сарае, где хранили уголь и дрова. Уже отчаявшись, она случайно завернула в чей-то двор и, прислонившись к деревянной стенке, почувствовала, как со скрипом подалась одна из досок. Собрав остаток сил и сдвинув ее в сторону, Люси с трудом протиснулась в образовавшуюся щель. Внутри пахло сыростью, плесенью и мышами. Пускай! – только бы не было людей. Хотя бы до утра. Пробравшись в глубину сарая, она в изнеможении прилегла на кучу дров и вскоре погрузилась в тяжелый, глубокий сон.
Люси разбудило чье-то учащенное горячее дыханье – у самой ее щеки. И, не успев еще открыть глаза, она почувствовала резкий запах алкоголя: кто-то обнаружил ее здесь! Схватив попавшуюся под руку доску, Люси порывисто отпрянула назад. При слабом свете, пробивавшемся сквозь щели в деревянных стенах, она увидела… Но что это? Рука ее сама собою опустилась: перед ней стоял ребенок – подросток лет двенадцати-тринадцати на вид. Огромные, блестящие во тьме глаза с опаской, не моргая, смотрели на нее из-под густых взъерошенных волос.
– Откуда ты взялась? – проговорил он изумленно, и, осмелев, добавил: – Чего так испугалась?
– Ты… здесь живешь? – спросила Люси в замешательстве, разглядывая худенькую, невысокую фигурку в потрепанной одежде.
– Да, это мой сарай, – ответил мальчик с ноткой гордости. – С сегодняшнего дня! Вернее, с этой ночи.
Пошатываясь, он прошелся между бревен и по-хозяйски деловито осмотрелся.
– Эх, сколько топлива! Жаль, негде будет развести огонь! Зато, по крайней мере, есть, где спать.
Мальчик уселся на мешок с углем и снова перевел глаза на Люси, как будто ожидая ее ответа. Оба молчали. В тишине отчетливо послышались удары падающих капель по железной крыше: начинался дождь.
Не веря собственному слуху, Люси торопливо пробралась туда, где прошлой ночью случайно наткнулась на расшатанную доску. Дождь! Измученная жаждой, она ждала его, как дар небес. Единственное благо, о котором ей не придется униженно просить скупых людей! Зажмурившись и запрокинув голову, она пила по капле прохладную живительную влагу, словно боясь, что солнце вдруг разгонит тучи, и это чудо прекратится.
Напившись, Люси провела ладонями по мокрому лицу. Теперь она должна идти, настойчиво искать дорогу, которой, может быть, и нет…

– Постой, – раздался детский голос за ее спиной. – Иди под крышу: ты совсем промокла.
– Но это же твое жилище… – проговорила Люси, обернувшись.
Мальчик стоял у самого прохода, припав щекой к шершавой неокрашенной доске. Только сейчас при свете дня она заметила, какое исхудавшее и бледное у него лицо. Должно быть, хмель еще держался в его юной голове, и он старался хоть немного ободриться, жадно вдыхая влажный воздух.
– Оставайся! – В глазах мальчугана промелькнула лукавая искорка. – Скоро нас и так отсюда выгонят – вместе отправимся слоняться с флагом! Ну, неприкаянные по ночам бродить по улицам, – прибавил он, заметив, что его не понимают, и протянул свою измазанную в саже и ржавчине ладонь. – Не бойся, я – Тоби!
Коротенькое незатейливое имя. Хоть на него и не купить еды, зато – не отобрать, и беспризорный лондонский мальчишка, оборванный, без крова и без гроша в кармане гордился этим!
Держась за его худенькую руку, Люси вернулась наконец под крышу.
– Ты так и не назвала свое имя, – строго напомнил он.
– Люси…
– Откуда ты? – продолжал допытываться Тоби. – Муж выгнал или сама ушла? – по-взрослому серьезно спросил он вдруг.
Люси не отвечала. Говорить о прошлом было слишком тяжело – достаточно и настоящего.
– Скажи мне лучше, где можно найти работу и приют?
– Ха, если бы я знал – не спал бы в угольном сарае! – И Тоби звонко расхохотался: его и впрямь развеселила ее наивность. – Бедняки выживают, как могут: одни протягивают руку и просят, а те, кто половчее, – берут… пока никто не видит. Ну, если уж совсем невмоготу, тогда – работный дом** или конец. Второе – еще не так страшно.
– Почему? – проговорила Люси.
Тоби посмотрел на нее, как на несмышленого ребенка.
– Ты не из наших, это сразу видно, – произнес он то ли с обидой, то ли грустно, с состраданием. – По мне, так лучше умереть свободным под открытым небом, чем выживать в работном доме. Мать привела меня туда, когда мне было девять лет. Приближалась зима. Нам негде было спать, нечего было есть. В работном доме мы почти не виделись. Матери, дети, мужья, старики – все жили в разных помещениях. Однажды там она заснула… и уже не просыпалась. Меня не было с нею, когда она умирала. Но сейчас она – рядом, я верю! – закончил Тоби, с вызовом глядя в полутьму сарая, где кроме них двоих не было больше не души.
– А твой отец – он тоже умер?.. – робко спросила его Люси и тут же поняла, что лучше было промолчать.
Но Тоби не смутил ее вопрос, он только удивился:
– Нет, его и вовсе никогда не было, – пожав плечами, отозвался мальчик и улегся на мешок.
В сарае снова повисла тишина, которую лишь изредка нарушали приглушенный стук колес и голоса прохожих, доносившиеся с улицы.
Люси закрыла глаза, прислонившись к стене. Ей нужно было что-то предпринять, найти решение, но мысли растворялись, точно дым. Голод уже не был острой, режущей желудок болью – он медленно, но верно распространялся по всему ее измученному телу, жестоко стискивая грудь и горло. Люси казалось, будто с каждым вздохом из нее выходит жизнь. Но даже крошка хлеба не упадет с небес, как дождь. Вчера она прошла десятки улиц, где каждое жилище, будь то роскошный особняк или лачуга бедняка, служило чьей-то крепостью, закрытой для чужих.
Если бы можно было разыскать ее подругу Элис! Она бы помогла подняться на ноги, дала совет… Но Люси даже не спросила ее адрес, и связь оборвалась. В этом огромном сером городе из камня и тумана, Тоби был единственным, кто без колебаний протянул ей руку. И хоть в его измазанной ладошке не оказалось ничего, он не отталкивал ее, как те холеные, заботливо одетые в перчатки, руки.
– Я выйду ненадолго! – раздался вдруг голос Тоби. – Жди здесь! Не уходи! – распорядился он и скрылся.
– Куда ты? – окликнула его Люси.
Негромкий стук шагов затих за поворотом. Она осталась в одиночестве. Так продолжалось около получаса.
Скрип отодвигаемой доски и приглушенный кашель вырвали ее из забытья. Мальчик вернулся; под мышкой он держал буханку хлеба, такую мягкую, что даже слегка примялась.
– Хочешь? – спросил он, отрывая для нее солидный ломоть.
– Да… – При виде хлеба у Люси закружилась голова. Она проглотила слюну, инстинктивно протягивая к нему руку. – Откуда ты его достал?
– Украл! – без всякого стеснения признался Тоби.
– Послушай, – прошептала Люси, – никогда нельзя воровать у других – это значит украсть у себя частицу души.
Она не в праве была его судить, но эти необдуманные горькие слова непроизвольно сорвались с ее губ. Возможно потому, что у нее когда-то отобрали то, что ей было в сотни раз дороже собственной души?
Тоби замер на месте в замешательстве. Его огромные глаза внезапно потемнели, а губы дрогнули и искривились в язвительной усмешке.
– Ты рассуждаешь, точно ангел! – хрипло крикнул он. – Бесплотный, глупый ангел, который может обходиться без денег и еды! Но что они способны дать нам, кроме воздуха?
Дрожащей от негодования рукой он выхватил у Люси ломоть хлеба, к которому она едва успела прикоснуться.
– Ты тоже!.. Тоже будешь это делать! – сдавленным голосом проговорил он и выбежал под дождь.
– Постой! Прости меня!.. Пожалуйста… – Но было уже поздно. Люси затихла, обжигающие слезы побежали по ее лицу.
Затерянные в бурном океане суровых испытаний, они по воле случая, вдруг оказались в одной лодке. И он сумел ее понять, а она – нет! Самым обидным для Тоби было то, что упрекнул его не булочник, не чопорный, надменный джентльмен, которому ни разу в жизни не приходилось голодать, а женщина, теряющая сознание от голода!..
Люси больше не могла здесь находиться: немая пустота сарая давила на нее. Покинув свое жалкое убежище, она добралась до ворот и огляделась. Ни одной лавки, только низенькие неказистые домишки… Пришлось пройти еще квартала два, пока не появились первые ларьки и магазины.
Люси не ела уже вторые сутки. Голод подталкивал ее на самые немыслимые, безумные поступки. Она готова была броситься с мольбами на колени перед прохожим, но ни за что бы не смогла украсть! Или смогла бы?..
Из окошка лавки на углу подзывает покупателей молодая женщина в белом накрахмаленном чепце. Ее лоток наполнен свежеиспеченным хлебом. Пожилая леди покупает связку калачей. Хозяйка на мгновенье отворачивается, отсчитывая сдачу.
Люси протягивает руку – медленно, затаив дыханье, незаметно – все ближе, но голос, не чужой, а ее собственный, тут же отгоняет искушение:
– Помогите, пожалуйста, я отработаю…
– Ага, так я тебе и поверила! – прикрикнула на нее женщина, замахиваясь полотенцем. – А ну пошла отсюда, нищенка бродячая!
Люси брела под моросящим небом, уже не глядя по сторонам. Промокшие ботинки, промокшая, забрызганная грязью одежда вызывали не только пронизывающий холод во всем ее теле, но и опасливые подозрения прохожих. На карте не было и нет такой страны, где сытый понял бы голодного. Так уж устроен этот мир: добропорядочные люди, вопреки известной поговорке, всегда считали бедность самым отвратительным пороком. Их не за что судить: ведь нищета ужасна! Люси даже теперь содрогалась при мысли, что могла оказаться среди проституток, воров и убийц.
У церкви, перед самой службой, ей удалось собрать немного милостыни. Не веря собственным глазам, она как можно крепче сжала деньги в кулаке и поспешила в лавку, почти бегом, но не успела… Какой-то здоровенный, угрожающего вида бродяга приставил к ее горлу нож, и отобрал те жалкие гроши. Больше ей никто не подавал.
Надвигался вечер, небо по-прежнему застилали тяжелые тучи. К ночи густой удушливый туман*** окутал улицы; в нем невозможно было разглядеть даже своей протянутой руки. Он желтоватыми клубами дыма вился возле фонарей и серой пылью опадал на мостовую. Люси присела на тротуар и прислонилась спиной к стене. Куда она попала, что это за место? Ватный воздух то и дело прорезали звуки голосов, скрежет отворяемых дверей, пьяный непристойный смех.
– Эй, черт бы вас побрал, где здесь таверна?
– На расстоянии плевка отсюда!
– Тьфу, пропасть! – Кто-то раздраженно сплевывает сквозь зубы. – Я, как рыба в помойной канаве, – даже башмаков своих не вижу!
Передышка, затишье. Отрывистый стук трости по булыжникам.
– Идем со мной – не пожалеешь! – Развязный женский смех и шелест шелкового платья. – Для удобства можно стоя…
Вдруг совсем рядом раздается гневный окрик:
– Ударь, попробуй! Только сунься!
И тут же – звук тяжелого удара.
– Ах ты, гнида!..
Люси порывисто вскочила и бросилась бежать. Она могла попасть под экипаж, разбиться о залитую чавкающей жижей мостовую, но не остановилась. Дыхание срывалось, а в ушах шумело, страх гнался вслед за нею по пятам. Внезапно, поскользнувшись на ухабе, она ударилась лицом о чью-то грудь.
Синяя форма, блестящие пуговицы. Шлем… Полицейский!
Удерживая Люси на вытянутых руках, он изучающе окинул взглядом ее одежду.
– Ты попрошайка?
Жесткий риторический вопрос заставил ее сжаться: обидное слово в устах полицейского прозвучало, как имя. И ей придется, суждено его носить. За этот род занятий ее вполне могли арестовать.
– Не-ет… – Люси задрожала, как в ознобе.
– А заработать хочешь?
Что?! Заработать – честно, собственным трудом? Не смея верить, широко-раскрытыми от изумления глазами она смотрела на незнакомого ей человека, форма которого внушала уважение. Ей показалось, что она вот-вот лишится чувств.
– Сколько? – спросил нетерпеливо полицейский, и жесткость в его голосе сменилась неожиданной развязностью.
Пошатнувшись, Люси ухватилась за его мундир, чтобы не упасть.
– На хлеб… – угасающим голосом прошептала она.
– Пошли. – И он увлек ее в седую темноту.
То, что случилось вслед за этим, не поддавалось описанию. Прижатая к шершавому дощатому заботу, Люси не успела даже вскрикнуть. Всего за несколько минут ее надежда была вырвана по клочьям из отчаянно сопротивлявшегося тела, ее лицо и воля стерты, как мел с доски. Туман скрывал ее позор и унижение от посторонних глаз, но как тогда, на том ужасном маскараде, она все видела, все сознавала. Крики о помощи были бессмысленны: неподалеку от таверны, где ночи напролет не прекращается гульба, они не настораживают, а только слабо раздражают слух.
Вскоре ей бросили не землю горсть монет – в уплату за растоптанную душу, и размеренные гулкие шаги затихли вдалеке.
О Боже! Как она могла так низко пасть? Как вообще приходит к этому свободное и здравомыслящее человеческое существо? Животные, и те – зубами и когтями добывают себе пищу – она так не могла. Возможно, потому, что, будучи голодной, не превратилась в хищного изголодавшегося зверя. Люси осталась человеком – и от этого ее поступок был еще ужаснее! Ведь, по сути, она согласилась! Самое страшное – она уже сейчас предвидела свою дальнейшую судьбу – месяцы, годы жизни в нищете заставят ее сотни раз пройти по улицам не только с протянутой рукой… Но как? Неужто она сможет подражать распущенным, вульгарно выряженным женщинам, без всякого стыда торгующим собой?
Как и тем людям, равнодушно отказавшим ей в пустяковой помощи, Люси не приходило в голову, что исключительно нужда, а не распутность, толкала девушек на этот шаг, не оставляя им обратного пути. И многие из них со временем утратили себя, но разве все? Она еще не верила, не в состоянии была себе представить, что позже, как бы не противились бы ее душа и разум, ей, точно формулу, придется повторять их непристойные привычные слова, копируя их жесты и, часто напускную, раскованность манер. Поверить в это было невозможно, как невозможно примириться с тем, что горячо любимый ею человек безвинно терпел жестокие побои и издевательства в застенках каторжной тюрьмы и обречен был так страдать до самой смерти!
Снова и снова Люси с горечью осознавала, что безвозвратно погибла для Бенджамина. Но, не взирая ни на что, он продолжал в ней жить, не угасая, в самом потаенном уголке ее души, – там, где живет в нас Бог, – упорно не давая умереть. В здравом уме она уже не сможет, не попытается убить себя во второй раз.
Как много в Лондоне домов, таблички на которых категорически предупреждают: «Попрошайничать запрещено». Как мало ты встречаешь искренности и доброты, когда они нужны, как воздух! А униженье – во сто крат острее боли. Монеты, брошенные ей под ноги полицейским, так и остались в уличной грязи…
Близился рассвет. Люси дремала на ступеньках замшелого крыльца у входа в покосившуюся ветхую лачугу с заколоченными окнами. Туман рассеивался, понемногу обнажая череду полуразрушенных домов асимметричной формы, тесно прижатых один к другому. Вдали над ними возвышались остроконечные готические башни. Вестминстерское аббатство! Люси и не подозревала, что в нескольких шагах от гордого величия старинных зданий ютятся самые убогие трущобы. Тогда она еще не знала, что это место называлось «Акр Дьявола». Здесь никогда не проезжали экипажи, а по одежде местных жителей нельзя было определить, какое на дворе десятилетие. От холода и голода они дрожали точно так же десять и двадцать, и сотни лет назад. Улицу постепенно заполняли люди какой-то странной, неведомой породы, то ли страдающие тяжкими болезнями и отупевшие от пьянства, то ли живые трупы в сгнивших саванах. Мужчины, женщины, подростки, старики – незанятые, непригодные к работе, обуза общества, лишние в жизни – сколько их тут? Оборванные ребятишки рылись в кучах мусора, ища гнилые овощи. Ослабленные вечным недоеданием и обделенные заботой, избегнут ли они жестокой гибели в топкой трясине этого зловонного чистилища, куда их втягивает с самого рождения? Им суждено лишь безнадежно увядать, как бледные травинки вдали от солнечного света…
Кто повинен в упадке и бедствиях этих людей? Как давно, кроме неба, на земле появился иной, ненасытно требующий жертвы Бог, который превращает обездоленных в чудовищ на забаву дьяволу вместо того, чтобы спасти их от напастей?
Стараясь оставаться незамеченной, как можно осторожнее ступая по слякоти, темно-серой от золы, Люси, пошла вдоль переулка. Напрасная предосторожность: ее здесь вообще не замечали, словно она была еще одним булыжником на грязной мостовой или полуразбитой бочкой из-под рома. Никто и не подумал бы прогнать отсюда женщину в измятом платье с перепачканным подолом, как поступили бы в комфортабельном квартале. Но внутренний инстинкт, крича, подталкивал ее бежать из этой удушающей клоаки со всех ног.
Люси остановилась на перекрестке. От слабости в ушах шумело, как от ветра, перед глазами словно кружилась сажа. Куда идти, где остается хоть малейший шанс не потерять себя, как говорила Элис, когда перед тобою только два пути: упасть на дно вместившей столько жизней беспросветно-черной пропасти или пытаться устоять на шатком ее краю?..

Кое-как добравшись до ближайшего приличного района, Люси с облегчением вздохнула. В сравнении с той смрадной западней, которую она покинула недавно, дома и улицы кругом казались ей невероятно чистыми и благопристойными. Она не подходила больше к лавкам и не заглядывала в безучастные глаза прохожих, не умоляла сжалиться над ней – только молча, покорно ждала, протягивая перед собой озябшую раскрытую ладонь. И снова Бог не дал ей умереть: к обеду Люси собрала несколько пенни.
Так продолжалось около недели. Она просила подаяния на паперти у небольших церквей или на пристани, где в дни прибытия судов, было довольно многолюдно. Труднее было находить себе приют. Ночлежки стоили четыре пенса за кровать, а ночи становились все холоднее.
Люси обошла за эти дни с десяток фабрик, где могли работать женщины, но все попытки оказались безуспешны: ее не взяли ни на одну из них. Ей не везло ни в лавках, ни в мастерских, а некоторые хозяева, приняв ее за оборванку, грозились позвать полицию. Каждое место в этом мире было занято, словно ячейка пчелиных сот, а рядом в ожидании выстраивалась очередь. Кто они, эти неприкаянные – трутни поневоле или попросту изгои? А может быть – грехи стоящих гораздо выше них, обретшие изголодавшуюся человеческую плоть? С раннего утра к воротам шелкоткацкой фабрики целыми толпами стекались дети. «Где же работают взрослые?» – спросила Люси девочку-подростка лет тринадцати. «Где могут, – неопределенно ответила она. – Детей берут охотнее: им ведь платят меньше». Ворота отворили, и девочка понуро зашагала вслед за остальными во двор: у маленьких работников начинался трудовой день…
Однажды Люси забрела в тот самый дровяной сарай, где ночевала в первый раз после побега из приюта Фогга. Дул холодный, пронизывающий ветер. Вдыхать морозный воздух было больно: ее душили приступы сухого кашля, а грудь горела. Она сама не помнила, как ноги принесли ее туда. Протиснувшись в узкий проход, Люси ступила несколько шагов в кромешной темноте и без сознания упала на мешки с углем.
Полоска света пробежала по ее лицу, слепя глаза, и что-то теплое, шершавое и мягкое легло в ее ладонь.
– Возьми: я заработал это. Честно! – раздался звонкий детский голос. – Мне посчастливилось помочь одной хозяйке. Я ей поднес тяжелую корзину, и она дала мне на целый хлеб с капустой!
Тоби! О Боже, неужели он вернулся? Или это сон?
– А ты? – проговорила Люси, с трудом приоткрывая потрескавшиеся губы.
– Бери. Я пока сыт.
Она взглянула на его осунувшееся, не по-детски серьезное лицо с огромными запавшими глазами, и поняла, что он не ел уже, по меньшей мере, сутки.
– Ты плачешь? – удивленно спросил Тоби, наклонившись к ней.
Маленький ангел, чистая душа! Чтó в сравнении с тобою богачи, которые жалеют поделиться даже объедками! Бездомный мальчик, сирота, которому всегда не доставало материнской теплоты, самоотверженно согрел ее своей.
– Прости меня за то, что я тогда тебе сказала, – прошептала Люси, сжимая его худенькую детскую ладонь. – Прости меня…
– Забыто! – Он встряхнул растрепанными волосами и засмеялся. – Ну, ешь скорее.
– Спасибо, но я возьму, если и ты поешь.
– Ладно. – Пожав плечами, Тоби послушно принялся за вторую половину хлеба, и вскоре от нее остались только крошки, которые, все до последней, он засыпал себе в рот.
– Ты бредила всю ночь… Кто такой Бенджамин? – спросил он неожиданно.
– Мы были очень счастливы, – отвечала Люси. Она впервые смогла сказать об этом вслух.
С минуту Тоби задумчиво молчал, как будто размышляя над смыслом двух печально связанных друг с другом слов: «счастливы» и «были». Как часто они идут бок о бок, как редко встречается первое. Больше он не расспрашивал ее.
– Знаешь, мы с мамой жили очень бедно, но все же были счастливы, – сказал вдруг Тоби. – Недолго. Когда она смогла устроиться на хлопковую фабрику… Тогда по вечерам она мне приносила остывший, но еще мягкий хлеб – такой, как этот – и мы мечтали, что со временем накопим денег, и никогда не будем голодать… Потом она болела. Очень долго. И ее место на работе было занято. Тогда-то я и начал потихоньку бессрочно «брать взаймы». По ночам я тайком выковыривал гвозди из рам в хлебных лавках и оставлял всего лишь два: сверху и снизу. А утром, когда на витрине появлялся товар, я осторожно вынимал стекло – и забирал, что попадалось под руку. Ох уж и быстро приходилось удирать!.. Но за жилье мы не могли платить баранками и скоро оказались под открытым небом. Нам оставалось умереть на улице или пойти в работный дом. Ты знаешь, Люси, кто не побывал в работном доме, еще не верит, что там хуже, чем в аду! Мама тоже не верила. Ты понимаешь, – неожиданно воскликнул он, – там нас заставляли изнурительно трудиться, а в наказание часто лишали даже прогорклой каши! Я слышал, что мужчины вынуждены были обгладывать гнилые собачьи кости, которые их заставляли перемалывать на удобрения. Выходит, нас обкрадывали! Обкрадывали тех, у кого вообще ничего не было!
Тоби рывком поднялся с места. Лицо его стало вдруг не по-детски суровым. Люси не находила слов, чтобы хоть как-то успокоить его, но вскоре он переборол свое волнение. Он слишком рано научился все делать сам.
– Ах да, совсем забыл: возьми немного джина, чтоб согреться. – И Тоби вынул из-за пазухи пузатую бутылку. – Нам хватит этого на пару дней.
Люси не стала спрашивать, откуда джин. После всего услышанного ею, она бы никогда не упрекнула его за то, что он пытался выжить. Мальчик не жаждал смерти, как избавления от бед, а ведь он выстрадал не меньше, чем она!
Несколько дней Тоби заботился о Люси, пока она не начала вставать. Однажды вечером он выбежал на улицу и больше не вернулся. Ни на рассвете, ни через день. Мальчик бесследно исчез, как исчезает огонек, блуждающий во мраке. Люси была далека от мысли, что он нашел себе пристанище получше и позабыл о ней. О, если бы действительно все было так! Но сердце ее сжималось от предчувствия беды, а воображение ежеминутно рисовало самые страшные картины.
Ночи стали ветреными и промозглыми: приближался конец ноября. Хозяева сарая уже чаще наведывались за дровами и углем, и Люси опасалась, как бы ее не обнаружили. Если это случится, доски заколотят намертво, и прохода не будет. Целыми днями ей приходилось бродить по городу: морозный воздух не давал ей слишком долго задерживаться на одном месте. Прохожие на улицах встречались гораздо реже. Единственным местом, куда люди ходят в любую погоду, был храм, и нищие, прекрасно сознавая это, задолго до начала службы успевали занимать свои места на паперти. То был своеобразный театр, актерами в котором выступали отвращение и глубочайшее презрение под маской милосердия и благочестия. И зрители готовы были им рукоплескать.
Люси добралась до церкви слишком поздно, и ей не удалось собрать ни пенни. Пригнувшись, чтобы не споткнуться на обледеневшей мостовой она пошла обратно. Ветер подталкивал ее, как надзиратель арестанта. Ей ничего не оставалось, кроме как повиноваться, понуро глядя себе под ноги, и вдруг… что-то блеснуло в щели между булыжниками. Шиллинг! Она уже почти забыла, как он выглядит. Монетка обжигала пальцы, словно маленькая льдинка – Люси боялась, что она растает.
Кто-то порывисто дернул ее сзади за рукав.
– Люси! – В знакомом детском голосе звенели удивление и радость.
– Тоби! – обернувшись, вскрикнула она. – Смотри, ты только посмотри, что я нашла! – И Люси приоткрыла свою дрожащую ладонь.
– Вот это да! – Худенькое личико мальчишки просияло. Он аж присвистнул от восторга. – Пошли за хлебом!
– Где же ты был все это время? – спросила его Люси на ходу.
– Потом скажу. Они опять заставили меня на них работать. Я сбегáл пару раз, но от них никуда не укрыться…
– От кого? – Люси с тревогой осмотрелась по сторонам.
– От главарей, что держат в подчинении шайку уличных мальчишек, – быстро шепнул ей Тоби и потянул за руку в сторону ближайшей лавки. – Бежим, скорее!
Люси едва поспевала за ним. Закашлявшись, она совсем остановилась.
– Погоди, я мигом! – Тоби проворно взбежал на крыльцо и исчез за дверями.
Через стекло витрины Люси видела, как он уверенно подошел к прилавку и протянул хозяину блестяще сокровище. Тот недоверчиво уставился на шиллинг, затем на мальчика, словно ища ответа на вопрос: откуда уличному оборванцу посчастливилось достать такие деньги? Тоби нетерпеливо дергал пуговицу куртки, посматривая на посыпанные сахаром и маком калачи… Томительные несколько секунд хозяин молча изучал его, как экспонат, и вдруг визгливо закричал:
– Воришка: я узнал тебя! Держи его, держи! – И, хлопнув деревянной дверцей, поспешно выскочил из-за прилавка.
Этот крик прозвучал точно гром среди ясного неба.
Тоби рванулся к выходу. Но в тот же миг один из покупателей ловко схватил его за ворот. Ах, Тоби, будь твоя одежда чуть более поношенной и ветхой, твоим преследователям достался бы лишь обрывок ткани! Но куртка выдержала…
– Заприте дверь! – не унимался булочник. – Бегите за полицией!
Девушка лет пятнадцати, его помощница, как была, в одном суконном платье, промчалась мимо Люси, и вскоре скрылась за поворотом улицы.
Двери заперли изнутри.
– Он воровал у меня три, четыре… нет, восемь раз! – причитая, жаловался пекарь джентльмену, крепко державшему Тоби. – Однажды он стащил полвыручки у меня из кассы!
– Это неправда! – яростно крикнул мальчик, услыхав последние слова.
– Молчать! Сейчас ты у меня попляшешь! – с угрозой прошипел хозяин. Неудержимой жгучей ненависти этого человека к беднякам хватило бы на целую толпу.
Вскоре явился полицейский. Тоби связали руки за спиной и вывели из магазина.
– Отпустите ребенка, ведь он заплатил! – Люси повисла на руке констебля, но ее брезгливо оттолкнули прочь.
Из соседних лавок с любопытством начали выглядывать торговцы. Праздные зрители всегда найдутся, даже в лютый холод.
Толпа зевак сопровождала полицейского, задержанного и двух свидетелей до самого участка. Не отставая, Люси бежала вслед за ними. Раз или два она споткнулась на обледеневшей мостовой, сердце ее бешено стучало, горло обжигал морозный ветер.
У входа в обнесенный высоким каменным забором двор полицейского суда, Тоби внезапно обернулся, ища кого-то. Люси поймала его взгляд – затравленный, горящий взгляд огромных глаз. В нем сквозила такая тоска, словно в этот момент между ними порвалась последняя нить…
Внутрь ее не пустили. Она прождала под воротами не меньше часа, пока не вышли булочник со свидетелем, не видевшим по сути никакого преступления. Как только они показались под каменной аркой, Люси бросилась им навстречу.
– Что сделают с мальчиком? – замирающим голосом спросила она.
– Будто не знаешь: завтра он станцует под ньюгейтскую волынку****, – ответили ей грубо.
Она не поняла.
– Ступай отсюда, а не то и ты отправишься в участок, – пригрозил ей напоследок булочник и удалился. Спутник его тем временем остановил извозчика и сел в карету.
Из запертых ворот больше никто не выходил, хмурая приземистая крепость точно вымерла, а Люси все еще стояла посреди пустынной улицы, так и не решаясь уйти…
Ночью она ни на минуту не сомкнула глаз. Колючий ветер дул из каждой щели, и от его ударов ей порой казалось, будто кто-то ходит по железной крыше. Люси еле дождалась зари, и как только в просветах между досками посерело, поспешила обратно в участок.
На этот раз она не побоится – будь что будет! Ей нужно непременно постучать в эти высокие, массивные ворота и спросить у часового, что ожидает ее друга. Уже недалеко, еще немного…
По дороге, на улице перед Ньюгейтской тюрьмой ее насторожило скопление народа. В домах напротив жители, рискуя простудиться, чуть ли не по пояс высовывались из окон. Люси не осмеливалась посмотреть поверх толпы, туда, где на помосте у стены стояла виселица. Воздух гудел, как улей, до ее слуха долетали обрывки фраз:
– Мальчишка напал на хозяина булочной. Тот говорит – он угрожал ему, хотел ограбить и убить…
– А я слышала: этот бродяга воровал в его лавке почти ежедневно, пока не попался…
Внезапно наступает тишина. И над толпой, застывшей в ожидании, отчетливо проносится глухой короткий стук откинутой доски. Люси зажмурилась – и тут же непроизвольно подняла глаза…
Нет! Этого не может быть! Тоби, Тоби!..
Его повесили.
Маленький добрый ангел улетел на небеса. Теперь ему больше не надо ни хлеба, ни крова, а только воздух – чистый и прозрачный, как его душа. Мальчик, едва ли умевший писать, сдержал свое слово: он умер под открытым небом!
И сейчас он свободный, счастливый – вон там, высоко над домами, где светится мутное пятнышко солнца…
– Прости меня, Джоанна, дитя мое… Я обещала о тебе заботиться, оберегать от горя – и не выдержала испытания! Теперь я не смогу забрать тебя… – Не отрывая взгляда от закрытых ставнями высоких окон, Люси до боли сжимает пальцы, покрасневшие от холода.
Как ненавистно это давящее, мрачное величие огромного особняка, единственное украшение которого – крылатые чудовища с оскаленными пастями. Как отвратительно убого показное милосердие его владельца, в которое никто не верит, но многие готовы восхвалять! Ругань последнего пропойцы, бранящего свою пустую, безрадостную жизнь, куда душевнее и откровеннее его цветистой лицемерной речи.
Немыслимо: дочь Бенджамина Баркера по-прежнему жила под этой крышей. Крошечная, хрупкая частичка человека, чью судьбу без колебаний загубил судья. Нет смысла отрицать, что Торпин избавил невинное дитя от голода, скитаний и нужды, но Люси благодарила в своих молитвах только Бога – не его.
– Я так и не увидела тебя, моя Джоанна... И даже не смогу прийти под эти окна… до самой весны.
Она перевела глаза на низкие седые небеса, но не осмелилась перекреститься.
– Господи! Ты не принял моей недостойной души. Я почему-то верю, что ты и теперь не призовешь меня, и я решилась. Клянусь, я больше не желаю себе смерти. Только бы дойти… А там – тебе судить!..
Последний взгляд на запертую дверь. Пора. На ровной мостовой – ни грязи, ни замерзшей лужицы… Люси идет по ней, словно по шаткому мосту. Но тут же оборачивается и протягивает исхудавшую обветренную руку, благословляя дом, который следовало бы проклинать:
– Прощай…
«Приближалась зима. Негде было спать, нечего было есть…»
Извилистые улицы все ýже, а под ногами сквозь разбитые булыжники проглядывает смерзшаяся голая земля. Лудильщик в лавке на углу сказал, что это где-то рядом.
«Однажды там она заснула… и уже не просыпалась».
Слепящий белый снег летит в лицо. Осталось несколько шагов. Вот она – дверь в высокой каменной ограде. Совсем, как та, в тюрьме, откуда заключенных выводят на эшафот. Ей придется войти, чтобы выжить. Иные скажут – совершить самоубийство. Но выбор сделан.
– Простите, Бенджамин, Джоанна… И ты, Тоби, – потрескавшимися губами шепчет Люси, и дыхание тут же превращается в пар. – Я уже ничего не боюсь.
На глазах ее слезы – от колючего ветра, дрожь во всем теле – только от холода. Весной она покинет это место и больше не вернется!
Люси даже представить себе не могла, сколько раз ей еще предстоит возвращаться сюда, сколько вытерпеть испытаний. И самые тяжкие – те, на которые мы соглашаемся по собственной воле.
Подняв покрытый инеем железный молоток, она как можно крепче сжала его в руке и трижды постучала в работный дом.
* Когда за кражу и убийство один и тот же приговор – повешенье.
События, описываемые в этой главе, происходят на заре царствования королевы Виктории, когда за воровство казнили даже детей. Виктория правила Соединённым королевством Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года и до своей смерти 22 января 1901. До 1838 г. в английском законодательстве количество преступлений, за которые полагалась виселица, исчислялось десятками. Позднее, к 1861 году – смертная казнь полагалась только за пять преступлений (убийство, пиратство, поджог военно-морской базы, шпионаж, государственная измена). Что касается публичных казней, то они были отменены только в 1868 году.
** Работный дом
Первоначально работные дома создавались исключительно как одна из форм исполнения наказания. Позже из них выделилась благотворительная ветвь заведений, в которых нуждающимся предоставлялась работа, еда и кров, а страждущим предоставлялись относительно свободные условия проживания и добровольное участие в труде. Принудительные работные дома зачастую совмещались с тюрьмами, а добровольные с богадельнями, приютами, образовательными и просветительскими учреждениями. Работные дома создавались как государственной властью, так и частными лицами. Их финансирование велось за счёт казны и/или пожертвований.
*** Описание лондонского тумана нисколько не преувеличено: это не яркая художественная фантазия, а истинная правда. Туман действительно бывал насколько плотным, что окунаясь в облако цвета горохового супа, прохожие кашляли и зажимали носы. Туман усиливала дымовая завеса от печных труб.
Единственными, кого радовал туман, были столичные проститутки. В туманные дни они зарабатывали гораздо больше, ведь даже самые робкие мужчины не боялись с ними заговорить.
В наше время густые желтые туманы, ранее считавшиеся традиционным явлением, исчезли, поскольку уголь для отопления домов в английской столице сегодня используют очень редко.
**** Фразеологизм «Танцевать под ньюгейсткую волынку» – означает «дергаться в петле». Ньюгейтская тюрьма – главная тюрьма Лондона. В 1783 г. к ее стенам из Тайберна был перенесён знаменитый лондонский эшафот для совершения публичных казней. Только в 1868 г. смертные приговоры стали приводить в исполнение внутри тюрьмы.
Уголовная ответственность в Англии наступала с 7 лет. Детей могли приговорить к тюремному заключению, каторжным работам или смертной казни.
Глава 19. КОГДА ПРИДЕТ ВЕСНА
– Имя, возраст, откуда?
– Люси Баркер, девятнадцать лет…
Дыша на пальцы, окоченевшие от холода, Люси машинально отвечала на сухие краткие вопросы. Комната, в которую провели ее через широкий мощеный двор, была почти пуста и походила на караульню полицейского участка.
– Откуда ты пришла?.. Не слышу! – повысил голос человек, сидевший за столом, заваленным бумагами. Он точно вопрошал ее: виновна или не виновна, заранее приписывая ей все смертные грехи.
– Я никогда не покидала Лондона.
– Муж, дети?
– Я совсем одна, – как можно тверже вымолвила Люси и вздрогнула при мысли, что почти не солгала.
Смотритель небрежным, размашистым почерком записывал ее слова. Закончив, он захлопнул увесистую книгу, исписанную множеством безвестных, ничего не говорящих ему имен, и, жестом приглашая следовать за ним, направился к двери.
– Сперва тебя осмотрит доктор, затем получишь униформу и помоешься – и сразу принимайся за работу! – распорядился он. – Кстати, ты читать умеешь?
– Да, – отвечала Люси, с опаской оглядываясь по сторонам.
– Тогда сама прочтешь вот эти правила. – Он ткнул ей пальцем в пожелтевший документ, вывешенный на стенке у входа в коридор.
Заглавие гласило «Работный дом Поплер».
Она успела пробежать глазами всего лишь несколько немудреных фраз: «Подъем в шесть утра, завтрак… начало работы – в семь… обед, окончание работы – в шесть вечера… ужин, отбой – в восемь вечера. Нерабочими днями считаются воскресенья, Страстная Пятница и Рождество. Строго запрещается: выходить без разрешения; играть в азартные игры, употреблять жаргон, курить и проносить спиртное… запрещено мужчинам заходить на территорию, где проживают женщины, а женщинам – на территорию мужчин. Свидания матерей с детьми – в разумный период времени. Дети получают начальное образование…»
Прочитанное, против ожидания, не только не насторожило, но даже несколько успокоило ее. Как же она была наивна! Едва войдя в эту обитель горя, Люси даже не подозревала, что истинные правила для обездоленных – жестокие, бесчеловечные – не записаны ни на одной бумаге, и не нарушить их просто невозможно. Именно этим правилам ей предстояло подчиняться.
– Эй, не задерживайся! – поторопил ее смотритель.
Что толку изучать формальную потрепанную грамоту, засаленную грубыми мозолистыми пальцами, не раз водившими по ней? Гораздо больше узнаёшь, читая между строк – на кухне, где в огромный чан воды бросают жалкие три кварты* залежавшейся крупы, не выбрав из нее крысиного помета, и в тесном карцере с окошком без стекла, куда на сутки запирают в лютый холод… Иди вперед и скоро эта жуткая картина из лихорадочного сна предстанет и твоим глазам.
Люси не дочитала, что в особых случаях неподчинение карается тюрьмой, и за отказ от выполнения работы лишают пищи. А отказом нередко называли попытку прилечь на минуту или просто мольбу или жалобу.
Волнение и слабость притупляли в ней все остальные чувства, и она без возражений согласилась на осмотр у врача, но сообщение, что мыться полагается при надзирателе, повергло ее в ужас. Отступать было поздно и глупо: ее сочли бы за сумасшедшую. Люси не дали времени прийти в себя, поставив перед нею таз и полное ведро воды, которую никто не собирался нагревать. Мыло, похожее на камень, почти не пенилось. Дрожа от холода и нестерпимого стыда, она, едва закончив с омовением, поспешно развернула брошенный на лавку сверток, ища защиты под холщевой тканью униформы. Одежду, что была на ней, забрали. Странное желтое платье оказалось чересчур широким, и Люси затянула его поясом, стараясь не задумываться, сколько обреченных на нужду несчастных покорно облачались в эту робу до нее.
– Почему оно желтое? – растерянно спросила она.
– Другого нет. По крайней мере, целого. Или предпочитаешь красное? – язвительно осведомился надзиратель.
Послышались удары колокола. Тяжелые раскатистые звуки были похожи на хриплый бас.
– Отныне ежедневно этот колокол будет сообщать тебе о смене действий: вставать, одеваться, молиться, обедать и работать, работать, работать – давай, пошевеливайся! Обед ты уже пропустила.
Не дожидаясь, пока Люси распутает завязки на изношенном чепце, надзиратель сердито подтолкнул ее к выходу. Где-то неподалеку с шумом распахнулась дверь, и коридор наполнился стуком грубых башмаков. Вскоре из-за поворота им навстречу вышла группа женщин. Люси заметила, что большинство из них одеты в серое, две или три – в поблекшее, выцветшее красное. Некоторые были в желтом, как и она сама. В одинаковых чепцах, закрывающих им волосы, женщины казались все на одно лицо – словно угрюмо-серый поток реки, что, не пересыхая, из года в год течет по каменному руслу коридоров. Люси должна была занять отныне место среди них.
– Ступай на кухню, – приказал ей надзиратель. – Работы много: как раз до вечера управишься!
В отличие от непроглядной темноты тюремных казематов, с которой неминуемо сталкиваешься в подобных заведениях, на кухне, как и в коридорах, оказалось достаточно светло. Но бледный зимний свет не ободрял – он лишь усиливал гнетущее и удручающее душу впечатление от закопченных, сплошь покрытых плесенью, потрескавшихся стен. Затоптанные каменные плиты пола кое-где крошились, а по углам чернели дыры крысиных нор. От глаз не укрывалась ни одна деталь убогой наготы, в которой представала здесь нищета. На широком столе из неструганных досок возвышались гигантского размера кастрюли. В огромном очаге потрескивал огонь.
Оглушенная бряцаньем жестяной посуды, Люси растерянно застыла на пороге. Воздух, пропитанный прелью, мутный от пара, обдал ее вдруг непривычным живительным теплом.
– Чего стоишь? – раздался голос надзирателя. – Вон старшие: они тебе расскажут, что надо делать.
В толпе снующих взад-вперед по кухне женщин Люси заметила двоих, которые, по-видимому, руководили всем процессом.
– Эй, принесите еще дров! Сходите за водой!.. А, новенькая! – Коренастая, уже не молодая женщина повернула к ней широкое, усеянное оспенными шрамами лицо. – Давай-ка, выскобли кастрюли, чтобы каша не прилипла, иначе будем есть горелую!
Люси без промедления послушно подчинилась. Руки ее понемногу согрелись и перестали дрожать. А в голове на все лады звучала, многократно повторяясь, единственная мысль, вместившая целую гамму ее чувств: тепло!
Вторая повариха помоложе, следившая за общей суетой, проверила работу Люси.
– Неплохо. – Бросив осторожный взгляд на надзирателя, она старательно сгребла со дна кастрюли почерневшие горелые остатки, и… торопливо проглотила их. – Почистишь следующую – не зевай, а подкрепись: ты еле на ногах стоишь. Только не вздумай кушать пищу, которую готовишь. Увидят – посадят в карцер.
На сточенном коротком лезвии ножа, валявшегося рядом, прилипли заскорузлые лохмотья того, что, по ее словам, еще годилось для еды. Люси, зажмурившись, отправила их в рот – и тут же содрогнулась в приступе мучительного кашля.
– Сразу понятно, что ты здесь впервые, – пожав плечами, усмехнулась женщина. Без тени осуждения, но и без сочувствия. Ее улыбка была лишь машинальным движеньем губ, а смех – угрюмым приглушенным вздохом. – Если надеешься насытиться за ужином – то чуда ждешь напрасно, – предупредила она сухо, бросая в полную воды кастрюлю небольшую порцию крупы. – Будешь помешивать, а сварится – разбавишь, не то на всех не хватит.
– А вы давно тут? – осторожно спросила Люси.
– Почти пять лет, – сказала женщина. И снова в голосе ее – ни жалобы, ни жалости к себе.
Люси была поражена: неужто, можно продержаться здесь так долго?
– И как же?.. – вырвалось у нее невольно.
– Ты, вероятно, хочешь расспросить, как тут живется? Сама увидишь. Кормят хуже, чем заключенных. Зато у каждого, кто полуголый с улицы приходит, сразу же появляется своя одежда, своя кровать. Даже беда у каждого своя – не отберешь. Только гроб – один на всех: до кладбища и обратно.
– Обратно? – изумленно переспросила Люси.
– Ха! – Короткий отрывистый вздох. Собеседница искоса смотрит на нее из-под чепца. – Не поняла? Покойника – в землю, а гроб – назад. Столько тут умирает, что гробов не напасешься… Ты лучше дело делай. Увидят, что болтаешь – лишат похлебки! – И женщина берется за топор, чтоб расколоть дрова.
К вечеру принесли положенную долю хлеба. Откуда привозили эти высохшие кирпичи, которые с закрытыми глазами скорее можно было принять за пемзу? Их полагалось разрезать на порции не больше, чем по шесть унций** каждому. В этом работном доме, по словам трудившихся на кухне женщин, содержалось не меньше пяти сотен человек. Люси едва справлялась: ей приходилось буквально пилить тупым ножом окаменевший хлеб. Единственной надеждой было размочить в его в горячей каше, благо туда добавили достаточно воды.
Уже совсем стемнело, когда колокол ударил к ужину. Несколько котлов приготовленной овсянки надзиратели забрали для мужчин, детей и стариков. Оставшаяся часть была доставлена в женскую столовую.
Вдоль низкой, скупо освещенной комнаты, тянулись длинные ряды столов, сколоченных из грубых досок. Как оказалось, поварихи, прачки, работницы из лазарета и ткацкой мастерской обедали все вместе. После душного спертого воздуха кухни Люси почувствовала одновременно свежесть и озноб: в комнате стоял промозглый холод. Там даже не было ниши для очага: отапливать столовую для бедняков – бессмысленная, неоправданная роскошь!
В обязанности Люси входило также раздавать похлебку под строгим наблюдением надзирателя.. Ей уже не пришлось удивляться тому, чем наполняли миски, которые, после еды не приходилось мыть.
– Две меры каждой, – приказала старшая по кухне, подавая Люси довольно вместительный половник. Во всяком случае, им можно было зачерпнуть порядочную порцию водянистой жижи.
– Господь всемогущий, благодарим тебя за щедрые дары твои, которые ты расточаешь на недостойных своею милостью. Аминь! – раздался в тишине простуженный дрожащий голос, как только каша была разделена между собравшимися.
Едва была дочитана молитва, кроткие слова которой сложившиеся обстоятельства превращали в дерзкую иронию, как вся столовая наполнилась ритмичным стуком ложек о жестяные миски. Однако ложек хватало не на всех. Некоторые хлебали свою кашу, как питье, не дожидаясь, пока освободятся ложки у сидящих рядом. Что касается хлеба, то его первым делом бросали на самое дно.
Изголодавшаяся, обессилевшая Люси торопливо съела половину каши, не обращая внимания на вкус. Крупа, засохшая от времени, так и не разваривалась, а хлеб, размякнув, оказался настолько кислым, что от него сводило скулы. Переводя дыхание, она остановилась. Миски ее соседок были уже выскоблены дочиста, и женщины весьма красноречиво поглядывали на нее. Припомнив случай в приюте Фогга, Люси мужественно проглотила остатки пищи. Другой не подадут – это ей хорошо известно. О, только бы добраться до постели!
День пролетел, и надвигалась холодная и ветряная зимняя ночь, которая пройдет еще быстрее. Как и столовую, общую спальню не отапливали, но все же каменные стены защищали бездомных бедняков от непогоды. Вдоль комнаты, похожей на длинный коридор, двумя рядами, плотно примыкая одна к другой, тянулись койки, каждая не более двух футов в ширину. Их разделяли низкие деревянные перегородки.
Пробравшись в полутьме по узкому проходу, Люси наощупь отыскала незанятое место. Язык не повернулся бы назвать кроватью деревянный ящик, в который она легла, как в гроб. Изъеденные молью, сшитые вместе шерстяные лоскуты служили одеялом, а матрацем – тонкая подстилка, набитая слежавшейся соломой. С ощущением, близким к суеверному страху, Люси смотрела, как одетые в бесформенные саваны фигуры под гулкие удары колокола укладывались в такие же открытые гробы. Возможно, утром кто-то больше не поднимется… Но многим суждено еще страдать. В работном доме умирают гораздо медленнее, чем на эшафоте, чем на улице в мороз или в канале, куда бросаются от горя. Однако затуманенный от голода рассудок допускает лишь смутную возможность отдаленной смерти. Уйти отсюда – все равно, что спрыгнуть с утлого суденышка посреди бушующего моря. А в самый страшный час довольно и доски – только бы удержаться на поверхности! Но до какой же крайней степени нужды должно дойти разумное человеческое существо, чтобы назвать приемлемой и сносной жизнью самое жалкое ее подобие?
Люси вжалась лицом в мешковину пропахшего потом тюфяка, чтобы спящие не услышали ее стона. Все ее тело ныло от усталости. Пальцы, истертые о ручку затупившегося ножа, распухли, а правая рука, которой она выскоблила по меньшей мене дюжину кастрюль, горела до самого плеча. Завтра ей предстоял тяжелый день, еще один из множества в бесконечной череде, и некогда было оплакивать свою судьбу.
За первую неделю пребывания в работном доме Поплер Люси познала и увидела, пожалуй, больше зла и унижений, чем на улице. Лишения и трудности, к которым постепенно привыкает наше тело – ничто в сравнении с несправедливостью и неоправданной жестокостью, с которыми не в состоянии смириться разум, пока не помутится от безумия. И каждый день спасенные такой ценой от гибели несчастные должны были благодарить за это Бога. Всеобщие молитвы были обязательны: их возносили хором, кашляя от холода, и онемевшими руками осеняли себя крестными знамениями.
– Хотите большего – молите Бога и трудитесь! – указывали недовольным.
– Бог вечно занят, – бормотали бедняки.
Упорно повторяя слова молитвы, заученные с детства наизусть, Люси невольно задавала себе вопрос: заглядывает ли Господь в эту обитель? С работниками обращались как с рабами или последними преступниками, пользуясь тем, что безысходность не оставила им выбора. Условия в работном доме были так суровы, словно для того, чтобы ленивые не отняли кусок заплесневелого, сухого хлеба у истинно нуждающихся. Протершаяся грубая одежда и поношенная обувь не согревали – разве что прикрывали наготу. Негнущиеся, словно деревянные колодки, башмаки превращали каждый шаг в мучительную пытку. Скудная пища доводила до отчаяния даже тех, кто никогда не наедался досыта «на воле». За неповиновение, неосторожно брошенное слово или порчу ветхого имущества порции часто урезали вдвое. Порою провинившихся лишали нескольких приемов пищи, и те, обязаны были стоять во время трапезы у входа и молиться. По слухам, изредка работникам давали на обед безвкусное жилистое мясо, но в основном его присваивали надзиратели. В такие дни наказанных было гораздо больше.
Дрожа от холода в своей постели по ночам, Люси мечтала снова оказаться на кухне, где постоянно пылал очаг. Какой бы изнурительно-тяжелой не была работа, она давала все же возможность отогреться. На счастье, ночи пролетали быстро: следуя установленному правилу, вернее против правил, вывешенных в коридоре, поварихи поднимались намного раньше остальных.
Наступило воскресенье. В этот день полагалось идти на церковную службу. Обитатели дома могли, наконец, отдохнуть от работы. Но, чей-то голос, резко прозвучавший в темноте, задолго до удара колокола, заставил Люси встрепенуться:
– Поварихи – на кухню!
– Но сегодня ведь проповедь? – машинально спросила она. – Я читала в уставе…
– Да мало ли, что там написано! – рявкнули в ответ. – По-твоему, сегодня можно и поголодать? А кто похлебку будет нам варить – благотворительное общество? Пошли, – прибавил голос, уже спокойнее.
Значит, сегодня снова придется провести весь день на кухне. Ее избавили от бесконечно долгой проповеди в ледяной часовне. Мало-помалу придя в себя, Люси готова была благодарить за это Бога!
Дождливое и хмурое воскресное утро ничем не отличалось от суровых будней. Скобля кастрюли и помешивая кашу над огнем, работницы почти не разговаривали, но изредка до Люси долетали обрывки фраз:
– Ой, чувствую, что наша Бетти вот-вот родит: совсем плоха.
– Не рано ли? По-моему еще не время, Грейс.
– Беда не выбирает…
Бетти, девушка лет восемнадцати или даже моложе, облаченная в красный бесформенный балахон, с терпеливым усердием точила затупившийся нож. Ее лицо все покраснело от напряжения, а по вискам катились капли пота. Перед ней возвышалась гора пригоревших кастрюль: несмотря на свое состояние, Бетти работала наравне с остальными. Не заточив ножа, она не справится, а если не успеет во время, лишится половины завтрака, а, может, и всей порции.
– Знаешь, брат ее зарезал всю свою семью: жену, подростка-сына и маленькую дочку в колыбельке, – вполголоса проговорила Грейс. – Чтобы не видеть, как несчастные умирают с голода. Тут подоспели бобби***, и взяли его – он даже не сопротивлялся… Добрый и честный был человек – да спятил с горя: всего за пару лет семья скатилась в никуда. А Бетти уцелела. Только вот зачем? Самой-то ведь труднее наложить на себя руки…
– Ой, хватит, не могу об этом слушать без стакана джина, – взмолилась вторая женщина, утирая рукавом глаза.
Не вырваться на волю, не забыться. Спасительный стакан спиртного – чудодейственного эликсира, который дарит бедняку недолгое блаженство забытья… Как этого ничтожно мало, чтобы не сойти с ума! Как тяжко трезво видеть мир таким, каков он есть!
От волнения Люси пришлось отложить кочергу, чтобы та не упала в огонь, так задрожали ее руки.
– А ребенка-то, если он выживет, сразу отнимут, – со вздохом закончила Грейс.
Перед глазами Люси из густого пара внезапно проступило исказившееся злобой и презрением обрюзгшее лицо: «Он забрал ее, отнял, отобрал! Он увез ее к себе в особняк!..»
– Не отнимут! – раздался ее негодующий голос. – Мать может видеться с ребенком в разумный период времени! Я прочитала…
Люси не удалось договорить: грохот передвигаемой посуды заглушил ее слова. По-видимому, одна из женщин сделала это нарочно, чтобы их не услышал надзиратель.
– Да что ты? – Грейс иронически передернула плечами. – Знаешь, какой для них период времени разумный? – Никакой! Читать умеешь, а разумно рассуждать не научилась! Да зачем вообще падшей женщине учиться читать? – возмутилась она. В резком тоне ее голоса сквозила накопившаяся в ней горечь, которая, во что бы то ни стало, искала выхода.
Люси застыла, пораженная позорным обвинением, которое ей бросили при всех. Кровь прилила к ее щекам.
– Я не такая! – горячо воскликнула она.
– А кто ты? – вскинув голову, с вызовом прошипела Грейс. – Ты, как и я, одета в желтое – значит, такая же, как я!
– Другого не было, – растерянно возразила Люси. – Но при чем тут это?
– Не притворяйся! Всем известно: падшие женщины здесь носят желтое, а незамужние беременные – красное! Сначала я продавала овощи на рынке, потом – себя, теперь вот – оказалась в работном доме. Я не стыжусь! Тут все такие – желтых платьев не хватит, как похлебки!.. – почти кричала Грейс. Бог знает, сколько выстрадала эта женщина с тех пор, как в первый раз ступила на неверный, порочный путь. И был ли то порок или вина? Неудержимая слепая ярость, готовая в любой момент неуправляемым потоком вырваться наружу, душила Грейс. Она даже метнула быстрый взгляд на нож, который заточила Бетти.
– Да что я тебе сделала? – пытаясь удержать ее, вскричала Люси.
Приняв это движение за нападение, Грейс ощетинилась:
– Ты хуже, ты – ханжа! Трусливая и лицемерная ханжа! – И в следующую секунду между ними завязалась отчаянная борьба.
Несколько женщин бросились их разнимать. Два желтых платья исчезли в тесном кольце серых. Оставленная без присмотра овсянка забурлила, но никто не обратил внимания на это.
– Такая же, такая же! – точно в горячке повторяла Грейс, хрипя и задыхаясь. – Они сгубили моих детей!.. – вырвалось вдруг из ее груди. Охваченная бешенством, она, казалось, не осознавала, что делают ее руки. Не видела, что вместо тиранов и убийц душила угнетенное, затравленное существо.. Но схватка неожиданно закончилась.
– Прекратите! Немедленно! – прогремел зычный окрик.
Послышался тупой удар. Освободившись из нещадно стискивавших ее рук, Люси, едва переводя дыханье, огляделась: Грейс, оглушенная, лежала перед нею на полу. В мутном от пара воздухе распространился запах пригоревшей каши.
– За драку, беспорядок, порчу пищи – обеих в карцер! – последовал приказ.
Внезапно тишину прорезал сдавленный, протяжный стон: Бетти, схватившись за живот, упала, опрокинув выскобленную дочиста кастрюлю. Девушка не жалела сил, боясь остаться без еды…

Карцер представлял собою крохотную темную комнатенку с низким потолком. Зарешеченное окошко на уровне лица предусмотрительно оставили незастекленным, иначе можно было задохнуться.
Люси предстояло провести здесь ровно сутки – стоя, без теплой одежды, голодной и даже без воды. Прислонившись спиной к отсыревшей стене, она долго неподвижным взглядом смотрела в темноту. Напряженное, разгоряченное тело ее быстро остывало, только мысли все еще кипели, точно на огне. Их бередили не обида, не злоба к загнанной в такой же карцер где-то рядом, ожесточенной унижениями Грейс, но пока они боролись, Люси передалась ее неистовая ненависть. К кому? – она еще не понимала, не могла назвать по имени. Но этот кто-то повелел бездомным, обездоленным забыть о человеческом достоинстве и покориться уготованной им рабской участи в тюрьме для невиновных, безвыходной как нищета. Здесь не держат насильно, однако на улицу никто не спешит. И многие согласны даже носить позорную одежду, яркий цвет которой кричит об их беде. Обществу непременно нужно было унижать отверженных, которым оно милостиво оказывало помощь. Должно быть, чтобы принимать подачки не вошло у них в привычку. Но почему им суждено трудиться до изнеможения в приюте за миску непригодной для еды похлебки вместо того, чтобы свободно жить на честно заработанные деньги? Потому что нищим, для которых нет работы на заводе, вовсе не положено платить? А кто такие нищие? Лентяи, паразиты, шлаки общества, ничтожный, никудышный сброд? Кто виновен в их бедствиях, неужто – они сами? Люси на собственном опыте убедилась, что нет. Войти в работный дом одно и то же, что умирая на морозе, согласиться быть сожженным на костре. Или «из огня да в полымя», выражаясь языком простых людей. И вот она снова в ледяном тупике, где нет ни охапки соломы, ни места, чтобы прилечь.
Припав к решетке, Люси неподвижно смотрит, как перед нею тает белое облачко пара. Холод сковывает ее тело, пробираясь до самых костей. И неожиданно слова горячей благодарности срываются с ее дрожащих губ: «Спасибо тебе, Боже, что дочери моей тепло, за то, что уберег ее и защитил. И за то… – на мгновенье глухое рыдание сжимает ей горло, – что сейчас она не со мной!»
Люси не сомкнула глаз всю ночь. Под ногами, в черноте замкнутого тесного пространства что-то непрестанно копошилось. Звать на помощь было бесполезно. Терзаемая отвращением и страхом, она терпела это мокрое мохнатое назойливое существо до самого утра. Когда ее освободили, Люси с трудом могла передвигаться, но даже о минуте отдыха не было и речи. Она надеялась, что возле очага на кухне ей станет хоть немного легче. Однако вскоре оказалось, что ожидания ее были напрасны.
– С сегодняшнего дня отправишься работать в лазарет! – сурово сообщил ей надзиратель и, то и дело, подталкивая в спину, повел по коридору в отдельное крыло.
Еще не доходя до двери, ведущей в первую палату, Люси закашлялась: в ноздри ей ударил сильный запах аммиака. Для чего он здесь – неужели, чтобы не терять сознания от голода? Только переступив порог, она смогла представить себе жуткое зловоние, которое он должен был перебивать.
На тюфяках, постеленных прямо на полу, лежало вряд по нескольку больных. Бурые, кое-где кровавые, растекшиеся пятна на их белье и одеялах не оставляли никаких сомнений в том, что здесь несчастных не лечили, а попросту гноили заживо. В одной из стен темнело отверстие камина, который, по всей видимости, топили крайне редко, если вообще топили. Вместо дров туда свалены были ящики с упаковками серых бинтов и какие-то странные металлические инструменты.
Если бы в первый день в работном доме Люси увидела не кухню, а лазарет, ее последние иллюзии развеялись бы уже тогда. Отсюда нет спасения, отсюда попадают лишь на небеса! Стоны, лихорадочное бормотание, хриплое дыхание наполняли комнату, словно в ней вот-вот испустит дух огромное дикое раненное существо.
Бредившая в лихорадке женщина судорожно металась на соломенной подстилке, не давая отдыха лежащим рядом. В бреду она звала кого-то, протягивая руки, но имя невозможно было разобрать.
– Эй, помоги мне ее перенести, – кликнула Люси одна из санитарок, ухватившись за подол больной.
Вдвоем они, переступая через ворох бесформенных лохмотьев, кое-как проволокли ее по узкому проходу и уложили отдельно у стены.
– Как ей помочь? Есть тут какие-то лекарства? – спросила Люси, безнадежным взглядом обводя палату, заполненную распростертыми телами.
– Не выживет, – пробормотала санитарка, как будто не услышала вопроса, и поднялась на ноги. Внешность ее была не менее болезненной, чем у пациентки: аскетически худые плечи, осунувшееся, землисто-бледное лицо с резко-очерченными скулами, продолговатые припухшие глаза…
– Грейс? – вырвалось у Люси.
Женщина медленно повернулась и пристально посмотрела на нее.
– Ты и впрямь не такая, – проронила она. – Просто не жила еще, бедная. – В хрипловатом голосе ее звучало скорее снисхождение, чем жалость.
– Да, не жила почти, но много потеряла, – отозвалась Люси, словно обращаясь к самой себе.
– Полно жалеть себя! – сердито оборвала ее Грейс. – Мы все теряем больше, чем находим. Зато уж больше, чем имеешь, не отнимут… Были у тебя дети? – спросила она вдруг напористо, с каким-то вызывающим упреком выговорив слово «были».
– У меня есть дочь, – дрогнувшим голосом отвечала Люси.
– А у меня их было четверо, – ты слышишь? – четверо сыновей! – Грейс резко выпрямилась, и глаза ее сверкнули из-под нахмуренных бровей. – Было. Последнего похоронили несколько дней назад. Ни одного не видела с тех пор, как здесь живу. Знала только, что где-то в соседнем крыле они, сдирая руки в кровь, с утра до вечера щипали пеньку****… Их даже хоронили без меня.
Грейс выжала намоченную тряпку и энергично принялась тереть полы, как будто вымещая накопившуюся злобу.
– Запомни, – бросила она через плечо, – не все потеряно, когда у тебя «есть». Другое дело – когда «нет». И больше никогда не будет!
Люси стояла, точно громом пораженная. Она была обезоружена. Своей суровой, грубой прямотой Грейс неожиданно раскрыла ей глаза. Ни чуткость, ни забота не способны так отрезвить отчаявшуюся больную душу, как эти несколько отрывистых коротких фраз. Да или нет – как черное и белое, а между ними провидение дает нам время для борьбы. И только слабый погибает раньше срока.
– Чего ты размечталась? Бери ведро и убирай! – раздался голос надзирателя, и Люси торопливо подчинилась.
Нет ничего позорного и унизительного в том, чтобы хоть немного облегчить страдания изнуренных тяжкими болезнями, беспомощных людей. Но как помочь им? Перекладывая с места на место пропитанные нечистотами матрацы, размазывая грязь по каменному полу дырявой тряпкой? Люси заметила, что некоторые больные, бессвязно бормотавшие себе под нос, бредили вовсе не от жара. В полном сознании они были безумны – безумны, как покинутые всеми узницы в приюте Фогга! Тот, кто хотя бы раз увидел отрешенные потухшие глаза, в которых временами вспыхивает беспричинное неистовое торжество, уже не спутает безумие с обычной лихорадкой. Оно просачивается в каждую лазейку между массивными камнями стен и невесомыми песчинками тревожных мыслей. Безумие, как рыскающий хищник, везде находит себе жертву!
– Ты, кажется, сказала, у тебя есть дочь? Она в работном доме? – послышался негромкий голос Грейс.
Люси растерянно остановилась.
– Нет. У человека, который преследовал меня и, наконец, разрушил мою жизнь, – ответила она, не оборачиваясь.
– Он ее отец?
– Нет! Он погубил ее отца!
– Убил?
– Почти. Сослал на каторгу. Пожизненно. – Сама не понимая почему, Люси не оборвала этот странный разговор, похожий на допрос. В смятении она ждала совета, который должен был решить ее дальнейшую судьбу. Сочувствие лишило бы ее сейчас последних сил, но в голосе, который бередил ее незатянувшиеся раны, не было сочувствия. Настойчивый, неумолимый он прозвучал как будто внутри нее:
– Если ребенок у него, значит, он ждет. Пойди к нему. Я бы уже давно пошла.
– Только не это!
– Тогда иди с другими. Ты молода еще, ты сможешь. Ради дочери. Найди покровителя, который тебя защитит.
– Я не смогу! – Люси в отчаянии сжала пальцами виски. – Чего ты добиваешься – свести меня с ума?
– Тогда придется забыть о ней. Со дна не так-то легко подняться. Разве что всплыть после того, как захлебнешься. – Грейс говорила сухо, без эмоций. Она давно усвоила неписаные правила отверженных, следуя им, как аксиоме. – Меня так просто не удастся потопить! Когда закончится зима, я выйду: здесь меня уже ничто не держит.
– Я тоже жду весны, чтобы уйти, – призналась Люси. Самое сокровенное ее желание прорвалось за пределы ее души, и ей внезапно стало не по себе.
– Не жди, а думай. Говорю тебе: ты сможешь.
– Что? Что?!
– Сама знаешь. Только так, не иначе, – продолжал непримиримый голос. – Найти приличную работу труднее, чем на дороге – полный денег кошелек…
Чьи-то надрывные стоны заглушили последние слова. Но где-то глубоко внутри себя Люси услышала глухое эхо: сможешь! В груди кололо тысячью иголок и обжигало, как огнем. Прозрачно-чистые воспоминания померкли, затерялись во мраке настоящего. Вот-вот раздастся непостижимое, жестокое «Смогу!», точно фальшивый, ложный приговор…
– Больше не выдержу!.. Дайте хотя бы пить. Воды, воды-ы! – доносится буквально со всех сторон. Кажется, здесь стонут даже стены.
Уж лучше нестерпимая физическая боль, чем эта пытка раздираемой на части изувеченной души!
– Не дышит! Умерла! – вскрикнула вдруг одна из санитарок, широко-раскрытыми глазами глядя на безжизненное тело, распростершееся на полу.
– Чего орешь? Не умерла, а спит! – одернула ее Грейс. – Мне разрешили дать ей снотворного, чтобы не мучилась.
Люси склонилась над больной, чтобы пощупать пульс.
– Это же Бетти! – воскликнула она.
Рука была холодной, пульс не бился.
– Она… Она действительно мертва, – прошептала Люси. Ей вспомнилось, как тихо и незаметно покинула приют умалишенных бедняжка Мэри, и сторожам осталось лишь ее бесчувственное тело. Как Бенсон, ухмыляясь, говорил, что за него заплатят хорошо… Безумие и смерть не просят подаяния, не зарабатывают непосильным, каторжным трудом – они бесстрастно делятся друг с другом добычей, которая сама плывет им руки.
– Отмучилась: теперь ей намного легче, чем нам! А там уже никто не отберет ее дитя, – со вздохом заключила Грейс, перекрестившись.
То были и заупокойная молитва и эпитафия. И Люси поняла: ребенок тоже умер. Но почему эта суровая и замкнутая, скупая на эмоции и чувства женщина так тяжело вздохнула? Набравшись смелости, Люси пытливо заглянула ей в глаза: в их долгом взгляде, устремленном на покойницу, читалась нескрываемая искренняя зависть.
Тело вынесли только под вечер.
Чуть позже колокол ударил к ужину: скоро здоровые работницы, раздав еду больным, смогут покинуть пропахший смертью лазарет. Подстилка, на которой недавно лежала Бетти, была пуста. Люси бессознательно прилегла на смятую солому, пропитанную кровью. Все ее тело ныло и горело, грудь содрогалась в приступах сухого кашля. Мысли, тревожные и противоречивые беспорядочно метались в голове. Кто совершает больший грех: мать, отказавшаяся жертвовать собой ради ребенка или жена, забывшая обеты верности, которые дала у алтаря? Люси клялась и в горе и в радости заботиться о самом близком ей, любимом человеке, а Бенджамин – это Джоанна! Замкнутый круг священной жертвы и позорного греха сжимался все теснее. Как же ей вырваться из него на волю? Неужели нет иного выбора?
Глаза печет, и веки, отяжелев, смыкаются, как будто закрывая двери в реальный мир и широко распахивая в тот, которого не существует.
…Горчично-желтый, удушающий туман окутывает улицу. В нем исчезает совесть и бесцельно блуждает болотный огонек загубленной судьбы. Пока не раздается, словно выстрел: «Сколько?»
Какой ценой измерить боль утраты, тоску разлуки?.. Нет, не было и никогда не будет такой цены!
Люси не двигается с места. Внезапно чей-то голос, – неужели ее собственный? – отрывисто и четко произносит: «Шиллинг», и наступает мертвая, томительная тишина. Только душу мы можем продать лишь однажды, а тело – сколько вытерпит душа. И это преступление страшнее воровства – бесконечно убивать… себя. Легче на самом деле умереть! Да разве же она жива без дочери, без Бенджамина?
Свет газового фонаря выхватывает из темноты высокий стройный силуэт. Кто этот человек, лица которого не разглядеть? Он приближается, и что-то приглушенно бряцает о камни мостовой при каждом шаге.
«Сколько?.. – тихо спрашивает Люси печальный голос, от которого по телу пробегает дрожь. – Сколько времени прошло с тех пор, как мы в разлуке?»
«Бен!.. Ты?!.. Не может быть!» – Ей хочется кричать, рвануться ему навстречу, обнять – так крепко, чтобы больше никогда не отпускать. Но ничего не происходит: ей дано только видеть и слышать сквозь мутную пелену тумана. Неведомая сила, как приговоренного в суде, лишает ее права говорить, а ноги словно скованны тяжелой цепью. Как у него!
В растерянности Бенджамин оглядывается по сторонам. Густой прогорклый дым клубится, застилая улицу, но Люси на мгновенье видит перед собой его глаза – большие темные глаза, в которых теплится неугасимый огонек надежды.
– А где же наша дочь? – вдруг спрашивает он.
Люси до боли стискивает пальцы. Ни ложь, ни правда не сорвутся с ее губ: она нема!
«Если ребенок у него, значит, он ждет. Пойди к нему!» – все явственнее вспыхивает в глубине ее сознания, и после каждой вспышки тьма становится еще черней…
– Давай, приподнимись: не с ложки же тебя кормить! – ворчливо окликает ее Грейс. – Сегодня кушать будем здесь: придется задержаться.
В палате раздавали ужин: извечную овсяную похлебку с черствым хлебом.
– Убийца! – Люси с яростью оттолкнула миску. – Пусть продают кому угодно, только не ему!
– С ума рехнулась? – зашипела Грейс, но не ушла.
– Я выберусь отсюда, выберусь… – пробормотала Люси, отрывая голову от липкой мешковины.
– Вот так-то лучше. – Грейс потрогала ее вспотевший лоб. – Ты вся горишь. Понятно, это карцер тебя добил. Рано раскисла: бывает и похуже.
Она бесцеремонно усадила Люси и сунула ей в руки миску:
– Бери еду, пока не отобрали, а мне некогда. – И отошла к котлу за следующей порцией.
Сделав над собой усилие, Люси поскорее проглотила полусырую кашу, отдававшую горелым. Ей нужно непременно победить в себе болезнь, иначе эта жуткая палата станет ее могилой. Смутное тайное предчувствие подсказывало ей, что для чего-то еще стоит жить.
Люси пролежала в лазарете около месяца.
Трудно поверить, что простейшие лекарства, которыми располагали санитарки, не способные прочесть даже название на упаковке, смогли ее спасти. Но, скрытый от чужого глаза, источник, из которого она черпала силы, не иссяк.
Иногда за ней ухаживала Грейс. Как могла, не больше, чем за остальными. Но когда в недолгих проблесках сознания перед Люси возникало ее хмурое, суровое лицо, сумрачные страхи отступали. Оттого ли, что Грейс никогда никого не жалела? «Жалостью только в гроб уложишь, а слезами – заколотишь крышку», – сказала она как-то.
Город за окнами притих и словно затаился, как огромный озябший зверь. Вот уже середина зимы – половина пути, каждый шаг по которому незаметно, но верно приближает к развязке.
Судьба вознаградила Люси за упорство: после выздоровления ей в полном смысле слова удалось покинуть лазарет. Ее отправили работать на хлопковую фабрику, ту самую, где еще осенью не было свободных мест. Зачем хозяину завода нанимать людей в работном доме, когда на улице у входа – толпы безработных? Со временем ей стал предельно ясен этот чудовищный, бессовестный расчет. Всему причиной были деньги, господствующие над богатыми и бедными, определяя законы бытия. За плату редко нанимали взрослых: детям платят меньше. А женщин и детей, которых поставлял работный дом, достаточно, как нищих, просто накормить! Как не сорваться вниз, как выжить, когда повсюду бесчувственная жадность стремится превратить простых людей в рабов, не оставляя им свобод и прав?
В рабочих помещениях стоял удушливый, тяжелый запах пота и машинной смазки, а хлопковая пыль так насыщала воздух, что все казалось, как в тумане. Вдоль стен тянулся длинный ряд станков, возле которых копошились маленькие детские фигурки. У некоторых к башмакам были привязаны высокие деревянные колодки, чтобы можно было дотянуться до машин. Группа женщин работала в том же цеху, но их нагрузка превышала норму, предписанную детям.
Два раза в день устраивались получасовые перерывы для еды. Никто перед обедом не читал молитву, пищу проглатывали на ходу. Не отдыхая, смазывали остановленный станок и снова запускали механизм. К вечеру дети не выдерживали: изнеможенье и дремота смыкали их глаза, и руки отказывались им служить. Тогда надсмотрщики били нерадивых плетью.
С утра до вечера садиться строго воспрещалось. Не полагалось разговаривать и отвлекаться от работы. Но Люси видела без всяких слов позорно-неприглядную изнанку мира, еще более истертую, чем его лицо. Случалось, что ребенок был единственным кормильцем большой семьи, в то время как родителям не удавалось найти работу. Но это не конец, не безнадежность: когда его впускают за ворота фабрики, голодные и неприкаянные, что терпеливо ждут снаружи, с завистью смотрят ему вслед – счастливый!
Работы было предостаточно: на фабриках и в мастерских ремесленников, в работном доме и за его пределами. Простому люду надлежало без устали трудиться, но редко можно было заработать. Ремесленники брали в подмастерья подростков из приютов – сирот, которых общество без всякого стеснения использовало, как расходный материал. Их так и называли «английскими рабами», потому что за тяжелый труд они не получали ни гроша – лишь подобие одежды и еды.
Позднее Люси довелось работать и в ткацкой мастерской, которая располагалась в самом работном доме. Профессии, которые она освоила, могли помочь ей в будущем. Однако как ничтожны были шансы вырваться из нищеты, найти себе, хотя бы крошечную комнатку, но свою. Подняться на одну-единственную, самую низкую, но первую, ступеньку, чтобы вернуться к прежней жизни.
«Господи, неужели нет пути назад?»
Работный дом – убежище на время, тюрьма, стоячее болото, куда не проникает свежая вода. Здесь бесполезно ожидать каких-то перемен, а жизнь уходит, как песок сквозь пальцы.
Унылая зима тянулась медленно, и все же Люси с каждым новым днем, с каждым ударом колокола ощущала, как приближается к заветной цели – выйти на свободу. И эта цель пугала и влекла к себе одновременно. Порою из тюрьмы выходят, чтобы взойти на эшафот. Какую участь уготовило ей провидение? Люси сосредоточилась на настоящем, стараясь не заглядывать вперед, но что-то постепенно, подобно червю в плоде, стало подтачивать ее надежду. А вдруг она стремится к рубежу, которого не существует? Люси приглядывалась к отрешенным лицам вокруг себя – девичьим, детским, старческим. Что и когда переродило души этих людей, немилосердно исказив их облик и сделав похожими на тени? Сначала страх, тоска, озлобленность, а после – отупение, бесчувственность и пустота. Сухому дереву не больно, когда в него врезается пила… Неужто это происходит сейчас и с ней: Люси, готовая бороться, незаметно умирает? А может, умерла уже давно, на маскараде?.. Нет, нет! Скорей бы, скорее выбраться из этих стен, пока она еще жива!..
* Кварта — единица измерения сыпучих или жидких объёмов в англоязычных странах, ≈ 946.35 миллилитра.
** Унция единица измерения веса, равная 28,3495 грам.
*** Когда в 1829 году в Лондоне появилась Столичная полиция, за полицейскими закрепилось прозвище «бобби» в честь секретаря внутренних дел, а затем и премьер министра сэра Роберта Пиля, благодаря которому был принят акт о создании полиции. Штаб квартира полиции находилась в районе Уайтхолла, на улице Большой Скотленд Ярд.
**** Мальчики в работных домах обычно работали в пенькощипной мастерской. Щипание пакли представляло собою выдергивание волокон из старых пеньковых канатов. Затем пакля продавалась кораблестроителям, которые смешивали ее с дегтем и затем смолили и конопатили деревянную обшивку судов.

Глава 20. ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТЬЮ
Весна. Почти четыре месяца за стенами унылой крепости, которую зовут «Обитель горя». Еще два дня, смотритель обещал, что передаст прошение главе приюта... Последний вечер. Ночь, беспросветно-долгая в нетерпеливом ожидании. Сегодня!
– Не найдешь работу – возвращайся. Только смотри: в работном доме тоже может не оказаться места, – предупреждает караульный у выхода.
– Я не вернусь, – клянется себе Люси. – Никогда!
С лязгом захлопываются ворота.
О, неизвестность! Сколько в ней тревоги и сколько скрытых сил! Если бы Люси в одночасье открылся весь ее тернистый скорбный путь, она бы не прошла и нескольких шагов. Работные дома, холодные ночные улицы, ночлежки – сколько еще скитаний предстояло ей? Останутся два времени в году: одно – под крышей мрачного приюта Поплер, другое – под открытым небом. А между ними – ни единого оттенка, ни лазейки.
Однажды одинокая и неприкаянная женщина подойдет к дверям таверны. Туда, где робкая надежда больше не рассказывает сказки, а улица диктует суровые неписаные правила: не подают у церкви – заработай! Нельзя найти приличную работу – делай ту, которая всегда найдется. А можешь броситься в канал. В огромном Лондоне их множество: одни отходят от реки, другие – пабы, кабаки, таверны… Люси окажется у края, поток невзгод подхватит ее и унесет. Потерянная среди равных – не ангел с неба, не падшая и не порочная – такая же, как все, и только. Да, она будет продавать себя, поскольку не способна воровать.
«О Боже! Как же можно так низко пасть? Как вообще приходит к этому свободное и здравомыслящее человеческое существо?..» Что-то умрет в ней, и она научится собственноручно наносить себе жестокие, незаживающие раны! Не будет больше жалости к себе: ведь самый дорогой ей человек страдает во сто крат сильнее!
О, как же слабоволен тот, кто себя губит! Или для этого необходимо мужество? Какие чувства переживает осужденный перед казнью? Нет, тем, кого ни разу не судили, не понять! Не оправдать того, что обреченные зовут спасением, а те, кого судьба уберегла от бед – безумием. Но каждый, слышите, любой из вас, в одно мгновенье может оказаться на самом дне изменчивого мира, прекрасного и беспощадного, как океан.
Весна… Под лучами апрельского солнца согреются камни и пробьется трава. Извивы переулков пронизаны лучами света, и все знакомые до боли мостовые ведут к особняку с химерами, величественному и неприступному, как и его хозяин.
Витрины магазинов блестели, точно зеркала. Люси остановилась перед одной из них. Какой двоякий странный образ передает прозрачное стекло! Приблизившись к нему вплотную, она увидит на прилавке свежий хлеб, а отступив – свое голодное лицо, и все, что по ту сторону стекла, исчезнет, как мираж.
Так смотрят в человеческую душу. Издали перед нами только оболочка, заключенная в условные границы, а вблизи – бескрайняя стихия, что скрывается за ней. «Не подходите близко, мистер Торпин, вы ужаснетесь. Если бы вам пришлось испить все мои слезы, вы захлебнулись бы от горя! Теперь у вас, бесспорно, пропадет желание преследовать меня – скорее самому захочется бежать! А издали… вы просто не узнаете меня».
– Горячие булочки, горячие булочки!.. – звенит неподалеку девичий голос.
Люси проходит мимо, стараясь не дышать: воздух наполнен запахами, о которых она давно забыла. Боже, как трудно перед ними устоять! Но невозможно жить, не глядя перед собою, не дыша! Уж лучше видеть только небо – сегодня это ослепительная синева с парящими в ней стайками белых голубей.
Ей посчастливилось: добравшись, наконец, до рокового дома, она увидела… Нет, этого не может быть! Судьба, та самая, что столько раз смеялась ей в лицо, вдруг ласково и нежно улыбнулась. На балконе, под теплыми лучами солнца, женщина в накрахмаленном чепце и кружевном переднике укачивала на руках ребенка.
Джоанна! Люси даже показалось, что до нее доносится невнятный детский лепет. Не отрывая глаз, она смотрела на свое дитя. Вокруг так ясно и светло, что сердце запечатлевает каждую малейшую деталь, а белый мраморный балкон так высоко, что не взлететь без крыльев…
Джоанна – чистый, белый лист бумаги, на котором недобрый человек способен написать бессовестную ложь, в которую она поверит. Но неужели Бог допустит, чтобы она росла, не зная ни отца, ни матери, лишенная заботы и любви?
Внезапно хлопнула входная дверь. Двое мужчин, выйдя из дома, направились к стоящему поодаль экипажу. Люси отпрянула, но прятаться ей было негде: она растерянно остановилась посреди широкой улицы. Зачем бежать – никто не обратит внимания на нищенку, не спросит ее имени. Но, безразличная прохожим, она – не призрачная тень и не слепа.
Высокий грузный джентльмен с массивной головой и редкими седыми волосами, шагавший впереди, держался прямо и надменно. Величавая медлительность походки, холодность и утонченное пренебрежение, сквозившие в его манерах – все говорило о привычке повелевать и властвовать. На свете существуют люди, которые рождаются такими – он, несомненно, был из их числа. Но Люси видела впервые это уже немолодое, хоть и холеное лицо. Ее глаза устремлены были на человека, следовавшего за ним, темноволосого и моложавого. Уильям Торпин, знаменитый лондонский судья! Что чувствует он, ежедневно глядя на ребенка, отца которого без колебаний уничтожил ради исполнения минутной прихоти? Не ожила ли эта черствая душа, соприкоснувшись с беззащитным и невинным ангелом? Люси искала в облике судьи хотя бы слабый признак перемены, едва заметный след, который смягчил бы эти жесткие черты – ведь даже волны сглаживают камни. Но нет, его лицо ничуть не изменилось. Невозмутимое спокойствие, лишенное душевного тепла, любезная улыбка, за которой скрыты корыстолюбие и эгоизм, остались прежними. И перед тем, как нанести удар, он точно также улыбался, предлагая Бенджамину Баркеру загадочную миссию, которая блестящим образом изменит всю его судьбу!
Судья прощается, раскланиваясь с гостем. Оба они под стать друг другу – две фальши, доведенные до совершенства, безупречны, как лучшие актеры на сцене театра. Через минуту занавес опустится, и они исчезнут. Люси застыла в замешательстве, не в силах отступить. С легким ветерком до нее доносится пряный аромат дорогих духов, а в груди щемит, словно надвигается угроза. Но почему не Торпин, а тот, второй, приковывает вдруг к себе ее внимание? Чем ближе он подходит, тем сильнее отталкивает и, не давая убежать, парализует его пронзительный, пытливый взгляд, и что-то извращенное-пошлое, циничное и хитрое просачивается сквозь гордое величие аристократа.
– Кто эта женщина? – брезгливо хмыкнул незнакомец, указывая на Люси рукоятью трости.
– Не знаю, милорд. По-видимому, просит милостыню, – отозвался Торпин и, вынув из кармана несколько монет, презрительно швырнул их на мостовую.
Люси вздрогнула всем телом, точно он бросил в нее камень. Кровь прилила к ее щекам, и закипающее в сердце негодование мгновенно заглушило страх. Она познала все земное зло, которое способны причинить судьба и люди. Чего она могла теперь бояться, кроме жестокого, печального удела – жить? И если больше не искала избавленья в легкой смерти, значит, не боится ничего!
– Вы презираете меня, а я вас ненавижу, мистер Торпин! – крикнула Люси ему в лицо, и слезы неудержимо брызнули у нее из глаз. Бессонными ночами ей казалось, что она выплакала их все, но разве можно исчерпать слезами горе?
– Вы уничтожили меня, но дайте мне хоть раз увидеть мою дочь! Взять ее на руки, прижать к себе… – вырвалось у нее. Дрожа от ярости, она почти просила, умоляла человека, у которого, даже умирая с голода, не приняла бы ни гроша.
– Что? Это вы? – Судья остолбенел от изумления. Еще немного – и оно перерастет в надменную и унизительную жалость, в которой нет ни капли доброты.
Кто не страдал, тот не меняется! Возможно, Торпин, позаботившись о маленькой Джоанне, поддался неожиданному благородному порыву. Имея состояние, нетрудно искупить былое преступление в собственных глазах. Но Люси поразила странная реакция седого господина: пронизывающим долгим взглядом он посмотрел на нее так, словно когда-то знал. И в этом взгляде не было ни тени изумления – лишь нескрываемое злое торжество. Как будто именно такой он ожидал и жаждал ее увидеть.
Люси перевела глаза на Торпина.
– Пустите меня к дочери, – проговорила она настойчиво.
– Зачем? – спросил судья, одним единственным коротким словом подчеркивая всю абсурдность ее желания.
– Вам не понять! – вскричала Люси в исступлении.
– Послушайте, вы не в себе! – резко ответил Торпин, отстраняясь от нее. – Вас поместят в больницу. Я позабочусь…
– Я там уже была! Мне ничего от вас не нужно! Ничего!
– Тогда идите прочь! И не надейтесь, что я впущу к себе безумную бродяжку! – холодно отчеканил Торпин и отвернулся, полагая, что на этом инцидент исчерпан.
Но Люси бросилась к нему и что есть силы обеими руками вцепилась в его сюртук. Жгучий неудержимый гнев толкал ее вперед, а боль внезапно стала ее оружием. Слишком опасным, даже для нее самой.
– Вы… вы опустошили мою жизнь! – воскликнула она. – Но сами вы – пусты до глубины души. Скажите мне одно: дает ли вам это невинное дитя хотя бы каплю радости, пробуждает ли желание посвятить остаток жизни кому-то кроме самого себя? Испытывали бы вы тоску и боль, если б его у вас отняли?! Нет! Вы просто не способны этого понять!
Люси почувствовала, как Торпин вздрогнул и пошатнулся, точно поток ужасных обвинений застиг его врасплох, лишив опоры. Губы его беззвучно приоткрылись: он собирался что-то возразить, но возбуждение мешало ему подобрать слова. Что мог ответить человек, привыкший ежедневно выносить вердикты, не признавая вслух своей вины? Или в нем шевельнулось нечто незнакомое, чему его расчетливый, практичный разум не находил названия? Люси не суждено было узнать об этом. Не проронив даже скупого вскрика, Торпин попытался оттолкнуть ее. И в этот миг еще одна рука резко и властно оторвала Люси от судьи, железной хваткой стиснув ей плечо. Но что это?! – Перед ее глазами блеснул массивный перстень… и в памяти молниеносно вспыхнули видения, преследовавшие ее в ночных кошмарах: безумный дикий хоровод разряженных зверей, пронзительный многоголосый хохот, застывшая в уродливом оскале маска, нависшая над ней… Тогда ее распяли те же руки! Она узнала эту хватку, с которой хищник яростно впивается в свою добычу, цепкую жадность длинных узловатых пальцев, и перстень с крупной золотой печатью в виде льва! Не Торпин, а другой преследовал, подстерегал и заманил ее в ловушку. Судья был лишь его сообщником…
***
Люси неожиданно прервала свой рассказ. Всего за несколько часов она пережила первые месяцы упорной затянувшейся борьбы, которой суждено было продлиться годы. И каждый год уныло походил на предыдущий, а время увлекало за собой по замкнутому кругу. Люси даже не могла себе представить, что когда-то сможет рассказать об этом Бенджамину, что вообще увидит его живым.
Вечер за окном давно угас; одинокая свеча трепетно догорала на столе возле кровати. Они вдвоем сидели в полумраке низкой комнаты. Бенджамин слушал, не перебивая, и Люси чувствовала, как, затаив дыханье, он следует за ней по мрачным коридорам вдоль запертых дверей, по лабиринтам лондонских трущоб и по той самой улице, ведущей к роковому дому с химерами… Сейчас он словно встретился лицом к лицу с их истинным врагом и напряженно ожидал ответа на единственный вопрос, который задал уже давно: кто он?
Что значило для Бенджамина это имя спустя шестнадцать лет? Люси поймала его тревожный взгляд, пытливо обращенный в прошлое. Он видел все ее глазами, но не мог прорваться вслед за ней в недосягаемый жестокий мир, закрытый для него, где ничего уже не изменить. Рука его непроизвольно искала что-то в темноте, нетерпеливо и порывисто, как ищут рукоять оружия. Глубокое молчание томило их обоих, но Люси так и не решилась снова заговорить.
Дрожащий огонек свечи внезапно вспыхнул и погас. Бенджамин медленно поднялся с кресла.
– Не надо больше, – попросил он тихо.
Но прежде, чем комната погрузилась во мрак, Люси заметила, как угрожающе сверкнули его большие темные глаза, и поняла: он ждет. Им овладело непреодолимое желание услышать это роковое имя. И вовсе не затем, чтобы его забыть. Порою неведение подобно слепоте, мучительному плену, а иногда – в нем заключается спасение души и разума. Но человек, чьи руки сейчас поддерживали Люси в темноте, привык смотреть опасности в лицо и не стремился идти по легкому пути. Он словно заслонил собою мрачные видения из ее прошлого. И вместе с тем в объятьях Бенджамина Люси всем телом ощутила отголоски нарастающей в нем бури. Он инстинктивно прижимался к ней, стараясь пересилить эту внутреннюю дрожь, огнем бегущую по венам. Но было поздно: ненависть, сильнее всех страстей, охватила его сердце и рассудок.
– Мне страшно, Бенджамин… – прошептала Люси в темноту.
– Да, свет, – он то ли выдохнул, то ли застонал и торопливо принялся искать свечу.
Когда неверный красноватый огонек затрепетал у самого его лица, оно казалось было еще бледнее, чем обычно, брови сурово сдвинуты, а губы плотно сжаты. Он точно превратился в мраморную статую, но Люси чувствовала, что за внешней сдержанностью скрываются смятение и гнев. Совесть подсказывала ей, несмотря на страх, открыться перед близким человеком до конца, не утаив даже того, что разрывало ее сердце, не жалуясь и не оправдываясь. Но что известно ей о нем? Каким он стал за годы их разлуки, оставившие шрамы на его душе и теле? Сумеет ли Суини Тодд великодушно простить своих врагов, как он простил ее? Теперь она была уверенна, что нет, и в этом виновата она сама! Наивно полагавшийся на правосудие Небес Бенджамин Баркер навсегда остался в прошлом, как и доверчивая, жизнерадостная Люси.
– Торпин мог называть его по имени… – проговорил он вдруг, как будто отвечая тайной мысли.
Да, это правда! Перед глазами Люси снова промелькнуло исказившееся, покрасневшее от напряжения лицо судьи.
– Она опасна, Ференс, осторожней! – Торпин с треском вырывает из ее руки край сюртука. – Где слуги?.. Эй, кучер, прогоните эту сумасшедшую!
Как он боялся замарать свой дорогой, изысканный костюм, пропитанный духами! И ни минуты не поколебался, втаптывая в грязь чужую честь! То обстоятельство, что Торпин услужил тому, другому, ничуть не умаляло его вины. Их просто было двое. Даже трое…
– Я уверен, что этот, последний, все еще жив, – раздался приглушенный голос Бенджамина, и Люси поняла, что Бэмфорд тоже умер. Она не смела спрашивать, когда и как. А Торпин, какой же смертью умер он?..
Бен отошел к окну и отвернулся, всматриваясь в беспросветное ночное небо.
– Я не способен пойти на преступление, – послышалось из темноты. Сколько раз он повторил это про себя, отгоняя мрачную навязчивую мысль, засевшую в его мозгу?
Люси перевела дыхание, по телу ее пробежала радостная дрожь: конечно же, он никого не убивал! И как она могла в нем усомниться? Сейчас она должна солгать, чтобы избавить его от губительного искушения и прекратить мучительную пытку.
– Бенджамин… – тихо заговорила Люси.
Он быстро обернулся, словно она звала на помощь.
– Никогда, ты слышишь, никогда тебе не будет страшно и одиноко, – произнес он горячо, возвращаясь к ней. – Но, если знаешь, назови мне имя человека, который… – Бенджамин запнулся, слово «человек» явно далось ему с трудом.
В комнате воцарилась тишина.
– Я… я не помню! – слабым голосом отозвалась Люси, почти не слыша саму себя.
А в ушах ее гулким, раскатистым эхом отдавалось: «Лорд Ференс, лорд Ференс!..» – имя, впечатанное в ее память как клеймо.
Глава 21. В ПОИСКАХ ПРИСТАНИ
– Да, мистер Ти, вы были правы: я также склоняюсь к мысли, что Торпин услужил влиятельному человеку, гораздо выше него стоящему. Люди, наделенные огромной властью, всегда шагают широко, часто не глядя под ноги. Связи с ними неизменно ценятся дороже справедливости и чести, от которых нет ни капли выгоды, а отказ, наоборот, грозит немилостью. Торпин с готовностью позволил подлецу прятаться за его спиной. Но все же, если не муки совести, то ее укоры впоследствии имели место, – заключила миссис Ловетт.
– Укоры совести? – с горькой иронией отозвался Бенджамин. – Потворствовать капризам негодяя, а потом пытаться искупить свою вину, отняв у матери ее дитя… Нет, этот человек так и не понял, что значит искупление. Эгоистичный и высокомерный, Торпин вряд ли искренне жалел о том, что совершил. Однако я подозреваю, что он все-таки боялся божьей кары. Но Бога не обманешь. Раскаяние – это не запоздалый страх перед расплатой, а милосердие – не откуп, не подачка, которую бросают пострадавшим свысока. Как странно… Я не прощаю Торпина и не испытываю ненависти: его просто нет. И никогда не будет. Мне даже жаль его: пресыщенный своим богатством, он ни в чем не знал отказа и нужды, а внутри у него было пусто, как в кармане бедняка.
У миссис Ловетт ненароком промелькнула мысль, что Торпин позаботился бы и о Люси, если б она не отвергала его помощь. Но что он мог ей предложить – тот же благотворительный приют или больницу для умалишенных?.. Исключительная щедрость, нечего сказать!
– Да, – со вздохом согласилась Нелли, – судья всегда пытался утаить за видимостью истинную суть. Но есть еще другой, нам неизвестный, что привык захватывать и разрушать, подобно варвару, и он из тех, кого приводит в ярость неповиновение. Однажды вы сказали, что смирились, не узнав, кто он…
– А теперь я хочу его уничтожить, и с каждой минутой все больше.
Бенджамин говорил, не повышая голоса, но это настораживало Нелли сильнее, чем если бы он закричал. Кто-то испытывает облегчение от громких фраз или пустых угроз, до полного изнеможения сотрясая воздух, и, только ослабев, приходит, наконец, в себя. Бенджамин Баркер, или вернее Суини Тодд, всегда был немногословен, а чувства его – в сотни раз сильнее слов.
– Тише! Вас услышат, – зашептала Нелли, бросив быстрый взгляд на внутреннюю дверь. К счастью, она была закрыта.
Они сидели в первой комнате у выхода, в то время как Джоанна с матерью заканчивали обшивать рубашки кружевами, чтобы завтра отнести их на продажу.
Бенджамин сдержанно кивнул и, глубоко вздохнув, откинулся на спинку стула.
– Но почему она сказала «я не помню»? – спросил он, словно обращаясь к самому себе. – Разве смогла бы она забыть такое? В ее памяти живы все события до мельчайших деталей, каждое имя. Даже люди, которых она знала лишь несколько дней…
Недоверчивость Бена заставила Нелли задуматься. Годы, бесспорно, сильно изменили Люси, и дело не во внешнем облике. На самом деле оболочка – большей частью лишь одежда. Разве можно было, встретив женщину в лохмотьях на церковной паперти, предположить, что за ее болезненной и хрупкой внешностью скрывается такой характер? Со стороны казалось, что в ней умерли последние надежды и тепло души. Что ей не жаль даже саму себя, и, одинокая, бродящая без цели, она не ищет смерти, лишь потому, что давно мертва. Как ошибаются те, кто поверхностно судит о людях, не заглянув им в глаза! Короткого рассказа Бенджамина было достаточно, чтобы познать всю ее истинную сущность. Люси порой не чувствовала своей боли, переживая за других, она стыдилась мечтать о смерти потому, что рядом, во что бы то ни стало, продолжали жить отверженные, угнетенные, несчастные, и умирали те, кто из последних сил стремился выжить. Год за годом волю этой женщины закаляло то, что не смогло ее убить. Но многие черты ее характера остались прежними: Люси всегда была, пожалуй, чересчур прямолинейна, щепетильна и самокритична, а ее честность выходила за пределы осторожности. Вот уже несколько дней, как она рассказала все мужу – все, о чем другая умолчала бы и без колебаний предала забвению. Да, безусловно, он знал о многих ее бедах и злоключениях, но знать – одно, а выслушать – и от нее самой! – совсем другое. Теперь он их увидел и не сможет стереть из памяти. Нелли готова была поклясться, что только страх за Бенджамина заставил Люси солгать впервые в жизни, скрывая роковое имя, и мысленно от всего сердца поблагодарила ее за это.
– Оставьте все, как есть – довольно испытывать судьбу, – сказала она вслух. – Поверьте мне, так будет легче. – В зеркале ваших глаз я часто вижу кровожадных демонов, которые терзают вас, и, знаете ли, мне от них не по себе. Я с содроганьем вспоминаю ночь, когда вы, с бритвой и отмычками в кармане, отправились к судье. Но вы ведь укротили самые опасные свои порывы… мистер Ти? – закончила с надеждой Нелл.
Порою это был ее последний аргумент – нежное сокращение вымышленного имени, мимолетная волнующая нотка, тайно согревшая ей душу. Так называла его только Нелли и больше никто. Ее бесплодные заветные фантазии сменила грусть, которую она бы ни за что не вырвала из сердца. Старалась видеть в нем родного брата – и не могла! Но что предосудительного в этом, если Нелли трепетно оберегала его счастье, не выдавая своего секрета?
Бенджамин поднял голову и долгим взглядом посмотрел в ее глаза. Он делал так, когда просил помочь ему советом. Но сейчас, увы, не время – бесполезно; это скорее чувствуешь, чем видишь.
– Теперь я не уверен, что мне удастся превозмочь себя, – сказал он тихо. – Вы сами понимаете: когда нельзя простить – нельзя забыть… Он точно был уже в моих руках. Вот здесь, передо мной – и снова испарился, бесплотный и безымянный! Вы думаете, собственные муки разжигают мою ненависть? Да все мои страданья для меня – ничто в сравнении с тем злом, что испытали на себе моя жена и дочь!
У Нелли промелькнула мысль, что Бенджамину Баркеру на самом деле выпала самая суровая судьба из всех троих. Он никогда не говорил о том, что пережил в Австралии, никто не знал, как часто воспоминания о каторжной неволе бередили его душу. С ними он справлялся в одиночку…
– Довольно! – Бенджамин резко поднялся со стула и прошелся по комнате. Стены, казалось, давили на него, лишая простора взгляд.. – В этом огромном городе жизнь словно загнана в тупик! Нет смысла откладывать больше – нам надо уехать отсюда.
– Уехать?.. – упавшим голосом повторила Нелли.
Беглое, молниеносно ранящее «нам» прозвучало для нее, как выстрел. Пора смириться с тем, что Бенджамин принадлежит своей семье – не ей! А может?.. Он столько раз прощался, чтобы уехать навсегда – и возвращался вновь…
– Но как же? Чем я стану, если вы уйдете?.. Вы научили меня жить, бороться, верить!.. – Нелли растерянно пыталась найти причину, чтобы удержать его, не сознавая, что на самом деле все ее смятенные мольбы – нелепый вздор. Ведь в Лондоне ему грозит опасность!
Бенджамин поднял было руку, словно хотел прервать ее, но Нелли не сумела промолчать:
– Я так люблю вас…
Что она могла еще прибавить? Разве существует правда чище и светлее? Впервые, без смущения, без дрожи в голосе она произнесла эти слова, которые так долго и тщетно рвались на волю, и неожиданно они приобрели совсем иное, непривычное для нее значение.
Бенджамин осторожно берет ее за руки, и она ощущает себя еще более хрупкой и уязвимой. Хмурое выражение исчезает с его лица, а губы приоткрывает легкая улыбка.
– Я тоже очень вас люблю, – серьезно отвечает он. И пускай в его голосе нет и тени запретной, волнующей страсти – лишь горячая, искренняя благодарность, сердце Нелли на миг замирает от радости. Неужели такое возможно? Только что они оба признались друг другу в любви. И теперь это чувство, как будто рожденное заново, обретает свободу и уже не боится отказа и осуждения.
– Как вы могли подумать, что я оставлю вас одну? – мягко упрекает ее Бенджамин. – Ведь я сказал, что мы уедем – значит уедем все.
Нелли не выдержала: слезы, непослушные, невольные, непрошенные, внезапно навернулись ей на глаза.
– Не надо, Нелли… Мы так много выстрадали вместе, и вот сейчас вы плачете, как беззащитное дитя.
Что? Он назвал ее по имени?!.. Поистине сегодня необычный день!
Наклонившись, Бенджамин внимательно вгляделся в ее взволнованное побледневшее лицо. Ей показалось, он забыл о мрачных мыслях, тревоживших его непримиримый дух. Еще немного, и, покинув этот город, он окончательно освободится от искушения отомстить. Реальность не оставит ему другого выбора: призраки прошлого развеются и унесут с собою ненависть и боль. Дай Бог, чтобы так и случилось!
Нелли вздохнула полной грудью – слабость и головокружение понемногу отпустили, а в памяти ожили простые немудреные слова, которые неоднократно помогали ей поверить в чудо:
– Все хорошо.
И время понемногу оправдывало ее надежды.
Стремясь уехать поскорее, куда угодно, лишь бы – из Лондона, Бенджамин должен был, однако, заранее обдумать, какое место на огромной карте станет их новым домом. Не будет больше бегства, поисков и странствий – пора остановиться и просто жить! Миссис Ловетт уже грезила о скромном, но уютном домике – где-нибудь на юге, в небольшом провинциальном городе. Может быть, у моря? Нелли всегда мечтала его увидеть – лазурное, непостижимо-бесконечное, торжественно сверкающее в солнечных лучах! Каков он, этот ветер, что моряки с восторгом зовут соленым ветром воли?.. А, если повезет, они бы вместе с Люси и Джоанной могли открыть свой магазинчик и снова продавать там пироги, лучшие в… Где же? Там будет видно! А Бенджамин вернулся бы к своей профессии.
От этих смелых мыслей у Нелли захватывало дух. Закрыв глаза, она уже парила на свободе, вырвавшись из клетки, которая служила ей убежищем.
Джоанна неожиданно прервала ее раздумья.
– Вчера вернулся мистер Энтони, и пригласил меня и папу на обед! – радостным голосом напомнила она, завязывая перед зеркалом ленты капора. Ее волнение и легкий румянец на щеках были настолько красноречивы, что Нелл не удержалась от игривого, чисто женского, вопроса.
– Скажи, он тебе нравится? – шепнула она с улыбкой.
Джоанна замерла, смутившись, как ребенок, застигнутый за шалостью..
– Он принимал такое неравнодушное участие в моей судьбе... – начала она было издалека, но тут же прервала себя. Притворство и неискренность всегда претили ей, особенно с людьми, которым доверяешь. – Да, вы правы! – призналась она честно. – Как может быть иначе? Мистер Энтони – прекрасный человек и достоин восхищения.
Почти целый месяц прошел, с тех пор как «Виктория» снова отправилась в плавание. Энтони, как морская птица, был создан для простора, и пребывание на берегу томило его юный неугомонный дух. Ленивые и слабые не выбирают непростую профессию матроса, а молодого человека, казалось, привлекали именно опасности. Он страстно жаждал настоящих приключений, о которых мог бы с гордостью рассказать по возвращении домой, и мнение Джоанны явно имело для него особое значение. Прощаясь, он признался ей в этом по секрету, и девушка с нетерпением ждала его приезда.
Наконец этот заветный день настал. Было солнечное, теплое воскресенье, и на улицах царило оживление, непривычное для хмурого, пасмурного Лондона. Тусклые, смазанные краски однообразных будней в четырех стенах остались позади и уступили место ярким и живым. Выйдя из гостиницы под руку с отцом, Джоанна вдруг поймала себя на мысли, что это происходит с ней впервые: ни разу ей не выпадало счастья прогуляться с ним по улице – свободно, не спеша, не прячась! Хотя пока еще не следовало забывать об осторожности, но скоро, очень скоро по улицам другого города они пройдутся вместе – мать, отец и дочь, нашедшие друг друга. Так просто! Ей хочется плакать от радости, но губы ее улыбаются. Призраки прошлого уже не заслоняют от нее реальности, как тени от деревьев не омрачают ясный день. Сейчас ее глаза сквозь слезы – она уверенна – почти способны видеть будущее!
– Тебя расстроило, что мы пошли вдвоем, без мамы? – спросил ее отец.
– Да, конечно. Она еще не готова, – отозвалась Джоанна. – Но я думала о другом: это так необычно…
– О чем же? – оживился Бенджамин.
– Я расскажу тебе, когда ты загрустишь, – смеясь, пообещала девушка. – Знаешь, иногда мне кажется, тебе все еще больно... Но сегодня ты другой, – закончила она уже серьезно, глядя ему в глаза.
– Какой?
– Спокойный, – подумав, ответила Джоанна.
Бенджамин покачал головой и… улыбнулся. Нежное, ласковое выражение преобразило его красивое лицо. Он ей поверил – значит, больше не нахмурится.
Джоанна прежде не бывала в небольшом уютном доме, на нижнем этаже которого располагалась кузница. Но почему-то, с первого же взгляда, он показался ей знакомым. Как странно, что степенная, размеренная жизнь, протекавшая под этой крышей, не усмирила отчаянных стремлений Хоупа-младшего. Здесь была маленькая тихая заводь, а ему хотелось бури и простора! Поистине, мир соткан из противоположностей.
Внутри все было так же аккуратно и благопристойно, как снаружи.
– Добро пожаловать, входите, мистер Тодд! Очень приятно, мисс Джоанна! Позвольте представить вам мою жену Абигейл Хоуп, – радушно поприветствовал гостей пожилой кузнец. Видно было, что праздники в его жизни – явление редкое, отчего непривычное оживление и суета доставляли ему удовольствие.
Миссис Абигейл, несмотря на скромное простое платье и чепец, ничуть не походила на зрелую почтенную хозяйку дома. Трудно было поверить, что у взрослого юноши такая молодая мать, но сходство ее с Энтони было поразительным. Особенно глаза – точно такие же большие, широко распахнутые, как будто от восторга или удивления.
– Присаживайтесь, через четверть часа можно будет подавать обед, – любезно сообщила миссис Хоуп. – Позвольте, я оставлю вас ненадолго… А где же Энтони? Сейчас я позову его! – И, подхватив обеими руками юбки, она поспешно поднялась наверх.
– Ох, эта молодежь! – вздохнул, усаживаясь в кресло, мистер Хоуп. – Признаюсь, вашей помощи мне будет очень не хватать, – сказал он, обращаясь к Бенджамину, и нотки неожиданной надежды прозвучали в его голосе: – Вы окончательно решили уехать, мистер Тодд?
– Так будет лучше для моей семьи, – ответил Бенджамин и, помолчав, добавил: – Ваш дом – единственное место в Лондоне, которое мне грустно покидать.
На самом деле, Энтони, подумав, рассказал отцу лишь часть истории своего друга. И вовсе не из осторожности, не потому, что опасался осуждения. Самые мрачные воспоминания принадлежали Бенджамину Баркеру, а если хочешь заново устроить свою жизнь, то лучше навсегда похоронить их в прошлом. Достаточно, что он, Энтони, знает о фальшивом приговоре и чудовищном, бесстыдном преступлении, оставшемся без наказания.
– Ну, что ж, решили – так решили! – Встряхнув густыми волосами, мистер Хоуп откинулся на спинку кресла и потянулся за табакеркой. – Хотите? – предложил он собеседнику.
– Нет, благодарю вас, – вежливо отказался Бенджамин.
На лестнице послышались торопливые шаги, и Энтони, завязывая на ходу платок, вбежал в гостиную. По-видимому, он тщательно готовился: его темно-коричневый костюм сидел безукоризненно, а вьющиеся волосы были старательно причесаны. Однако из-за недостатка опыта в таких делах, ему пришлось потратить немало времени.
– Простите, я не сильно опоздал? – воскликнул он, протягивая руку Бенджамину. – Я очень рад вас видеть, мисс Джоанна!
С появлением Энтони обстановка мгновенно оживилась – точно порыв морского ветра ворвался в комнату.
– Я думал, что приеду на неделю раньше, но буря задержала нас... Признаться стыдно – задержала нас в порту! Зато в пути попали – кто бы догадался – в штиль! Даже похвастаться нечем, как видите. Мистер Тодд, вы позволите… показать вашей дочери кузницу? – неожиданно выдохнул юноша и, смутившись, поправил накрахмаленный воротник.
– А ты хоть знаешь, где она находится? – шутливо отозвался из своего кресла мистер Хоуп.
– Конечно! Хоть ее и нет на карте, – уже серьезно ответил Энтони и вопросительно взглянул на друга.
Бенджамин одобрительно кивнул ему:
– Не возражаю.
Разве можно отказать в такой невинной просьбе? Энтони с первого дня их дружбы заслуживал доверия, и Бену, точно в зеркале, видны были малейшие движения его души.
– Пойдемте? – Юноша робко предложил Джоанне руку.
– Да, мистер Энтони. – Поднявшись, она тихонько вложила пальцы в его раскрытую ладонь.
– Может быть, он все-таки займется нашим фамильным ремеслом? – задумчиво произнес мистер Хоуп, когда они вышли. – Не может человек все время странствовать по свету. В конце концов, он должен выбрать себе пристань и сойти на берег.

В кузнице, после яркого дневного освещения гостиной, царил приятный полумрак. От наковальни и железа кованых решеток веяло прохладой. Энтони осторожно пробрался вдоль стены и отыскал фонарь.
– Вот здесь, – заговорил он, когда пляшущее пламя красноватым светом озарило просторную, заставленную ящиками и инструментами мастерскую, – отец проводит день за днем день с утра до вечера, и не жалеет ни об одной минуте! Кузница – его храм: на этой наковальне, этим самым молотом ковался его дух. – Энтони поднял и поднес к лицу тяжелый молоток с отполированной до блеска ручкой, рассматривая каждую щербинку. Его познания в кузнечном деле исчерпывались несколькими фразами, но их значительно превосходило искреннее восхищение характером и трудолюбием отца.
Джоанна с интересом разглядывала кузницу: ни мусора, ни паутинки, казалось даже – ни единой лишней вещи.
– Он выбрал берег, дом, семью и никогда не сомневался в своем выборе, а мне… – Энтони запнулся на мгновение, но затем уже смелее продолжал: – Мне нужно было одолеть безумно долгий путь – от Гринвича до Дарданелл и дальше, чтобы понять его! И, наконец, я понял: корабли уходят в море, чтобы вернуться. Поскорее. Домой…
Юноша не умел красноречиво говорить, но непременно должен был закончить. Иначе эта встреча станет их прощанием. Он беспокойно теребил свой непривычно тесный воротник. В памяти не всплывало ни одной строки из рыцарских романов, прочитанных ему когда-то матерью. Джоанна представлялась Энтони настоящей леди – возвышенной, изящной, утонченной, почти принцессой. Он сознавал, что так и есть на самом деле.
– Домой, – задумчиво повторила девушка. В голосе ее прозвучала грусть.
Сердце Энтони учащенно забилось. О чем она жалеет на пороге новой жизни, еще не зная, где найдет очаг, которым назовет своим? Каким в своих фантазиях видит она будущее, влекущее и неизведанное, как путешествие через бескрайний океан?
Набравшись храбрости, Энтони глубоко вздохнул и, глядя в голубые, как безоблачное небо, спокойные и ясные глаза, внезапно ощутил, что ему вовсе не нужны чужие выражения. Он сам расскажет о своей любви. Да, именно любви! Прекрасное, всепобеждающее чувство рождается, как появляется на свет дитя, и нет причин стыдиться его, словно преступления!
– Я выбрал берег, – твердо произнес он, шагнув навстречу девушке. Собственный голос показался Энтони глубже и мужественнее, чем обычно. Исчезли звонкие мальчишеские нотки, как будто он в одну минуту повзрослел.
– Какой? – взволнованно спросила его Джоанна. Ее растерянная робкая полуулыбка согревала и торопила.
– Любой, какой бы ни был – север или юг – неважно! Я не хотел бы больше расставаться с вами. Вы очень дороги мне, потому что… Я полюбил вас, – коротко закончил Энтони и побледнел.
– Правда? – Джоанна, широко раскрыв глаза, смотрела на него. В ее вопросе не было ни тени недоверия – только искренняя радость, а ее лицо мгновенно просияло.
– Клянусь! – с жаром ответил Энтони, и вскоре к нему вернулся весь его задор. – Помнишь тот суп, что мы готовили у миссис Ловетт? – спросил он вдруг.
Джоанна удивленно подняла брови и кивнула головой.
– Да, ты его пересолил, – призналась она тихо. – Немножко.
И оба засмеялись. Им не терпелось о многом рассказать друг другу…
Когда, опомнившись от первых, неведомых им раньше впечатлений, через несколько минут они вдвоем вошли в столовую, Энтони, едва переступив порог, обратился к Бенджамину:
– Мистер Тодд! Я хочу сказать вам нечто важное. – И видя, что отец и мать, переглянувшись, подбадривают его взглядами, произнес: – Мистер Тодд, я люблю вашу дочь, и, возможно, еще слишком рано, но я уже сейчас прошу у вас ее руки!
Ошеломленный необычной новостью, Бенджамин привстал со стула. Лучистые глаза Джоанны в этот миг напомнили ему далекий, но такой счастливый день, когда он сам впервые признался Люси в своей любви. Воспоминание о радости внезапно пробудило в нем смутную тревогу: ведь, больше чем кому-либо другому, ему известно, как хрупко все прекрасное. Однако светлые, неповторимо-чудесные видения, ожившие перед его глазами, не разбередили старой раны, как бывало прежде. Почти. Бенджамин Баркер возвратился к своей семье.
– Ну что ты скажешь, папа? – взволнованно воскликнула Джоанна, подходя к нему.
– Мистер Тодд, вы в порядке? – спросил с беспокойством Энтони.
Бенджамин кивнул. Он оглянулся на супругов Хоуп и понял: все ждали только его согласия.
– Я очень рад за вас, – сказал он, дружески протягивая руку Энтони. – Ты доказал, что сможешь позаботиться о моей дочери и защитить ее. Джоанна! Ты прекрасно знаешь: мое желание полностью совпадает с твоим.
Неужели все бури и настораживающие затишья перед ними, наконец, остались позади?
– Спасибо, мистер Тодд! Спасибо! – В порыве благодарности Энтони восторженно пожал протянутую ему руку. И тут же, не переводя дыхания, продолжил: – Мне в голову пришла отличная идея: а не отправиться ли вам… нам в Брайтон? Там живут наши родственники, и они помогли бы устроиться – первое время, а потом все наладится…
– Вы поедете с нами, мистер Энтони? – растерянно переспросила его Джоанна. Последние события происходили для нее непостижимо быстро, увлекая за собой, как свежий ветер уносит парусник навстречу горизонту.
– Конечно!
Вряд ли можно было ответить тверже и увереннее.
За обедом еще долго с оживлением обсуждались планы на ближайшее и даже на далекое будущее, полное трудов. Истинное счастье, без прикрас, первозданно просто и возвышенно: крыша и очаг рядом с близкими тебе людьми. Как милосердие – не лишний хлеб, с презреньем брошенный голодным, а тот, что поровну поделен между равными. В горе и в радости, в богатстве и в бедности. Кто остается верен этой заповеди, богаче тех, кто правит миром.. Да, человеку, безусловно, многое под силу, если все зависит только от него. И счастье, не преподнесенное на драгоценном блюде, а построенное собственноручно, особо ценно. Хотя порою падает с небес…
Глава 22. ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Из маленького низкого окошка Люси наблюдала, как за домами медленно садится солнце. Отблески заката чуть позолотили выцветшие, блеклые обои. Как необычно это ощущение легкого, нежного тепла сквозь тонкое стекло – последнего луча, что дарит уходящий день… Внизу, обычно людная, ремесленная улица постепенно затихает перед тем, как погрузиться в темноту, а красноватый диск над крышами домов становится все больше, чем ближе опускается к земле. Скоро весь мир вокруг утратит очертания и растворится, затерявшись в чернильной синеве. Не важно: нет ни страха, ни тоски. Люси больше не боится ночи. Или это всего лишь иллюзия? Люди по своей природе склонны верить в то, чего хотят – искренне, до последнего, как верят в Бога. Кто же поможет отличить мираж от яви? Ей вспомнилась однажды услышанная фраза: «Каждый, кто верит, что все будет хорошо, в лучшем случае наивен, в худшем – глуп». Так говорила девушка, еще совсем ребенок, что перепродавала на базаре поношенные вещи, а по воскресеньям просила милостыню возле хлебного ларька… Только беда виной тому, что дети так мудры! Но разве провидение не бывает благосклонно?
Сегодня вечером необычайное событие, подобно вспышке, озарило их маленький мирок. Едва вернувшись на круги своя, он снова закружился, точно подхваченный стремительным течением реки: Джоанна сообщила о своей помолвке.
– Я даже не могла себе представить, что Энтони так неожиданно заговорит об этом!.. Его стихией были море, ветер, паруса – и вдруг все изменилось! Ты знаешь, мама, если бы он не решился, мне очень трудно было бы расстаться с ним… навсегда.
Люси еще не видела Джоанну такой восторженной: она буквально излучала свет.
– Да, ты так много говорила мне о нем, что я как будто вижу его перед собой! Такого восхищения заслуживает лишь достойный человек. – Ласково удерживая руки дочери в своих, Люси с растерянной улыбкой пыталась побороть нахлынувшее на нее волнение. Присев на край кровати рядом с нею, Бенджамин заботливо подал ей стакан воды.
– Я взял на себя смелость сам благословить их: все произошло так быстро, – объяснил он. – Энтони Хоуп обещал зайти к нам завтра. Он обязательно понравится тебе…
Все складывалось просто и благополучно. Но что-то вдруг кольнуло сердце Люси, словно предчувствие, что за любое счастье надо заплатить.
– Ты будешь навещать нас… после свадьбы? – спросила она с трепетом, обернувшись к дочери.
– Ну что ты, мама, мы поселимся все вместе! – воскликнула Джоанна. – Разве я могу покинуть вас с отцом?
О большем невозможно было и мечтать. Сияющее радостью лицо Джоанны красноречиво подтвердило ее слова.
Этой ночью Люси долго не могла заснуть. Как прежде горечь и смятение, сегодня счастье не давало ей покоя. Надежда провести дарованную ей земную жизнь рядом с близкими, любимыми людьми со всей первоначальной силой поселилась в ее душе, как это было много лет назад, когда ничто не предвещало им угрозы. И вопреки тревогам и сомнениям, она поверила, что так и будет впредь. Уже глубокой ночью Люси заснула со слезами на глазах.
Наклонившись к изголовью, Бенджамин прислушался к ее тихому дыханию. Часто не сон, скорее настороженное забытье на несколько часов, давало ей передохнуть. Она давно привыкла бодрствовать, невзирая на усталость, как и он сам. Ночи были слишком длинными для них обоих. Даже под защитой Бенджамина, за преградой прочных стен Люси до сих преследовали призраки зловещих темных улиц. Незримые при свете дня, они, точно голодные ночные хищники, настигали ее во сне.
Сегодня ночь, непроницаемо-безлунная, была иной – во мраке ее теплилось какое-то неведомое умиротворение. Она укачивала ласковыми волнами покоя, неся вперед – навстречу будущему, желанному и долгожданному, которое ежесекундно становилось настоящим.
Бенджамин даже не заметил, как задремал. Безмолвие царило в маленькой уютной комнате и за ее пределами. Как долго это длилось, известно только Богу…
Внезапно тишину прорезал протяжный стон. Сначала, Бенджамину показалось, будто он вырвался из его груди. Но губы его были плотно сомкнуты. Негромкий, сдавленный, тягучий звук мгновенно разогнал туман, окутавший его сознание. Отбросив покрывало, Бенджамин привстал, тревожно вглядываясь перед собой в непроницаемую темноту. Его рука, ища свечу, невольно замерла на полпути.
– О, Боже, перстень! Отпустите!.. Лорд Ференс! Это были вы!.. – донесся до него дрожащий голос. – Нет... Нет! – И все затихло.
Тишина звенела натянутой струной.
– Люси… – Не зажигая света, наугад, Бен потянулся к ней всем телом, точно заслоняя собой ночной кошмар, и влажная холодная рука непроизвольно сжала его ладонь. Секунды напряженно пульсировали без ответа… Люси не просыпалась. Ее пальцы понемногу потеплели и разжались. Пошатываясь, Бенджамин опустился на свой матрац и крепко закрыл глаза.
Искры, вспышки – точно молнии без грома… И снова темнота – снаружи и внутри. Теперь он знает! Ференс… Люси не забыла роковое имя, просто не смогла его забыть! А если это лишь случайный бред – воображаемая связь событий?.. Нет! В ее голосе звучало столько боли и протеста – такие чувства не случайны! Мысли Бенджамина, устремившись в прошлое, стали вдруг поразительно ясны. Да, Ференс – член палаты лордов, широко известный в Лондоне. О нем довольно часто говорили, но мало лестного. Найти влиятельного человека, даже в огромном городе, не так уж трудно, если задаться целью. Бенджамин был уверен, что он здравствует и по сей день.
Где твое логово? Где эта утопающая в роскоши обитель зла?..
Мосты, колонны, арки… улицы, парки, переулки с молниеносной быстротой проносятся перед закрытыми глазами Бена, и темнота рябит от них, а легким не хватает воздуха, как будто тело стало вдруг тюрьмой души. Демон, преследовавший его, вернулся вновь. И теперь он стал еще сильнее.
«Но неужели эта падаль так и будет жить, избегнув кары? – пульсирует в висках. – Прощение, смирение, забвение… – бессмысленные, запоздалые советы тех, кто не страдал ни разу в жизни!»
– Вот здесь, – заговорил он, когда пляшущее пламя красноватым светом озарило просторную, заставленную ящиками и инструментами мастерскую, – отец проводит день за днем день с утра до вечера, и не жалеет ни об одной минуте! Кузница – его храм: на этой наковальне, этим самым молотом ковался его дух. – Энтони поднял и поднес к лицу тяжелый молоток с отполированной до блеска ручкой, рассматривая каждую щербинку. Его познания в кузнечном деле исчерпывались несколькими фразами, но их значительно превосходило искреннее восхищение характером и трудолюбием отца.
Джоанна с интересом разглядывала кузницу: ни мусора, ни паутинки, казалось даже – ни единой лишней вещи.
– Он выбрал берег, дом, семью и никогда не сомневался в своем выборе, а мне… – Энтони запнулся на мгновение, но затем уже смелее продолжал: – Мне нужно было одолеть безумно долгий путь – от Гринвича до Дарданелл и дальше, чтобы понять его! И, наконец, я понял: корабли уходят в море, чтобы вернуться. Поскорее. Домой…
Юноша не умел красноречиво говорить, но непременно должен был закончить. Иначе эта встреча станет их прощанием. Он беспокойно теребил свой непривычно тесный воротник. В памяти не всплывало ни одной строки из рыцарских романов, прочитанных ему когда-то матерью. Джоанна представлялась Энтони настоящей леди – возвышенной, изящной, утонченной, почти принцессой. Он сознавал, что так и есть на самом деле.
– Домой, – задумчиво повторила девушка. В голосе ее прозвучала грусть.
Сердце Энтони учащенно забилось. О чем она жалеет на пороге новой жизни, еще не зная, где найдет очаг, которым назовет своим? Каким в своих фантазиях видит она будущее, влекущее и неизведанное, как путешествие через бескрайний океан?
Набравшись храбрости, Энтони глубоко вздохнул и, глядя в голубые, как безоблачное небо, спокойные и ясные глаза, внезапно ощутил, что ему вовсе не нужны чужие выражения. Он сам расскажет о своей любви. Да, именно любви! Прекрасное, всепобеждающее чувство рождается, как появляется на свет дитя, и нет причин стыдиться его, словно преступления!
– Я выбрал берег, – твердо произнес он, шагнув навстречу девушке. Собственный голос показался Энтони глубже и мужественнее, чем обычно. Исчезли звонкие мальчишеские нотки, как будто он в одну минуту повзрослел.
– Какой? – взволнованно спросила его Джоанна. Ее растерянная робкая полуулыбка согревала и торопила.
– Любой, какой бы ни был – север или юг – неважно! Я не хотел бы больше расставаться с вами. Вы очень дороги мне, потому что… Я полюбил вас, – коротко закончил Энтони и побледнел.
– Правда? – Джоанна, широко раскрыв глаза, смотрела на него. В ее вопросе не было ни тени недоверия – только искренняя радость, а ее лицо мгновенно просияло.
– Клянусь! – с жаром ответил Энтони, и вскоре к нему вернулся весь его задор. – Помнишь тот суп, что мы готовили у миссис Ловетт? – спросил он вдруг.
Джоанна удивленно подняла брови и кивнула головой.
– Да, ты его пересолил, – призналась она тихо. – Немножко.
И оба засмеялись. Им не терпелось о многом рассказать друг другу…
Когда, опомнившись от первых, неведомых им раньше впечатлений, через несколько минут они вдвоем вошли в столовую, Энтони, едва переступив порог, обратился к Бенджамину:
– Мистер Тодд! Я хочу сказать вам нечто важное. – И видя, что отец и мать, переглянувшись, подбадривают его взглядами, произнес: – Мистер Тодд, я люблю вашу дочь, и, возможно, еще слишком рано, но я уже сейчас прошу у вас ее руки!
Ошеломленный необычной новостью, Бенджамин привстал со стула. Лучистые глаза Джоанны в этот миг напомнили ему далекий, но такой счастливый день, когда он сам впервые признался Люси в своей любви. Воспоминание о радости внезапно пробудило в нем смутную тревогу: ведь, больше чем кому-либо другому, ему известно, как хрупко все прекрасное. Однако светлые, неповторимо-чудесные видения, ожившие перед его глазами, не разбередили старой раны, как бывало прежде. Почти. Бенджамин Баркер возвратился к своей семье.
– Ну что ты скажешь, папа? – взволнованно воскликнула Джоанна, подходя к нему.
– Мистер Тодд, вы в порядке? – спросил с беспокойством Энтони.
Бенджамин кивнул. Он оглянулся на супругов Хоуп и понял: все ждали только его согласия.
– Я очень рад за вас, – сказал он, дружески протягивая руку Энтони. – Ты доказал, что сможешь позаботиться о моей дочери и защитить ее. Джоанна! Ты прекрасно знаешь: мое желание полностью совпадает с твоим.
Неужели все бури и настораживающие затишья перед ними, наконец, остались позади?
– Спасибо, мистер Тодд! Спасибо! – В порыве благодарности Энтони восторженно пожал протянутую ему руку. И тут же, не переводя дыхания, продолжил: – Мне в голову пришла отличная идея: а не отправиться ли вам… нам в Брайтон? Там живут наши родственники, и они помогли бы устроиться – первое время, а потом все наладится…
– Вы поедете с нами, мистер Энтони? – растерянно переспросила его Джоанна. Последние события происходили для нее непостижимо быстро, увлекая за собой, как свежий ветер уносит парусник навстречу горизонту.
– Конечно!
Вряд ли можно было ответить тверже и увереннее.
За обедом еще долго с оживлением обсуждались планы на ближайшее и даже на далекое будущее, полное трудов. Истинное счастье, без прикрас, первозданно просто и возвышенно: крыша и очаг рядом с близкими тебе людьми. Как милосердие – не лишний хлеб, с презреньем брошенный голодным, а тот, что поровну поделен между равными. В горе и в радости, в богатстве и в бедности. Кто остается верен этой заповеди, богаче тех, кто правит миром.. Да, человеку, безусловно, многое под силу, если все зависит только от него. И счастье, не преподнесенное на драгоценном блюде, а построенное собственноручно, особо ценно. Хотя порою падает с небес…
Глава 22. ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Из маленького низкого окошка Люси наблюдала, как за домами медленно садится солнце. Отблески заката чуть позолотили выцветшие, блеклые обои. Как необычно это ощущение легкого, нежного тепла сквозь тонкое стекло – последнего луча, что дарит уходящий день… Внизу, обычно людная, ремесленная улица постепенно затихает перед тем, как погрузиться в темноту, а красноватый диск над крышами домов становится все больше, чем ближе опускается к земле. Скоро весь мир вокруг утратит очертания и растворится, затерявшись в чернильной синеве. Не важно: нет ни страха, ни тоски. Люси больше не боится ночи. Или это всего лишь иллюзия? Люди по своей природе склонны верить в то, чего хотят – искренне, до последнего, как верят в Бога. Кто же поможет отличить мираж от яви? Ей вспомнилась однажды услышанная фраза: «Каждый, кто верит, что все будет хорошо, в лучшем случае наивен, в худшем – глуп». Так говорила девушка, еще совсем ребенок, что перепродавала на базаре поношенные вещи, а по воскресеньям просила милостыню возле хлебного ларька… Только беда виной тому, что дети так мудры! Но разве провидение не бывает благосклонно?
Сегодня вечером необычайное событие, подобно вспышке, озарило их маленький мирок. Едва вернувшись на круги своя, он снова закружился, точно подхваченный стремительным течением реки: Джоанна сообщила о своей помолвке.
– Я даже не могла себе представить, что Энтони так неожиданно заговорит об этом!.. Его стихией были море, ветер, паруса – и вдруг все изменилось! Ты знаешь, мама, если бы он не решился, мне очень трудно было бы расстаться с ним… навсегда.
Люси еще не видела Джоанну такой восторженной: она буквально излучала свет.
– Да, ты так много говорила мне о нем, что я как будто вижу его перед собой! Такого восхищения заслуживает лишь достойный человек. – Ласково удерживая руки дочери в своих, Люси с растерянной улыбкой пыталась побороть нахлынувшее на нее волнение. Присев на край кровати рядом с нею, Бенджамин заботливо подал ей стакан воды.
– Я взял на себя смелость сам благословить их: все произошло так быстро, – объяснил он. – Энтони Хоуп обещал зайти к нам завтра. Он обязательно понравится тебе…
Все складывалось просто и благополучно. Но что-то вдруг кольнуло сердце Люси, словно предчувствие, что за любое счастье надо заплатить.
– Ты будешь навещать нас… после свадьбы? – спросила она с трепетом, обернувшись к дочери.
– Ну что ты, мама, мы поселимся все вместе! – воскликнула Джоанна. – Разве я могу покинуть вас с отцом?
О большем невозможно было и мечтать. Сияющее радостью лицо Джоанны красноречиво подтвердило ее слова.
Этой ночью Люси долго не могла заснуть. Как прежде горечь и смятение, сегодня счастье не давало ей покоя. Надежда провести дарованную ей земную жизнь рядом с близкими, любимыми людьми со всей первоначальной силой поселилась в ее душе, как это было много лет назад, когда ничто не предвещало им угрозы. И вопреки тревогам и сомнениям, она поверила, что так и будет впредь. Уже глубокой ночью Люси заснула со слезами на глазах.
Наклонившись к изголовью, Бенджамин прислушался к ее тихому дыханию. Часто не сон, скорее настороженное забытье на несколько часов, давало ей передохнуть. Она давно привыкла бодрствовать, невзирая на усталость, как и он сам. Ночи были слишком длинными для них обоих. Даже под защитой Бенджамина, за преградой прочных стен Люси до сих преследовали призраки зловещих темных улиц. Незримые при свете дня, они, точно голодные ночные хищники, настигали ее во сне.
Сегодня ночь, непроницаемо-безлунная, была иной – во мраке ее теплилось какое-то неведомое умиротворение. Она укачивала ласковыми волнами покоя, неся вперед – навстречу будущему, желанному и долгожданному, которое ежесекундно становилось настоящим.
Бенджамин даже не заметил, как задремал. Безмолвие царило в маленькой уютной комнате и за ее пределами. Как долго это длилось, известно только Богу…
Внезапно тишину прорезал протяжный стон. Сначала, Бенджамину показалось, будто он вырвался из его груди. Но губы его были плотно сомкнуты. Негромкий, сдавленный, тягучий звук мгновенно разогнал туман, окутавший его сознание. Отбросив покрывало, Бенджамин привстал, тревожно вглядываясь перед собой в непроницаемую темноту. Его рука, ища свечу, невольно замерла на полпути.
– О, Боже, перстень! Отпустите!.. Лорд Ференс! Это были вы!.. – донесся до него дрожащий голос. – Нет... Нет! – И все затихло.
Тишина звенела натянутой струной.
– Люси… – Не зажигая света, наугад, Бен потянулся к ней всем телом, точно заслоняя собой ночной кошмар, и влажная холодная рука непроизвольно сжала его ладонь. Секунды напряженно пульсировали без ответа… Люси не просыпалась. Ее пальцы понемногу потеплели и разжались. Пошатываясь, Бенджамин опустился на свой матрац и крепко закрыл глаза.
Искры, вспышки – точно молнии без грома… И снова темнота – снаружи и внутри. Теперь он знает! Ференс… Люси не забыла роковое имя, просто не смогла его забыть! А если это лишь случайный бред – воображаемая связь событий?.. Нет! В ее голосе звучало столько боли и протеста – такие чувства не случайны! Мысли Бенджамина, устремившись в прошлое, стали вдруг поразительно ясны. Да, Ференс – член палаты лордов, широко известный в Лондоне. О нем довольно часто говорили, но мало лестного. Найти влиятельного человека, даже в огромном городе, не так уж трудно, если задаться целью. Бенджамин был уверен, что он здравствует и по сей день.
Где твое логово? Где эта утопающая в роскоши обитель зла?..
Мосты, колонны, арки… улицы, парки, переулки с молниеносной быстротой проносятся перед закрытыми глазами Бена, и темнота рябит от них, а легким не хватает воздуха, как будто тело стало вдруг тюрьмой души. Демон, преследовавший его, вернулся вновь. И теперь он стал еще сильнее.
«Но неужели эта падаль так и будет жить, избегнув кары? – пульсирует в висках. – Прощение, смирение, забвение… – бессмысленные, запоздалые советы тех, кто не страдал ни разу в жизни!»

Как тесно и темно! Как долго предстоит еще бороться с этой болью – или с самим собой? – глухими бесконечными ночами, лежа без движенья, как в оковах?
Бен отыскал свой плащ, набросил его на плечи и неслышно вышел в коридор. Узкая лестница, не скрипнув, увлекла его на улицу. Последнее препятствие – входная дверь была не заперта. Ночь обдала его горячее лицо дыханием прохладного, наполненного влагой ветра.
Свобода! Вот уже год назад он вырвался из ада, полагая, что вернул ее себе. Но ошибался. Не может быть свободен человек, обуреваемый невыносимой жаждой мести! Она едва ли не сильнее, чем любовь! Какой же властью должен обладать над ним этот коварный враг, что и теперь, спустя шестнадцать лет, на расстоянии, не ведая об этом сам, способен причинять такие муки?! Нет, ненависть не разделяет – она приковывает к существу, к которому испытываешь злобу. Ты постоянно, против воли, пребываешь в мысленном упорном поединке с ним. Твой враг неуязвим, а ты изранен до изнеможения!..
Сырая мостовая блестела в тусклом свете фонарей. На улице не видно было ни души. Всюду, куда не обращался взор, закрытые ворота, ставни, двери и стены защищали мирный сон трудолюбивых горожан. «Мой дом – моя крепость» – с достоинством говорят англичане. Недавно, может быть по этой самой улице, покинутая всеми, одиноко бродила Люси в поисках ночлега. Бенджамин повернул в ближайший переулок. Только бы двигаться вперед, не останавливаясь, хотя бы до рассвета, а потом…
«В поисках истины есть только два пути: один приводит к ней, другой уводит прочь, – подсказывает голос изнутри. – Ненависть – антипод любви. Любовь – уверенное равновесие души, оно не тяготит, а окрыляет, призывая человека создавать. А ненависть – направлена на разрушение. Может ли тот, кто любит, стремиться уничтожить?»
Слишком различны в этом мире добро и зло: пчела, ужалив, погибает, а гадюка – продолжает жить.
Бенджамин, резко останавливается, с вызовом глядя в темноту:
– Смотри, лорд Ференс, или кто там! Я не захватил с собой оружия! Ведь если я на самом деле убью тебя – ты победил!
Но боль внутри не отпускает, а непокорный дух неистово противится тому, что трезво понимает разум. Психика человека похожа на амебу, которая, уничтожая опасное и вредное, готова поглотить его, накрыв собой. Круг замыкается на ненависти: бесплодная, слепая, непреодолимая, она, подобно червю в плоде, подтачивает силы.
Как одолеть противника при встрече тому, кто даже в мысленной борьбе ежеминутно терпит поражение? Что может сделать против лорда простой цирюльник, не преступив закон?
«Я не хочу, чтобы он просто умер: я хочу, чтоб он страдал, как я! Как Люси! Ну почему я не Господь, чтобы карать?!»
Напрасно: даже это не изменит прошлого и не вернет утраченные годы! Но, если добровольно принимать по капле яд воспоминаний, то можно отравить себе оставшуюся жизнь! Каждый из нас сам создает свой ад и медленно сгорает в нем, собственноручно поддерживая пламя. И если жажда мести толкает человека в бездну, то к обрыву он тоже всегда подходит сам. А стоит ли?.. Не стало Торпина, не стало Бэмфорда… Угроза, исходившая от них, исчезла, но их конец, банальный и однозвучный, не вызвал торжества. Если змея околела после того, как ужалила – это уже бесполезно. Только последние слова судьи вдохнули веру в раненое сердце Бенджамина Баркера: «Неважно… Люси до сих пор жива!» Все прочее – терзающая душу ярость и даже те нечеловеческие муки в казематах каторжной тюрьмы – стало действительно неважно в этот миг. Так почему сейчас, когда поистине свершилось чудо, и они снова обрели друг друга, он позволяет управлять собой какой-то тени, проклятому имени, химере?
«Теперь я знаю, кто ты. Но не для того, чтоб уподобиться тебе. Я просто буду осторожен», – произносит Бенджамин сурово, как приказ. И он готов его исполнить, любой ценой. Глухие отголоски темных мыслей еще бушуют в нем, но их поток уже не захлестнет рассудка. Пускай он только человек, не больше – не ангел, сотканный из света, отпугивающий бесов одним своим сиянием – он выстоит.
Нельзя простить, нельзя забыть, но можно оборвать магическую связь, похожую на каторжную цепь: не искать своего врага, повернуться к нему спиной. И, если этого желаешь, время постепенно выведет тебя из тупика. Не зá ночь, не за несколько недель, но он освободится из рокового плена прошлого и пагубных страстей – он так решил. Бенджамин Баркер, осужденный, обреченный, почти казненный, выжил в зловонной тесной клетке трюма, где несколько десятков заключенных умерли от тифа; тяжелые работы, голод и жестокость палачей не отняли у него воли и достоинства. Он отыскал дорогу в непроходимых джунглях и пересек просторы океана, чтобы вернуться оттуда, откуда нет возврата. Сможет и это. Ференс умрет в его душе и словно перестанет существовать извне. А Бенджамин всем своим духом будет жить – всецело ради тех, кто для него дороже жизни!
Он вскинул голову, как будто вопрошая небеса. Безоблачное небо бледнело на востоке, предвещая ясный день… Солнце заглядывает, как ни странно, в этот город, надменно-беспристрастный и безупречно-серый – вертеп, в котором правят жажда власти и наживы, обман и ханжество. Так началась борьба, исход которой предрешен. Внимая отзвукам своих шагов, Бенджамин чувствовал, как время, вечный, безупречно-четкий механизм, отсчитывает ее первые минуты. Самое трудное для человека – победить себя… Намного проще – погубить.
Он возвращался. Близился рассвет. Поднявшись по неосвещенной лестнице, Бен осторожно отпер двери в комнату, которую покинул всего лишь час назад, погнавшись за коварным демоном и убегая от самого себя. Войдя, он настороженно прислушался. Из темноты не доносилось ни шороха, ни дуновения, как будто маленькая спальня опустела. Бенджамин бросился во тьму, и кое-как наощупь отыскал свечу. В неровном свете трепетного огонька он различил рассыпавшиеся по подушке пепельные волосы и бледный профиль… У него мгновенно отлегло от сердца.
– Бен… Бенджамин, – тихонько позвала Люси.
– Я здесь, – через секунду он был уже рядом с ней.
– Мне показалось, ты уходил… – прошептала она с тревогой.
– Да, ненадолго. Я не мог уснуть. – Бенджамин бережно привлек ее к себе, поклявшись больше никогда не отпускать.
– Скоро наступит утро, – оглянувшись в сторону окна, сказала Люси. И это означало нечто большее: он угадал ее улыбку. Это была улыбка путника, нашедшего приют. Какой бы долгой ни казалась ночь, в конце концов, она рождает новый день.
Бен ощутил спокойное и теплое дыхание на своей щеке. Прежняя Люси постепенно возвращалась, оживая в заботливых объятьях его рук, чутко внимая звукам его голоса. Как в юности, она прильнула к нему, укрывшись на его груди, не пряча нежности, совсем по-детски ища защиты. И в этот миг он осознал, что в ней заключено его спасение. Чтó он без нее? Парус на ветру, в буре оторвавшийся от мачты. Став единым целым с лодочкой, затерянной в волнах, он вернет ей цель, она же станет его опорой.
Да, ему предстояло еще многому научиться у этой хрупкой женщины, которая ни разу не призывала к мести. И он приложит все усилия, чтобы она забыла о невзгодах. Рука в руке, они вдвоем поднимутся с колен – над пепелищем пережитых испытаний и болью старых ран.
Скоро…
И даже если это невозможно – ВОПРЕКИ ВСЕМУ!
Эпилог
Середина лета в Брайтоне выдалась особо солнечной и теплой, даже непривычно жаркой для умеренного климата Британии. В портовом городе, щедро согретом благодатными лучами, целыми днями кипело оживление. А вечерами свежее дыхание насыщенного влагой ветра часто доносило с пристани запахи растительного масла, апельсинов и пряностей: в гавани разгружали торговые суда.
За городом вдоль берега тянулась рыбацкая деревня, а дальше – окруженные каштановыми рощами, вдали от суеты, раскинулись зеленые луга. По воскресеньям это живописное уединенное местечко превращалось в нечто вроде парка: свободные от будничных забот, горожане с удовольствием устраивали на природе пикники.
Внизу, у самого подножия широкого холма лениво колыхалось море, а в стороне рыбачьи лодки, перевернутые днищем вверх, лежали на песке, словно огромные морские рыбы, выловленные из воды.
Люси могла часами любоваться лазурно-чистой синевой, подернутой слепящей рябью солнечного света. Над ширью бесконечного простора ее душа доверчиво беседовала с будущим: под шелест волн и крики чаек она легко парила, оторвавшись от земли. И временами, Люси, как дитя, закрыв глаза, переносилась в новый необычный мир, пронизанный дыханьем ветра и всполохами золотых лучей…

Укутанная в тонкую простынку, Джоанна безмятежно дремлет на ее руках. Маленькое розовое личико чуть заметно улыбается во сне. Хрупкий, беззащитный ангелочек даже не догадывается, сколько света, сколько сил и веры может подарить тому, кто прижмет его к своей груди. Тихое счастье – не мираж, оно не ускользает, как мечта, и не боится прикосновения руки.
– Она похожа на тебя. – В голосе Бенджамина слышатся удивление и гордость. Склонившись над малышкой, он осторожно поправляет край простынки, и крохотные пальчики тут же обхватывают его мизинец.
– Не бойся, – шепчет он, – я не уйду…
– Она похожа на свою мать, – с улыбкой отвечает Люси.
Время, казалось, повернуло вспять… Словно в волшебном зеркале, с невероятной четкостью, оно воссоздавало самые прекрасные и чистые мгновения, наполнив их первоначально-трепетным волнением и мудрой глубиною смысла. На этот раз их счастье – не подарок, а награда. Судьба, та самая, что жадно отнимает, не давая ничего взамен, послала им гораздо больше, чем заурядное благополучие в тиши – она предначертала добрый путь и указала цель: найти себя и возродиться рядом с новой жизнью. И все же, человек – творец своей судьбы, а победить мирское зло способен только тот, кто победил его в себе.
Склонившись над младенцем, Бенджамин и Люси долго сидели молча, не замечая, как легко и незаметно убегает время, воодушевленные уверенным сознанием того, чего они достигли в этом жестоком мире силой духа и любовью. Бен чувствовал, о чем она мечтает, прислонившись к его серебристому виску. Молчание не утомляло их, как не смогло бы утомить биение сердца и общество друг друга.
– А вот и молочко для моей крестницы! Как жаль, что ты еще не подросла, чтобы попробовать мои мясные пироги! – раздался позади шутливый голос.
– Ну, не расстраивайтесь, миссис Нелли! – воскликнул Энтони, запыхавшись, подбегая к ним. – Наша малышка быстро делает успехи! А вот и папа!
Он опустился на колени. Из-под кружевного чепчика на юношу смотрели широко-раскрытые голубые глазки, словно два маленьких лазурных неба.
– Энтони, у нее твой взгляд! – восторженно заметила Джоанна, присаживаясь рядом.
– Да!.. Можно, я возьму ее?
– Держи-ка. – Люси бережно передала малышку ее отцу.
Едва лишь руки юноши обняли крохотное тельце, его подвижные черты преобразила трогательно-чуткая отеческая нежность. Маленькая Джоанна – его восьмое чудо света! Ей подчинялись все его неугомонные стремления. Теперь у него было две Джоанны – две жизни, до краев наполнившие чашу его собственной. И если бы вдруг за спиной у него появились крылья, он воспарил бы к облакам от радости.

Отец и дочь – наставница и ученик. Энтони догадался об этом сразу, как только в первый раз поцеловал ее округлый детский лобик. Едва родившись, несмышленое, невинное дитя преподало свой первый – самый простой урок, завоевав сердца сразу пяти людей.
Нелли была самой счастливой крестной матерью на свете! И в день крещения она по-настоящему, всем своим духом ощутила себя незаменимой частью единой крепкой большой семьи. Ее семьи! Она и не мечтала об иной!
Залюбовавшись, как сосредоченно, буквально затаив дыхание, Энтони кормит из бутылочки дитя, пока Джоанна-старшая готовит чистую простынку, Нелли всецело отдалась полету мыслей, которые подобно ветру, унесли ее далеко вперед. Еще немного, и малышка, нараспев соединяя слоги, назовет его по имени; однажды, накануне Рождества, они вдвоем разучат изящный танец настоящей леди и… приготовят праздничный пирог! А в день рождения, седьмой по счету, Нелли сама торжественно заменит ей детский чепчик на девичий капор…
Мыслей было множество – красочных и ярких. Порою среди них неуловимой нитью проскальзывала самая сокровенная, исполненная светлой грусти: «Ах, Бенджамин, я никогда не перестану тебя любить!.. Но мне сейчас намного легче». И эта искренняя правда была ее заветным талисманом, а братская забота – сутью их единства и смыслом ее новой жизни.
Глубоко вдохнув соленый ветер, Нелли спокойным долгим взглядом окинула сверкающую перед ними голубую гладь и прошептала: «Если счастье измеряется ценой страданий, то за него уплачено сполна!»

Рейтинг: +12
3054 просмотра
Комментарии (19)
| Леорнелла Тодд # 25 февраля 2019 в 17:25 +2 |
| Нелли Тодд # 25 февраля 2019 в 17:38 +2 | ||
|
| Леорнелла Тодд # 25 марта 2019 в 11:08 +2 |
| Нелли Тодд # 25 марта 2019 в 13:04 +3 |
| Валентина Карпова # 7 апреля 2019 в 17:44 +3 |
| Валентина Карпова # 7 апреля 2019 в 20:59 +1 | ||
|
| Нелли Тодд # 8 апреля 2019 в 09:03 +3 |
| Леорнелла Тодд # 24 апреля 2019 в 08:05 +2 |
| Нелли Тодд # 24 апреля 2019 в 10:51 +3 |
| Леорнелла Тодд # 24 апреля 2019 в 16:01 +3 |
| Александр Козлов # 9 сентября 2020 в 08:59 +2 | ||
|
| Андрей Шеркунов # 15 января 2021 в 23:11 +2 | ||
|
| Нелли Тодд # 18 января 2021 в 08:31 +2 | ||
|
| Константин Ольховский # 16 августа 2021 в 17:30 +1 | ||
|
| Нелли Тодд # 27 сентября 2021 в 07:43 +2 | ||
|
| Sall Славик*оf # 16 декабря 2021 в 21:48 +1 | ||
|
| Нелли Тодд # 21 декабря 2021 в 08:39 +1 | ||
|
| Василий Акименко # 27 декабря 2022 в 19:20 0 | ||
|
| Нелли Тодд # 29 декабря 2022 в 13:21 0 | ||
|
Новые произведения









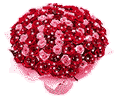




 почему-то изменился стиль, стала обыкновенным для наших сайтов... жаль...
почему-то изменился стиль, стала обыкновенным для наших сайтов... жаль...