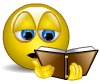Тайная вечеря. Глава девятая
2 декабря 2012 -
Денис Маркелов

Глава девятая
Калерия Романовна обычно старалась не вслушиваться в разговоры коллег. Но сейчас…
Сейчас эти женщины обсуждали телерепортаж с места преступления.
- Представьте себе, голые дети. Девочке лет одиннадцать, а мальчик, мальчик уже, ему лет тринадцать. Их обнаружили совершенно случайно, прорвало трубу, а они, они сидели прикованные к трубе отопления.
- Боже мой, они обварились, – выдохнула сентиментальная математичка.
Калерия Романовна боялась быть сентиментальной. Она, конечно, могла всплакнуть над погубленным цветком, но люди у неё вызывали или тошноту, или учащенное сердцебиение.
- Ну, а куда смотрели родители?
- Вот в этом и штука. Мать поехала со своим новым женихом в турпоездку и пропала. Отчим сбежал, а их настоящий отец, то есть отец девочки был мёртв.
- А мальчик?
- У мальчика есть мать. Разведёнка или одиночка, разумеется.
- Какой ужас… А почему они голые?
- А они репетировали. Ну, помните, это нелепое объявление в «Рублёвском вестнике». Я сразу почуяла в нём лажу. И вообще это только лёгкий флер - биология – спорю этот человек очень много раз кончал когда писал эту повестушку.
- Вы о повести Ларри. А я зачитывалась этой книгой.
- Ну, вы Алла Александровна – другое дело. Вы человек романтичный, но предупреждаю, романтизм часто ведёт в омут цинизма.
- Ну, разумеется. Спорю, что вы уже прошли этот путь.
Калерия Романовна вдруг почувствовала опасность. До сих пор в её жизнь никто не вторгался из вне. Её не тревожили своим вниманием ни хулиганы, ни слишком бдительные милиционеры. Она не знала, что значит просыпаться от надрывных звонков, а затем ощущать на своём теле чужие бесцеремонные руки. Пальцы исследующие каждую выпуклость и впуклость дрожащего от омерзения тела.
И эта игра в еженедельный театр маркиза де Сада была лишь игрой. Виолетта привыкла играть свою роль, она была куклой, живой куклой, которую она родила только для себя самой. А эти женщины, эти женщины были теми самыми судьями, перед которыми она оправдывалась за поведение своей неразумной игрушки.
Дети, которым она рассказывала о влиянии времени на общество, были чужими игрушками. Ими нельзя было играть по своему произволу, они могли возмутиться. Но если бы был циркуляр, обычная бумага с гербовой печатью и типографски набранным заголовком.
Она бы, тогда бы она развернулась. Первым делом она бы уравняла всех окончательно. Ещё тогда когда их учебное заведение называлось гимназией, она мечтала, как все, поголовно все будут обнажены.
Можно конечно носить табличку с именем и фамилией на шее, или ещё лучше выкалывать на запястье особый шифр – шифр, который знала бы только бы та, кто ведёт этого человека. И никаких домашних, никаких родителей. Дети должны были жить как в казарме, закаляя своё тело и дух.
Мысли о такой реформе согревали её усыхающее сердце. Видеть всех постриженными под одну гребёнку, чувствовать себя тираном пусть даже для таких незначительных людей было приятно. Калерия понимала, что скоро не выдержит, покорности дочери не хватит для удовлетворения её растущих амбиций. Она жаждала перенести всё на уровень класса, параллели, школы. Она уже видела, как эти взрослеющие шлюшки смывают со своих лиц макияж, как становится во фрунт, позволяя своим пупкам бесстыдно глазеть на мир, и боясь за свою лобковую водорослеобразную поросль.
Она мучилась, как мучится алкоголик без любимой бутылки спиртного. Мучилась и была готова замычать, задёргаться в конвульсиях или вдруг начать выкрикиваться, желая поскорее добиться желаемого эффекта.
Ираида Михайловна жалела, что не решилась сесть за руль «Вольво».
Сидящий в вестибюле человек в камуфляжной форме хмуро взглянул на неё.
- Вы к кому?
Ираида Михайловна назвала имя и отчество директрисы.
- А вам назначено?
- Я думала, что тут нет особой сложности. Или за год всё изменилось.
- Вы газеты читаете. В этой школе пропадали дети. Разумеется, здесь поставили пост. И я не хочу из-за какой-то женщины терять хорошее место.
- В этой школе?
Ираида Михайловна посмотрела на него пристальней. Разумеется, отставной военный, какой-нибудь вечный прапорщик, а теперь ему хочется быть принципиальным.
- Я между прочим мать одной из пропавших, но к школе у меня нет никаких претензий. А вот к вам…
- Как о вас доложить?
- Оболенская Ираида Михайловна…
Директрисе не хотелось быть грубой с супругой бывшего спонсора гимназии.
- Вы пришли. Пришли потребовать обратно средства, что выделял нам ваш муж?
- Что за глупость. Что с воза упало…
- А я уж думала, что вы загоните нас в долговую яму. Тогда вы хотите, чтобы Нелли училась в школе…
- И да, и нет…
- Я поняла, что-то вроде экстерната. Забавно, я бы половину детей перевела на домашнее обучение. В школе им не комфортно, они не учатся, они пытаются противодействовать среде. Вот взять, например, подругу Вашей дочери. Я пыталась поднять её самооценку, но тщетно, вместо того, чтобы соответствовать выбранному образу она попросту витала в облаках.
- А Нелли?
- Нелли... Разумеется, она обладала спасительной иронией. Но этого было не достаточно. Скорее эта ирония и спасала её от безумия. Что значит эта пресловутая Алиса. Растущая, готовящаяся стать женщиной девочка. И от этого все эти дикие сны, ведь там она была голой, и этот Шляпник – какой ужасный персонаж.
- И еще у меня персональное дело к Калерии Романовне Крестовской.
- К Крестовской. У неё сейчас урок в седьмом классе, но я могу попросить её придти. Мы поставили в каждом кабинете по телефону. На случай разных ЧП разумеется. В школе кардинально поменялся коллектив. Многие педагоги пока ещё не в силах воздействовать на учеников своим авторитетом.
Крестовская была возмущена бесцеремонностью стареющей директрисы.
Вызвать её, её, как провинившуюся девчонку на ковёр. Вообще-то она думала, что эти телефоны предназначены для скорого решения судьбы хулиганов. В школе появились люди в форме, а под столом учителя, дублируя телефон была устроена тревожная кнопка для связи с ближайшим отделением милиции.
Входя в кабинет она проглотила всё своё раздражение, словно бы запретную жвачку.
- Вызывали…
Елизавета Прокофьевна взглянула на неё с любопытством стареющей курицы.
- Да-да. Тут Ираида Михайловна. Она хотела с Вами поговорить. Наверняка, попросит помочь в том, чтобы её дочь сдала экзамены на отлично.
- Мы могли бы проверять знание Нелли Оболенской в конце каждой четверти на педсовете. По-моему, это самый лучший выход. Сейчас, после всего случившегося я бы не советовала оставлять её в классе надолго.
- Если вам необходимо я могу предоставить справку от венеролога, моя дочь совершенно чиста.
- Дело, разумеется, не в справке.
- А в чём…
Крестовская на мгновение представила дочь этой женщины. В мечтах она не раз терзала её аккуратный зад, терзала, как это делали в романах любимого грустного француза, который заставлял грустить многих, описывая издевательства и пытки.
- Знаете, я ведь кое-что знаю о вас. О ваших пристрастиях. Вам не терпелось выпороть мою дочь. Нелли рассказывала, как вы смотрите на её зад, как пытаетесь касаться его. Ведь вам по душе тиранить молоденьких девушек. Наблюдать, как они плачут, как молят вас о пощаде, как становятся на коленки. Тогда вам нравится ваша работа.
- Это бред. Вам никто не поверит. Я мечтаю о чьих-то задах. Мне хватает зада моей собственной дочери.
- Так это правда, вы сечёте её…
- Калерия Романовна… - выдохнула директриса
- Я имею на это право. И вы бы секли если бы были смелее. Но вы делали всё по-другому. Вы рисовали свою дочь. Вы также наказывали её наготой. И вы ни чем не лучше меня. И если вы будете мешать мне…
- Напротив. Я хочу помочь вам. Хочу, чтобы вы продали мне одну вещь. Одну вещь, которая вряд ли вам будет нужна. Кому нужна старая картина, которая требует реставрации.
- Картина? У меня нет никакой картины. А если речь идёт о Вере Андреевне Крестовской, то это – моя свекровь, и всё, что ей принадлежит, принадлежит моему мужу.
Крестовская была напугана. Она вдруг почувствовала себя голой девочкой, без макияжа, без взрослого костюма, даже без полновесных грудей, с одними едва заметными сосками. Быть для незнакомой женщины сыкушкой-первоклассницей было нестерпимо противно.
Она была возмущена. Константин помел что-то утаить от неё. Утаить, словно школьник. А она, она… Разумеется, она бы продала эту мазню, продала, получив за неё около двадцати тысяч.
Константин Иванович обожал сваренные всмятку куриные яйца.
Он и теперь выскребал мозги очередному Шалтай-болтаю, выскребал, словно бы довольный своей добычей хорёк.
Калерия Романовна была не довольна. Приближалась очередная суббота, а в тетради с названием «Кондуит» оказывалось слишком мало претензий к дочери, та решительно не желала делать ей гадости, а бить её без причины она всё ещё не решалась.
Желание испытать пьянящее ощущение раздраженности и гнева, почувствовать, как в её сердце вонзаются воображаемые иглы, чувствовать, как взбудораженный таким образом орган начинает биться сильнее. Оно съедало её душу.
Муж слишком далеко отходил от неё. Он старался остаться чистеньким скорее он желал одного наблюдать за униженной и покорной дочерью, за дочерью, которая из субботы в субботу совершала привычный ритуал, не пытаясь возмутиться и защитить своё измученное тело.
Поджаренный в тостер хлеб казался обычным сухарём. Она была готова выбросить его в мусорное ведро, но какой-то молящий взгляд исхудалой старухи остановил её руку.
Старуха была воображаемой, она влезла в голову с какой-то военной фотографии, влезла и теперь издевалась над ней, словно бы красноармеец с плаката Моора.
- Костя, ты не знаешь, где наша милая дочка?
- Она пошла заниматься к подруге.
- Вот как… А почему она не предупредила меня. Почему я должна сейчас сидеть и волноваться. Мне, между прочим, это вредно. Но вам всем наплевать на меня. На моё больное сердце, на то, что я могу умереть. Ну, конечно, ты разумеется, заведёшь любовницу и будете сминать мои простыни, да мои, мне их подарила двоюродная сестра. И ты. Ты… боже, кем ты был до того, как познакомился со мной. Обычным неудачником. Я заставила тебя жить, ты стал писать свою дурацкую диссертацию, стал расти. И это помогло нам. Ведь завод скоро почти остановился, а ты, ты отсиделся в институте, Читал какие-то мелкие курсы, у тебя нет самолюбия Костя. Ты – букашка. Ты даже не знаешь, что твоя дорогая мамаша решила продать картину. Продать за нашей спиной. И если бы не случай, то эти деньги пошли туда в эту чёртову богадельню.
- Я знаю. Знаю, что у матери есть картина её дяди. Но это просто нонсенс. Представь там изображён Христос, а вокруг него апостолы с головами животных. На теле Иуды вообще голова шакала.
- Какая глупость. Я всегда подозревала, что в вашем роду были сумасшедшие.
Она вдруг ужасно соскучилась по дочери. Ей вдруг почудилось, что эта девчонка пытается переиграть свою судьбу, что сейчас она делает что-то опасное, например моется в чужой ванне со своей одноклассницей и в порыве откровенности раскрывает все карты.
Всё шло слишком гладко. Кто-то позволял ей быть неуязвимой. Но могло случиться непредвиденное зло, куколка захотела бы быть живым человеком и нашла бы себе защитника. А делать это открыто, без страха быть наказанной за свою фантазию она не могла.
Виолетта входила в тот возраст, когда они могли поменяться ролями. Это и страшило Калерию Романовну. Она боялась сознаться в том, что мечтает быть избитой, плакать и молить о пощаде, Порка была бы заменой тому, что жаждет любая здоровая женщина, и чего ей не мог дать её муж.
Секс вызывал у него интеллигентскую брезгливость. Он был сродни тем физиологическим отправлениям, которые он производил в закрытом на щеколду туалете, только вместо мочи из этого органа вытекала совершенно нелепая субстанция. Сперма была укоряющим свидетелем его бессилия.
Виолетта сама не заметила, как за окном сгустились сумерки.
Она вдруг вспомнила материнские страшилки об обдолбанных насильниках, которые будут мерзко, словно бы черви, елозить по её голому телу. И тогда все на свете порки покажутся лёгким оздоровляющим массажем.
Мать любила поднимать панику на пустом месте, но Виолетте хотелось сотворить что-то такое, что заставит эту женщину по-настоящему испугаться.
- А что, если остаться здесь у Светки, благо, что её родители не лезут в её личную жизнь.
Мать любила страшить Виолетту коварной и позорной гонореей. Это слово слетало с языка Калерии Романовне чаще всего – она боялась, что однажды дочь принесёт на своих гениталиях какую-нибудь бяку, ту самую бяку, что из самой красивой женщины разом делает изгоя.
Светка была довольна. Она порхала по комнатам полуодетая, то и дело хвастаясь новенькими стрингами, от которых были без ума её милые непосредственные мозги.
- Ну, не прелесть. Цвет, конечно, подкачал лиловый цвет был бы лучше.
Виолетта соглашалась. Она терпеть не могла разноцветное бельё, правда жгучим брюнеткам шёл цвет мака. А вот ей.
Она помнила, как научилась быть молчаливой, как хотела только одного, чтобы мать не вертела головой в поисках своей драгоценной тетради, которая была разлинованная, как школьный дневник, только каждому дню там посвящалась целая страница.
- Ой, уже поздно, как же ты домой пойдёшь?
- А разве я не могу переночевать у тебя?
- Только мы будем спать в одной постели.
- Я могу и на полу.
- Ну, что ты… Разве ты собака какая-нибудь. У нас был дворняга Шарик, да и он любил спать, как человек, на диване.
- Хорошо… Можно я тогда искупаюсь. Только не подглядывай за мной, ладно…
Светка почувствовала себя оскорбленной. У этой милой отличницы от неё завелись тайны. Может быть она уже давно не девочка. Что же ещё можно скрывать от лучшей подруги.
А Виолетта молча разглядывала кафельную стену с интересной картинкой. Там царила полярная зима – чум, человек в кухлянке, нарты с упряжкой собак и яркая полоса северного сияния. На голую Виолетту дохнуло арктическим холодом.
Она поспешила нырнуть под тёплый дождик, стала активно покрывать себя мыльной пеной, вспоминая старый детский мультфильм, в котором бурый медведь таким образом становился похожим на полярного собрата.
Страх, что кто-то увидит этот проклятый z из рубцов, заставлял её быть скромнее. Даже переодеваясь перед уроком физкультуры, она помнила о нём. Мать относилась к ней, как к какой-нибудь избалованной сеньорите, которая бы умерла от позора, стоило её ягодицам познакомиться ближе с розгой или же плетью.
У Светки было классное жидкое мыло. Она любила свою кожу, радостно занималась своей красотой, мечтая со временем выйти удачно замуж, переехав в город получше, а то и столицу.
Она то и дело пробегала мимо закрытой двери, пробегала и думала о том, что делает там подруга. Они были скорее просто знакомыми, но считали милую болтовню в школе, и совместные занятия алгеброй по вечерам - дружбой…
А сейчас им предстояло породниться. Виолетте это казалось так ясно, что она покраснела, старательно прогоняя прочь все игривые мысли. А она была рада сделать что-то прекрасное, что-то такое что выделило её из толпы.
Светка не выдержала. Её худое тело всё горело от вожделения. На её счастье щеколда была закрыта некрепко, металлический штырёк выскочил из скобы, и она вошла туда, куда так хотела попасть.
- Света, не надо. Мне щекотно, Света.
Пальцы подруги перебирали невидимые струны. Они касались намыленных кудряшек и стремились туда, куда Виолетта ещё никого не пускала.
Даже мамин кушачок не касалась этого стыдного места. Виолетта старательно прятала его от взоров тупых старух, они могли представлять себе, что угодно, даже то, что никогда бы не случилось.
Калерия Романовна постепенно теряла контроль над собой. Она никогда не считала себя законченной истеричкой, но сейчас, бегство дочери заставляло её думать, всё что угодно. Она не приняла бы её назад поруганной и обобранной, как липка. Просто не отперла дверь. Дочь не была для неё живым человеком, она была игрушкой – любимой и не любимой судя по обстоятельствам.
«Интересно, а может быть она уже давно стала лесбиянкой, только я отчего-то не замечаю этого?!».
Калерия Романовна вдруг подумала о прянике. Ей стало совестно терзать дочь, ведь всё это порождала нездоровая зависть. Виолетта напоминала ей прошлое, то самое прошлое, которое она не ценила, когда оно называлось настоящим.
Было бы проще найти в ней замену опостылевших отношений с мужем. В сущности, никаких особых отношений и не было, была всего лишь имитация семейного счастья, когда полуживой манекен принимали за полноценного мужчину.
Дочь давно уже вызывала зависть. Возможно, её ладное тело привлекало Константина, она специально поливала пробивающиеся рога, заставляя этого рохлю зариться на ту, самую девушку, которую он машинально считал своей дочерью.
Было забавно стать из злой ведьмы доброй феей. Возможно, будь она до конца удовлетворена, она бы не нуждалась в этих нелепых судилищах.
Виолетта забылась в объятиях подруги. Она даже не подумала позвонить матери, звонок заставил бы её оправдываться и лишний раз вспоминать о грядущей порке.
Эта стыдная процедура стала привычной. Виолетта стыдилась плакать от каких-то милых ударов, которые доказывали, что она пока не труп.
- Виолетта, а ты знаешь, что в нашем классе завтра появится новенький? А жить он будет в твоем доме и в твоём подъезде.
- Откуда ты знаешь?
- Мне мама сказала. Она знает маму этого парня. Они недавно разменяли квартиру и разъехались кто куда.
- Как разъехались?
- Развелись и разбежались. Я вот не пойму, почему твои родители ещё вместе. Они же не любят друг друга.
- У нас слишком маленькая квартира, её не разменяешь.
Груди подружек соприкоснулись сосками. Они содрогались от ударов сердец, а губы искали друг друга, желая слить воедино и языки. Каждый поцелуй, каждое робкое покусывание губ давало всплеск эмоций.
Они заснули только после полуночи, когда радиоточка замолчала. Голоса дикторов и невнятный Государственный Гимн. Всё это мешало увлечься друг другом.
И всё же их тела выдавали их с головой. Виолетта принюхивалась к своей однокласснице, а та удивлялась своей способности быть счастливой только от соседства ещё одной голой девушки.
Рейтинг: +1
478 просмотров
Комментарии (1)
| Людмила Пименова # 8 декабря 2012 в 03:47 +1 | ||
|
Новые произведения