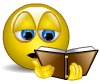Полковник Вселенной-5
НИКОЛАЙ БРЕДИХИН
ПОЛКОВНИК ВСЕЛЕННОЙ
Роман
ГЛАВА ПЯТАЯ
"– Башкин отделяет Сына от Отца, – грозно сверкнул глазами Макарий, – равенства их не признает. Говорит: если я Сына прогневлю, так Бог Отец при втором пришествии освободит меня от мук, а если Отца прогневлю, так Сын меня не избавит.
Артемий чуть заметно повел плечами, спокойно выдержав испытующий взгляд митрополита:
– Матвей ребячье делает и сам не знает, что выдумывает. А в Писании того нет, не писано и в ересях. Знание его шатко, незрело, но почто же не мог отец Симеон его в вере укрепить? Ведь сомнения его не от ереси идут, а от неведения.
Макарий свирепо раздул ноздри:
– Матвей еретик, иначе бы не сидеть ему здесь сейчас перед нами. Вина его достаточно ясна, и нет никаких сомнений в том, что он заслуживает самой мучительной казни.
– Меня вызвали еретиков судить. Судить, а не предавать их казни. Да здесь и еретиков нет, и в спор никто не говорит.
Макарий рассмеялся скрипуче и огляделся, как бы призывая весь Собор Священный в свидетели:
– Как же не еретик Матвей, коли он молитву написал одному Богу Отцу, а Сына отставил?
– Нечего и выдумывать было: ведь есть молитва, написана, Манассии к Вседержителю.
– То было до Рождества Христова, а кто теперь так напишет, тот еретик!
– Но Манассиева молитва в нефимоне в большом написана и говорят ее.
Макарий не вытерпел, ударил кулаком по столу и злобно выругался.
– Если ты виноват, то кайся! – уже закричал он.
– Не в чем мне каяться, – все так же выдержанно ответил Артемий, – я так не мудрствую, как на меня сказывали, все это на меня лгали: я верую в Отца и Сына и Святого Духа, в Троицу Единосущную!
– Зачем же ты убежал тогда самовольно? – Митрополит ехидно улыбнулся и глубокомысленно замолчал, как бы вновь призывая в свидетели Собор.
– От наветующих меня убежал! – пожал плечами Артемий. – До меня дошел слух, будто говорят про меня, что я не истинствую в христианском законе; я хотел уклониться от молвы людской и безмолвствовать.
– Кто же эти наветующие на тебя? И отчего ты не бил челом государю и нам, не свел с себя навета, а бежал из Москвы безвестно? Вот это тебе и вина. Что же ты молчишь?.."
Крупейников вдруг ощутил в себе то радостное возбуждение, которое всегда охватывало его, когда он бывал переполнен, когда единственным стремлением его становилось – разрешиться от бремени мыслей, распиравших, разрывавших его изнутри.
Он никак не ожидал, что все так просто, думал, что придется долго перекраивать текст, переписывать, а предстояло лишь одно место чуть-чуть расширить, углубить. Не перемещая основного акцента, но показав, с какого момента началось омертвение. Стало меньше пищи уму и усыхать, иссякать стала понемногу Мысль. Всякая Смута начинается в душе, но началась она не тогда, когда было дозволено сомнение, а тогда, когда было принято решение положить сомнению этому конец. Собор 1553-54 годов...
"В лето 7062, в царство Православного и Христолюбивого и Боговенчанного Царя и Государя и Великого Князя, Ивана Васильевича, всея Русии Самодержца, бысть повелением его Собор в Царствующем граде Москве…".
После Стоглава, собора 1551 года, Церковь рвалась взять реванш за поражение, нанесенное ей молодым царем, Грозному же, наоборот, хотелось не только закрепить достигнутые успехи, но и продолжить подчинение церковников свирепой, кровавой своей власти. "...На безбожного еретика и отступника православной веры, Матвея Башкина, и на иных, так же мудрствующих..." "Отступник Матюша" как нельзя более подходил в качестве предлога к этой долгожданной для обеих сторон "сшибке".
"Любовь, яже по Бозе, безумна мя творит", любовь, в той мере, в которой она заповедана нам Христом, обрекает нас на страдание, безумие в сей, земной нашей жизни – эти горестные строки Артемия Троицкого, перефразирующие апостола Павла, в какой степени их можно отнести к Матвею? Что именно: юродство, тщеславие, недомыслие заставило его попроситься на исповедь к священнику Благовещенского собора Симеону? "Пришел на меня сын духовной необычен и многие вопросы мне простирает, все ж недоуменны, многих вещей спрашивает во Апостоле толкования, и сам толкует, толкует, только не по существу, развратно", – поспешил тот доложиться приближенному царя священнику Сильвестру, на что получил недвусмысленный ответ-совет от него: "Не знаю, каков тот сын у тебя будет, а слава о нем носится недобрая".
Действительно, надо было быть либо святым, либо сумасшедшим, во всяком случае точно не от мира сего, чтобы припожаловать с такой кротостью и радостью прямехонько к волку в пасть. Конечно, попы тут же донесли о "сыне необычном" Ивану Грозному, ну а дальше - стоит ли объяснять?
Но почему именно Матвей? Ведь были фигуры покрупнее: Максим Грек, Вассиан Патрикеев. В конце концов, наирадикальнейший среди русских ересиархов Феодосий Косой. Чем этот человек вызвал такое отторжение, если даже потом, многие десятилетия после его смерти, тщательно вымарывались, где только возможно, всякая память, малейшие упоминания о нем? Исчез бесследно ящик № 222 из царского архива, где хранились документы процесса над Матвеем, сгинули и другие, связанные с ним грамоты, акты. Между тем, чем дальше углубляешься в то немногое, что осталось о нем, тем больше сомнений возникает в его еретичестве.
– Почему вы обманули нас? "Не узнали" того человека, который вас завербовал?
– Я и сейчас, наверное, вынужден буду вас разочаровать. У меня нет сомнений: лицо с фотографии даже отдаленно не напоминает человека, о котором вы говорите.
– Да, но, к сожалению, это совершенно не состыковывается с теми сведениями, которые мы имеем. Одно из двух: либо вы осознанно вводите нас в заблуждение, Анатолий Сергеевич, либо где-то в другом месте этой цепочки получается сбой. Подумайте хорошенько, это принципиальный вопрос. Мы ведь пойдем даже на то, что представим вам фотографии всех тех, кто с вами в то время находился в Институте Сербского, и тогда у вас не останется выбора.
– Я готов ко всему. Но мне нечего добавить к тому, что я уже вам сказал.
– Хорошо, ну а как насчет того предложения? У вас было время подумать. Итак, вы с нами?
– Я не могу пока ответить определенно. Слишком много вопросов, в сути которых я пока не в состоянии разобраться.
– Ну, если дело только за этим, я готов ответить на любой ваш вопрос.
– Это очень кстати, не премину воспользоваться вашей любезностью. Для начала скажите: я здесь действительно не случайно?
– Разумеется. Но вы сами себя сюда завлекли. Просто вы надеялись, прикинувшись сумасшедшим, избавиться тем от власти общества, но попали в результате как раз строго по назначению.
– Еще один вопрос: вы сами считаете меня сумасшедшим?
– Смотря по тому, что подразумевать под этим словом. Психически вы совершенно здоровы, с точки зрения социальной – аномалия, то есть имеете все основания считаться свихнувшимся. В чем ваша опасность? Вы и такие, как вы, мешаете человечеству продвигаться вперед. Вы слишком поражены червем сомнения, на вас слишком давит груз прошлого, вас невозможно увлечь тем, что всегда было для человечества мечтой: новое, идеальное, справедливое общество и новый, совершенный человек. Нужна духовная селекция, в результате которой такие люди, как вы, вымерли бы. Но гнилое, мерзкое в человеке, к сожалению, слишком живуче. Оттого мы до сих пор пока не можем с вами и вам подобными справиться. Естественный отбор тут не поможет, нужна целенаправленность, сила.
– Сила – не аргумент для таких, как я.
– Сила – всегда аргумент. Человек – червяк, ничего не стоит уничтожить его физически. Но в одном вы правы, идеи куда живучее, а оттого неизмеримо опаснее, чем сама личность, которая их произвела. И тут как раз важность силы чрезвычайно велика. У нас здесь у каждого свои задачи. Моя задача одна из самых сложных: уничтожать память о человеке, его духовные следы. Есть у нас люди, которые занимаются и куда более важными, сложными вещами: уничтожают мысли, идеи, когда в готовом виде, когда в зародыше. Ну а то, что не удается уничтожить, можно дискредитировать, сдержать или нейтрализовать на неопределенный срок. Это интересная работа, ручаюсь вам – она могла бы занять собою весь ваш интеллект.
– Если я вас правильно понял, в этом "санатории" вообще нет сумасшедших?
– Ну что вы, сколько угодно! Единственная особенность в том, что здесь люди не столько сумасшедшие, сколько помешанные, причем не просто помешанные, а помешанные на политике. Это и позволило одному человеку, работавшему здесь когда-то главврачом создать совершенно уникальную модель. Начал он с того, что стал коллекционировать всякого рода Бисмарков и Наполеонов, затем принялся их между собою сталкивать, дальше – больше, и поехало-пошло. Когда мы обнаружили сей феномен, первым нашим поползновением было прикрыть эту лавочку, но потом мы поняли, какие возможности она нам может подарить, и все оставили как есть. Главврача того мы заменили, но он остался в штате и опыты свои продолжает. Конечно, для высокого начальства это обыкновенная спецпсихушка, трудно сказать, как там, наверху, поступили бы, узнав, чем мы на самом деле здесь занимаемся, во всяком случае, мы не стали рисковать и раскрывать им свои карты. Так что, пока живем, слава Богу. И уж каких только метаморфоз, переворотов мы здесь не насмотрелись! Беда только – некуда опыт этот применить. Но, думаю, когда-нибудь он обязательно понадобится. Главное, впрочем, мы уже выяснили – нет даже особого смысла вникать, чем они там себе забавляются, власть прочно находится в наших руках. Ведь по большому счету у власти всегда находится Мысль, а Мысль здесь не просто наша, она нами надежно контролируется и охраняется. А значит, можно при желании пойти на любые попустительства, ничто нам не угрожает, мы еще долго рассчитываем жить и процветать. И вот появляетесь вы, Анатолий Сергеевич, – бомбочка, которой здесь еще не бывало. Вы представляете собой другую Мысль, которую вполне можно нашей противопоставить и даже - не исключено, – нашу Мысль ею сокрушить. Что же нам делать, подумайте? Нам нужно вашу Мысль обуздать, приспособить, сделать из нее хороший кнут. Какой еще может быть выход? Ну а дальше – и того проще: кто не с нами, тот против нас, враг Нового человека и Нового общества должен быть либо обращен, либо уничтожен. И бесполезно пытаться от нас где-нибудь укрыться, возможности наши безграничны. Кстати, того человека, фотографию которого вам показывали, давно уже нет в живых. Иначе бы я им не занимался. Как я вам уже говорил, моя область – исключительно стирание памяти о человеке, но ни в коем случае не преследование или уничтожение его. Это обстоятельство делает еще более бессмысленным ваше запирательство.
– Это был не он, я точно знаю.
– Жаль, очень жаль. – Дюгонин замолчал, потом продолжил задумчиво: – Напомню еще раз – если это ошибка, то вся огромнейшая машина набросится на ее проверку и исправление. Но если вы осознанно вводите нас в заблуждение, вся эта машина навалится потом на вас. Я не угрожаю вам, Анатолий Сергеевич, но вы должны четко отдавать себе отчет в том, на что вы идете. Точнее, на что себя обрекаете.
– Эх, Саша, так я тебе завидую, что ты к страстишке этой глупой – "пить табак", как в старину говаривали, не приохотился, хотя, помню, баловался! А у меня от того славного времени "великих свершений" две привычки неистребимые – "плебейские", по выражению твоей тещи бывшей, остались: курю только папиросы – хотя разве найдешь сейчас "Казбек" хороший! – да вот футбол еще. Ну, футбол-то, Бог с ним – все давно привыкли, а вот зелье это Колумбово – сколько ни бросал, ничего не получается. Ну да что я тебе рассказываю, на твоих глазах все происходило, а в моем возрасте люди уж не меняются.
Лев Аркадьевич выглядел на сей раз непривычно взвинченным, нервничающим. Крупейников сразу понял, что разговор предстоит весьма серьезный, но не стал юлить, выманивать тестя из норы, наоборот, пошел даже Усольцеву навстречу.
– И еще эта курилка наша, – поддакнул он, усмехнувшись, – где почему-то женщинам положено курить вместе с мужчинами как раз перед дверью мужского туалета.
Тесть благодарно улыбнулся за эту протянутую ему руку помощи:
– Да, тоже фактор... Но главное, понимаешь – никак не могу себя пересилить: как какой-нибудь разговор важный или место трудное в тексте, рука сама собой к пачке тянется.
– Так что, ругать будете? – отбросил в сторону усмешку Александр Дмитриевич.
Ну а чего он ожидал, собственно? Не восторгов же телячьих! Сам и напросился. Но он ни о чем не жалел. Тесть был и остался объективным человеком. А сейчас как нельзя кстати было взглянуть на себя со стороны.
– Я ведь тебе ничего нового не скажу, Саша, – тихо проговорил Усольцев, – да и здесь, в нашей незабвенной "Историчке", по-настоящему и негде на подобные темы поговорить. У всех не уши, а просто локаторы. Ладно, ты не пойми, что я за себя боюсь – ведь для многих ты до сих пор еще лишь бывший зять Усольцева. Ты сам по себе, сейчас гласность, открещиваться от тебя, а уж тем более – громить, осуждать, с моей стороны было бы дико, но и поперек себя пойти я тоже не могу… А ты подумал о своей докторской? Ну если тебе так приспичило запечатлеть свои гипотезы, так хотя бы до защиты с ними повремени. Ты еще молод, год-два – не срок для тебя. Я же тебя постоянно курирую, знаю все твои работы, нигде нет даже малейших признаков безрассудства, все достаточно – именно достаточно - смело и в то же время ничего, что называется, поперек такта. Ну разве что те твои статьи о психушках, но там не история, там политика, политикам и судить. А здесь ты коснулся слишком больных тем. Да, многие того же мнения, что большей частью история средневековья нашего, да и потом надолго, чуть ли не до Петра, со свидетельств иностранцев списана, в то время как есть другие источники, непосредственно русские: посольские грамоты и прочая и прочая. Даже того, что в архивах имеется, но до сих пор не обработано, достаточно, чтобы многое в наших представлениях о себе изменить. Но кому это нужно – такие перемены? И зачем столь широко возвещать о них? Не лучше ли в том же направлении, но без победных фанфар, тихой сапой продвигаться? Глядишь, постепенно привычное и изменится. Ты помнишь, как Корин поступил? Он всю жизнь писал одну только картину - "Русь уходящая", но понимал, что вещь такую сразу воплотить ему никто не даст, вот и создавал ее по частям, чтобы потом неожиданно явить одно целое. Тактика оправдала себя, почему бы и тебе подобным путем не последовать?
– Ну тогда было время другое, – поморщился Крупейников. – Сейчас-то зачем такая партизанщина, чего, кого бояться?
– А вот сейчас-то и надо бояться! – в горячности замахал руками Усольцев. – Ты, Саша, видимостью не прельщайся – это зряшное занятие. Сейчас история никому не нужна, сейчас главенствует во всем политика! А если история ли, экономика ли, нравственность – да что угодно! не сдаются перед политикой этой самой... их попросту уничтожают! Да-да, не смотри на меня так скептически, тебе ли не знать: прошлое столь же ранимо, как будущее или настоящее. И уж отнюдь не бессмертно. Ничего нельзя изменить в настоящем, не изменив сначала представлений о прошлом, поверь на слово! Вот начали мы себя в грудь бить, каяться, охаивать, с грязью смешивать то, что поколениями до нас сделано, и что же? Скоро, в самом ближайшем времени, жди результат. Сейчас все к покаянию призывают, а забыли, что покаяние-то – оно ведь не унижение, а очищение. Да, собственно, в чем я тебя убеждаю? В том, что тебе и самому прекрасно известно!
Крупейников вспыхнул.
– Так! И что ж мы, уже между собой стали юлить, ходить вокруг да около? Для чего подобное нужно? Вы ведь, Лев Аркадьевич, прекрасно знаете, для чего! Если не вызвать интерес, внимание к сей проблеме, то все эти запечатанные кубышки с необработанными и недоступными даже для нас с вами первоисточниками еще на несколько лет так и останутся в неизвестности. А они именно сейчас нужны, чтобы зрячими, а не на ощупь пробираться нам в то непонятное, что мы сейчас выбрали. Это же песня наскучившая, будто ничего светлого у нас нет за душой, и заграница – единственное, что может нас спасти. Тыкать нас носом в Древний Рим с его заезженным vox populi, как будто ни Византии, ни Русской правды, ни даже Московии вообще не было.
Усольцев вздохнул и поцокал языком скептически:
– Эх, Саша, Саша, да неужели ты веришь, что доступ к этим источникам когда-нибудь откроется?
Крупейников пренебрежительно фыркнул.
– А какие же тут трудности? Это ведь не где-нибудь на дне морском, один росчерк пера – и беги, занимай очередь.
Усольцев наморщил лоб, почесал затылок:
– Давно я тебя знаю, Саша, а наивный ты человек! Только помяни мое слово: когда те кубышки откроются, выявится, что там пусто – пыль одна, пшик, и когда опустело, никакой Шерлок Холмс не разведает! Было да быльем поросло, да и было ли? Просто обычные слухи, мол, надо чем-то зад голый прикрыть, вот видимость тайны и создавалась. - Он помолчал, затем тронул руку насупившегося бывшего зятя. – Что, я не прав? Обиделся?
– Да чего обижаться, – пожал плечами Крупейников, – тема известная. И больная, конечно. Но ведь и я... прав. Не обижаетесь на меня, надеюсь?
Усольцев крякнул с досады, снова замолчал, надеясь, что Крупейников опять, как в прошлый раз, придет ему на помощь и сам возобновит разговор. Но Александр Дмитриевич на сей раз замкнулся, потеряв последние остатки интереса к беседе.
– Ладно, давай уж до конца, – как в омут с головой бросился Лев Аркадьевич. – По всем законам одной спорной мысли более чем достаточно для одного произведения, но ты пересаливаешь, Саша, определенно пересаливаешь. Ты ведь не журналист-авантюрист, ты ученый. Не буду брать Башкина, тут до тебя Голубинский, Костомаров, Зимин, Калибанов тот же, высказывались о нем достаточно объективно, уже без очернительства, и ты просто выбираешь достаточно широко известную точку зрения. Но вот с Артемием как? Одно, если бы ты только личности этого человека коснулся, и здесь нет никакой революции, хотя официальное-то мнение о нем тоже хорошо известно. Вот тут я тебе между страниц выписку положил, ты об нее сто раз уже, наверно, спотыкался, из преосвященного Макария, шестого тома его "Истории русской церкви": "Рассматривая внимательно одно то, в чем сознался Артемий, мы должны сказать, что он хотя веровал в Пресвятую Троицу и не был еретиком, исповедовавшим какое-либо определенное еретическое учение, но он любил вообще повольнодумничать о священных предметах веры и хотел казаться, как ныне выражаются, либералом и на словах и в некоторых действиях: что этим своим вольничанием, если бы оно ограничивалось даже тем немногим, в чем он сознался, он не мог не оказывать вредного влияния на православных, особенно людей простых и что Артемий осужден поэтому не неповинно, а ссылка его в Соловецкий монастырь была мерою благоразумною, если не необходимою". Ну, как тебе такой перл?
Крупейников уже не мог сдерживаться, он не на шутку разозлился. Хотя старался не повышать тона. Но со стороны они уже все более похожи становились не на двух беседующих коллег, а на каких-то махровых заговорщиков.
– Я допускаю – можно лишить священника духовного сана за то, что он в Великий пост ел рыбу во время царского застолья, но из философов-то разжаловать никому не дано человека!
– Так, так, – закивал радостно Усольцев. – Вот и я о том же. Опять ты – террорист-одиночка. Не понимаешь, что все общество давно уже гуртом из одной крайности в другую кинулось: раньше атеизм был, теперь поповщина. Что ты хочешь, чего добиваешься? Тебе и теза указана, и антитеза открыта наконец: Соловьев, Флоренский, Хомяков – хоть объешься. А ты что? Ты опять невпопад! Говорят тебе: не было в средние века на Руси философов, кроме сугубо церковных, естественно. А ты за свое: Нил Сорский, Артемий Троицкий и иже с ними, так и сыплешь. Ну именами бы и ограничился, опять повторю, зачем в дебри-то забираться? Тем более, что самое слабое место твое – издание-то популярное и ты свою трактовку обстоятельным разбором не имеешь возможности подкрепить, вот и болтаются Бог знает где твои рассуждения. Ладно, один только пример приведу, дальше сам как знаешь: вот ты вытаскиваешь из запасников на свет божий учение Артемьево "о деянии креста, покаянии, смирении, безмолвии, страдании и молитве", ну и для чего, для кого, скажи? Церкви оно уже четыреста с лишним лет как бревно в глазу, а если просто людям, то к чему ты их подвигнуть хочешь: к ереси, к расколу какому-нибудь очередному новому? Эх, Сашка, учу я тебя учу, а не в коня корм: того ты не поймешь, что у всех стран история как история – все там у них исхожено, обихожено, к каждому кусту бирочка прикреплена, по всем вопросам мнения давно определены, по каждой версии десятки томов исписаны, а у нас история, как змея гремучая: за какую ниточку ни потяни, все оказывается, на поверку, бикфордовым шнуром к какой-нибудь мине здесь, в современности. - Он вдруг расхохотался. – Ладно, Сашок, давай мириться.
Крупейников еще с минуту стоял с нахмуренным лицом, затем осознал наконец всю нелепость своего поведения и улыбнулся.
– Да, увлеклись мы, пожалуй.
– Ты пойми – так сказать, резюме нашего спора, – решил все-таки до конца прояснить положение Лев Аркадьевич, – что я по многим вопросам с тобой солидарен, да и вообще сгустил краски. Там у тебя лишь в общих чертах упомянуто, намеки, не больше. Как говорится, умный не поймет, дурак не догадается. Но все хорошо, если ты этим ограничишься, на этом остановишься. А если останавливаться, то опять же зачем намекать? Непонятно. Совсем непонятно. Как дочка, кстати?
Крупейников с удивлением посмотрел на тестя. Первый раз и с чего бы вдруг он коснулся этого вопроса?
– Все нормально, набирается сил потихоньку.
– Что ж, я рад. Действительно рад. Мы как-то о таких вещах не говорили, но я не хочу, чтобы у тебя создалось впечатление, будто я на тебя обижен за что-то. А то ты совсем перестал появляться у нас, даже о таких серьезных и интересных вещах вот где разговаривать приходится. – Он придвинулся поближе к Крупейникову и лукаво прошептал ему: – Не верю я в эту гласность, ни на грош не верю! Поганым, нечистым духом от всего, что с ней связано, так и несет. Излюбленная тактика: цвет нации в полный рост поднять, да в очередной раз под корень выкосить. - Он помолчал, затем вновь вздохнул. – Ты знаешь, что самое страшное, Саша? До меня только дошло, что я разговаривал сейчас с тобой как с совершенно незнакомым человеком, какие-то прописные, избитые истины изрекал, забывая, что тебе и так ведома большая часть из того, что я тебе с такой напыщенностью тщился преподнести. Что это, возрастное? Старохренизм, синдром старого хрена, как я это называю? Или я просто отвык от подобного, глубокого общения? Взять хотя бы жениха этого нового Зоиного... Скользкий тип. Совсем не то, что с тобой было. Но такое время, наверное. Даже в семье достает, самых близких людей разъединяет, между ними втискивается.
– Жених? У Зои?
– Да, – кивнул Усольцев и тут же спохватился, не сболтнул ли он чего лишнего. – А ты не знал разве? Я, грешным делом, думал, что ты из-за него и перестал нам звонить.
– Нет, я первый раз эту новость слышу, – развел руками Крупейников, действительно ошарашенный. – Но я рад за нее. Будем надеяться, что и она наконец счастье свое встретила.
– Дай-то Бог, – вздохнул тесть. – Только не очень-то верится.
| 0 # 5 октября 2012 в 16:59 0 | ||
|
| Николай Бредихин # 5 октября 2012 в 19:39 +1 | ||
|
| Николай Бредихин # 7 октября 2012 в 10:51 +1 | ||
|