ПЛЕВАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА. (Глава вторая).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Горный кишлак на границе Афганистана с Пакистаном.
1985 год. Где-то примерно 15 мая.
…вначале ему хотелось просто умереть, приложив для этого все усилия организма, чтобы и разум устал повиноваться, и кровь застыла в венах, а сердце просто взяло и остановилось, перестав биться. Вначале было очень больно, но потом эта жгучая боль стала медленно утихать, даже рана на бедре вроде бы затянулась, зарубцевалась, и лишь отливала грязноватой синевой сквозь рваную тканину солдатского хэбэ.
Первое время Илье казалось, что прошла целая вечность, хотелось забыть какой сейчас год, месяц, день, но он не мог себе этого позволить. И методично день за днем выцарапывал осколком камня черточку за черточкой на скалистой поверхности ямы. Сейчас главное – память, это основа всего, это самое главное. И если она и подводила, то ненадолго, тогда, когда он забывался от очередного приступа боли и терял сознание.
И мухи надоели, не было просто мочи переносить их бесконечное жужжание и беспорядочное мельтешение. Вроде бы бьешь, лупишь их без конца, а их становиться все больше и больше, как назло. Но потом Илья смирился и с их жужжанием и мельтешением, и даже с тем, как эти подлые твари усаживались на него стаями и суетливо впивались маленькими жадными ртами в кровоточащее тело. Наступала какая-то апатия. И словно с этим в неизвестность уходило всё происшедшее с ним пару недель назад. Но за этой неизвестностью с каждым новым часом, с каждой новой минутой, секундой, мгновением вырастала непримиримая стена ненависти и злобы ко всему, что его теперь окружало.
Издревле известно, что любовь делает человека лучше, чище, возвышает его, делает умнее и гениальнее, но сейчас Илья просто был лишен этого светлого чувства, а вот ненависть, наоборот, принижала его, притупляла разум, и в его душе последовательно отмирало всё, что когда-то принадлежало миру добра и света. Сейчас эта ненависть переполняла всю его сущность, и в любой момент готова была вырваться наружу, если б только на это у него хватило сил и духа. Но силы были практически на исходе – от ранения и отвратной пищи, которая не лезла в рот и отброшенная подальше в угол догнивала, распространяя рвотный и гнилостный запах по всему колодцу ямы.
И духом Илья пал – помощи ждать неоткуда. Если б он был на контролируемой войсками территории, то шанс вырваться из этого мешка, возможно, и появился: или ребята после очередной зачистки освободили, или он, если б представился удобный случай, сумел бы воспользоваться беспечностью «духов», да мало ли чего могло произойти. Но здесь, куда занесла его нелегкая, шансы были сведены фактически к минимуму – ради одного солдата, уже, может, причисленного к мертвым, никто рисковать не станет. Зачем? Он для Родины, прежде всего, был одним из многих, чей удел – воевать и умереть во славу призрачных идей и чьих-то неуемных амбиций. С подобными ему, а точнее, оказавшимися в данной ситуации, и обходятся без излишних церемоний. Возможно, помянут в эпитафии добрым словом, в лучшем случае наградят посмертно какой-нибудь медалькой или орденом, и все. А вот родным и близким действительно - горе.
Трудно представить, во что превратила его эта бессмысленная война – в кусок мяса, который вряд ли, если и останется в живых, сможет заниматься чем-нибудь другим, кроме того, что научился здесь – убивать, убивать, убивать. Теперь Илья не мог уже представить себя другим, тем, кем он был раньше, давно в той далекой и сейчас такой нереальной жизни. Его нравственные убеждения, видимо, достигли своего, как говориться, апогея, но здравый смысл этого апогея оказался ничтожен по своим масштабам и прихотям с масштабом государственного безумия. Каково это быть безумным среди безумных? Хотя можно жить с этим и не замечать. Быть как все. Ну и что, что голова уже не подлежит восстановлению, что весь смысл бытия как бы утрачен, что ужас, страх и боль постепенно уничтожили в нем все лучшее, заложенное с детства природой. Еще немного и он утратит равновесие, и потом непонятно в какую сторону сместятся добро и зло, и кто победит на этот раз. И тогда обратного пути не будет: ему станет отвратным все живое вокруг.
Вначале было жарко, эта проклятая жара просто сжигала все внутри, но и не только – она снаружи просто обжигала и рвала в клочья обветренную кожу. А потом Илью и вовсе бросило в дрожь, и ему с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее. Мерзкий колотун сотрясал все тело, зуб на зуб не попадал - так его лихорадило. А затем опять было жарко, а потом опять – холодно. И эти непонятные состояния жары и холода стали меняться с такой быстротой и однообразностью, что вскоре он перестал ощущать даже их. Илью накрыла такая пустота безразличия ко всему, что его уже больше ничего не радовало, и даже обжигающая ненависть и злоба растворились в этой пустоте.
Неведение угнетало, подавляло. Илье даже захотелось, чтобы его били, терзали, издевались. Тогда предельно было бы ясно, зачем он здесь и чего от него хотят. Но его не били, с ним даже не разговаривали. Лишь только в определенное время хмурый бородач в черной чалме спускал на обрывке веревки курдюк с водой и кое-что из еды, каждый раз сопровождая этот затасканный до примитивизма ритуал смачным плевком в его сторону.
И каждый раз Илья вздрагивал от этого плевка, словно боясь, что мерзкая, вонючая слюна коснется его израненного тела. И вот тогда он действительно будет уничтожен, сломлен морально и физически. И всегда каждый раз вздыхал с облегчением – плевок или не долетал до цели, или разбивался о стену, потом медленно и тягуче стекая вниз по серым камням.
Илья не понимал: зачем его держат? Зачем вот эта жестокая бессмысленность? Почему так? Ведь он человек, как и они. Допустим, он для них гяур, неверный, и враг, пришедший с оружием на их древнюю землю, но ведь он, прежде всего – человек. И имеет полное право на солнечный свет, чистый воздух, чистую воду и на свежий хлеб. А сейчас он лишен даже этих небольших человеческих радостей. Лишен. И бессмысленная неопределенность постепенно убивала в нем все человеческое.
Господи, за что? Неужели это возмездие за то, что он взял в руки оружие? Но почему именно ему досталась эта участь? Почему Господь не покарает тех, кто послал его в это пекло, не воздаст по заслугам разным там генералам и политикам? Или он, властитель душ наших, считает, что те тут не причем. Мол, это не они нажимали на курок, а ты. Ведь, ты в принципе мог и отказаться, сказать уверенно свое решительное «нет». О, ему легко рассуждать о вечности, сидя там, на небесах, в райских кущах. Да и вряд ли Ему дано осознать, что здесь, на Земле, его вселенский и мудрый закон «Не убий» не действует, потому что обычная тупая воинская присяга оказывается превыше этого закона. И не потому, что эта присяга как-то особенно умна, а потому, что правильна, с точки зрения кучки спившихся маразматиков-генералов, узаконена государством и возведена в ранг высшей премудрости. И ослушаться её нельзя, ибо это ослушание вызовет ряд нежелательных проблем тут, на земле. А до божьего суда, ох, как далеко, как до самого Господа Бога. Да и когда он еще будет этот божий суд? – после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет, или когда его бренные останки обраться в тлен, а душа сгорит в пламени ада.
Разве он хотел убивать? Разве желал этого? Нет! Все произошло как-то само собой. Раньше Илья был уверен, что убийство – это когда к этому тщательно готовишься, планируешь, подсознательно настраиваешь себя на определенное действие и в принципе готов его совершить, неважно, как и каким способом. Ему же просто дали в руки автомат и приказали стрелять, не указав точной цели, но, четко дав понять: если не ты выстрелишь первым, то тогда выстрелят в тебя. Да, Илья не хотел убивать первым, и Господу это известно. И только Создатель один вправе осудить его за то, что он совершил. Только Создателю решать, виновен он или нет. Это Господа прерогатива. А любой человеческий суд над ним уже изначально неправеден, лишен здравого смысла, ибо людям не дано осуждать деяния себе подобных, и тот, кто берется за непосильное бремя вершить справедливость, сам невольно становиться участником этого преступления.
Вот и те, кто засадил Илью в эту зловонную яму (назвать ямой выемку в скалах и сверху прикрытую грубой деревянной решеткой можно только с натяжкой), сами, того не осознавая, помимо своей воли, наравне с ним, вдыхают те же смрадные запахи. И душу свою черную, как и он, наполняют не только неутихающей болью, но и безысходностью, безразличием и пустотой. И даже, находясь вне ямы, не лишая себя солнечного света, чистого воздуха и мелких радостей существования, они, естественно, не могут прочувствовать, как не могут на своей шкуре ощутить всю мерзость этого заточения, как их пленник. Но, как бы то ни было, морально и нравственно они каким-то образом неотделимы от своей жертвы. Ведь жертва и её палачи повязаны незримо единой нитью мироздания. Так было всегда, так есть и так будет, пока существует этот мир, где безумие оправдано законами существующей системы и религиозным фанатизмом.
Внезапно размышления Ильи прервал мерзкий скрежет открываемой решетки. Хилые потоки света осторожно скользнули в полумрак ямы, немного осветив её, и тут же, разрывая в клочки вязкий воздух, вниз стала опускаться грубо сбитая лестница. Гортанный грубый окрик был яростным призывом подниматься туда, наверх, к солнцу, и Илья, уже заранее радуясь, происходящим переменам, стал медленно, цепляясь на грубые узлы и стараясь не закричать от боли, подниматься.
Каждое движение в нем отзывалось адской болью, с непривычки закружилась голова, но он, невзирая на это, одержимо карабкался вверх – так надоела смрадная яма. Все-таки они варвары эти разные там афганцы, пакистанцы и им подобные народы восточного типа. Уж, правда, сказано: «Восток – дело тонкое». Любят здесь на Востоке с утонченной жестокостью издеваться над поверженным врагом. А уж в разнообразии пыток тут просто нет равных, возможно, оправдывая мерзость своих поступков карающей дланью Аллаха. И тогда напрашивается вопрос: если их Аллах дозволяет такое, тогда в чем его божественная сущность? Неужели в насилии? А может, в нетерпимости к другим народам? Или это всего лишь целенаправленная энергия вершить зло, как бы отделяя его от добра, реальным действием? А может, всё проще простого – и высокие материи тут не причем. Дело всего лишь в подчинении этого народа любой грубой и злой силе, и в их беспросветной способности тянуть жизненную лямку, в которую были впряжены с самого рождения и из которой их освободит только смерть. В том, что бедность и нищета…
Дальше развить эту мысль до конца Илье не дал сильный и властный рывок, выдернувший его наружу. И он взлетел вверх, легкий, как пушинка, столь стремительным был взлет, и как обыденным падение. Илья рухнул зловонным куском мяса в рыжую пыль, и тут же зажмурился от яркой вспышки света: огромное, раскаленное солнце – злой, кровавый шар - глянуло ему насмешливо в глаза. В голове словно взорвалась маленькая атомная бомба, растекаясь по всему телу мириадами убийственных осколков.
«Вот и всё, - подумал Илья и посчитал, что лучше ему теперь вообще не шевелиться, не открывать глаза. - Пускай убивают так. В конце концов, какая разница, принять смерть, стоя на ногах и глядя своим убийцам прямо в глаза, или же получить несколько граммов свинца, скорчившись в форме эмбриона, словно ты опять в чреве матери и, наконец-то, волен в своем выборе – появляться на этот свет или повременить до поры до времени. Но и там, внутри себя, своего непробиваемого для других кокона, то же не жизнь – слизкая, мерзкая, - она скоро надоест. Умереть – чего проще. Но что я знаю о смерти? Абсолютно ничего. Умереть уже не боюсь, но страшно умереть так, неизвестно где, в безвестности, как собака у ног грязных духов. Но к смерти нельзя вот так взять и привыкнуть – не своя она сестра. Злая мачеха – вот кто! Да и умирать молодым как-то неестественно, ведь душа ещё не успела подготовиться к уходу. Хотя я знал, что это должно было когда-нибудь случиться, настраивал себя на нужный лад, но я ещё не готов. Я не готов! Я хочу жить. И пока я живу – смерти вроде бы и нет. Это когда умру – тогда это будет уже неважно – смерти как таковой просто не станет, она исчезнет. Будет только потом единственный миг умирания плоти. А душа моя уйдет куда-то в не изведанные дали. И это будет уже не страшно, словно произойдет случайная потеря надоевшего так мне мира. А там, в неизвестности, возможно, родиться совершенно другой мир, новый, совсем не похожий на этот, потому что в нем будет много добра, света, любви, где люди не будут убивать друг друга. Так стоит ли сожалеть об утрате, о собственной боли и страданиях. Старый мир уже умирает для меня. И я должен с ним расстаться без сожалений, не унижая свою израненную душу. Я должен заглянуть своим палачам в глаза, рассмеяться им прямо в лицо и плюнуть в их наглые душманские рожи».
Илья открыл глаза. Солнце било уже не так резко и зло, оно даже показалось ему каким-то добрым, ласковым, что к нему просто хотелось протянуть руки, сбросить с себя, провонявшую потом и кровью одежду и подставить теплым, спасительным лучам ослабшее тело. И он бы сделал это, не колеблясь, но рассеянным взором, словно сквозь пелену тумана, уловил, что здесь он не один, больше того - их было несколько.
Два бородатых мужика в ворохе блеклых, вольно висящих хламид возвышались над ним, о чем-то ожесточенно споря, гортанно, переливчато, с руладами, словно пели. А чуть поодаль, в стороне стоял, широко расставив ноги и беспечно и заложив руки за спину, третий – европейского типа, высокий, худощавого сложения мужчина, с рыжей всклокоченной бородой, делавшей его похожим на афганца, в черных солнцезащитных очках, каким-то чудом висевших на кончике его курносого носа. Мужчина был в черной чалме с заброшенными за спину концами, в холщовой, широкой рубахе навыпуск поверх таких же холщовых штанов, и в упор и, казалось, насмешливо смотрел на него, на то, как он тщетно пытался приподняться в полный рост и удержаться на слабых негнущихся ногах.
Вволю налюбовавшись его бессилием, мужчина спокойно, с явным превосходством и достоинством выкрикнул в сторону бородачей несколько гортанных фраз речитативом, и те, вмиг прекратив препираться и, не раздумывая долго, резко схватили еле державшегося на ногах пленника с двух боков под мышки и потащили куда-то. Вряд ли бы у Ильи хватило сил на сопротивление - оставалось только подчиниться. А ещё очень хотелось пить, не просто пить, а окунуться в чистую прохладу водоема, омыть глаза и губы, все тело, сродниться с этой прохладой, испытывая неземное наслаждение…
Тащили Илью недолго, всего лишь несколько метров, а потом бросили под какой-то навес и ушли. Он остался один, но ненадолго. Рядом послышался быстрый и легкий топот ног, и перед ним возникла худенькая фигурка женщины. Женщине было где-то под тридцать, это он определил по рукам, маленьким, шершавым, с множеством вен на смуглой коже. В этих руках она держала плоский медный сосуд до краев наполненный водой. Женщина была в долгополом грубоватой пряжи платье, а её голову покрывал какой-то странный балахон в виде паранджи, оставляя открытыми только глаза, серьезные и усталые. И эти глаза, казалось, жили какой-то своей другой неизвестной жизнью отдельно от женщины.
Женщина поставила сосуд на землю, а потом принялась аккуратно, стараясь не причинить ему боль, снимать с него одежду, то есть то, что можно было ещё назвать одеждой. Илье стало невыносимо больно, но он старался не закричать, стискивая зубы, терпел даже тогда, когда женщина легко, без особых усилий достала пулю, а потом промыла рану на бедре. Он не стыдился своей наготы – тут не до церемоний, да и женщину скорей всего не смущало его ни на что не пригодное тело.
Он не ощущал её рук – боль отбила все чувства прикосновения, а так же притупила зрительную восприимчивость: сквозь пелену он видел только маленькие босые ступни ног, изредка выбивавшиеся из-под балахона старенького, относительно чистого платья, и сосредоточил на них все свое внимание. И от этого ненавязчивого лицезрения ему сделалось как-то легко, даже радостно. Что ж, все ни так уж и плохо – жизнь продолжается. Если его мучители решили привести его в порядок, значит, им он зачем-то нужен. Значит, о смерти говорить ещё рано. И на этот раз безносая старуха с косой оказалась явно в пролете. Зря она суетилась в последнее время, нагоняя на него страх своим беззубым оскалом – не получилось. То-то, наверное, сейчас она рвёт и мечет, и, возможно, вскоре отыграется на ком-нибудь другом, кто в этот момент окажется вдруг поблизости. Свято место пусто не бывает – нища, предназначенная для этой цели, должна быть заполнена вовремя. Таков закон природы, и против этого закона не попрешь. Такова диалектика бытия.
А женщина молчаливо и сосредоточенно делала свое нехитрое дело, в её непритязательных жестах не было и тени агрессии к нему, не ощущалось даже внутреннего безразличия – её движения были просты, естественны, заботливы. Наверное, для неё он не был тем врагом, душителем её народа, а просто несчастным мальчишкой, который и сам, не сознавая того, стал жертвой этой бессмысленной войны за всеобщее благоденствие. Так, возможно, она нянчилась бы и со своим младшим братом или мужем, окажись те в подобной или близкой к этой ситуации, но скорей всего она просто не вышла, несмотря ни на что, из того состояния, когда забота о другом человеческом существе всегда превыше любых амбиций. И, наверное, благодаря только такой терпимой и бескорыстной доброте, добро всегда будет сильнее зла.
Вскоре Илья был в полном порядке, а точнее, обмыт, рана обработана и сверх нее была наложена повязка с какой-то приятно пахнущей мазью, на тело женщина натянула просторную домотканую рубаху серого цвета и такие же просторные штаны – и он тоже внешне стал похож на афганца. Довольная проделанной работой, женщина вдруг щелкнула языком, ему даже показалось, что её строгие и печальные глаза озорно улыбнулись, и, собрав в сосуд остатки его одежды, собралась уходить.
Илья разжал спекшиеся губы и хрипло выдавил из себя еле слышно:
-Ташакор, - и закашлялся, сотрясая громким кашлем свое тело.
На эти давшиеся ему с таким трудом слова благодарности, женщина обернулась резво, словно ожила, сделала медленно шаг навстречу, словно не решаясь, а потом вдруг присела на корточки и певуче произнесла:
-Наш шума чис, шурави?
Из всего вылившегося на него каскада слов прежде до этого молчаливой азиатки он понял только «шурави» - так их, советских солдат, звали афганцы, - и он не знал, что сказать в ответ. Женщина, видимо, поняла это и, коснувшись рукой своей груди, слегка зардевшись, вымолвила:
-Махтуба, - а потом этой же рукой прикоснулась к нему.
Касание было легким и приятным, но даже и без этого жеста он успел сообразить, что она хочет знать, как его зовут. Снова с трудом разжимая губы, он выдавил из себя:
-Илья…
-Алиья, - произнесла вслед за ним женщина, а потом повторила ещё раз, но уже певуче, смакуя каждую букву. – А-л-и-ь-я! – и тут же переиначила на свой лад. – Али?
Он заметил в её глазах какой-то странный проблеск, то ли радости, то ли удивления, возможно и то, и другое. А впрочем, какая разница. «Али» так «Али». Он был не против. Если ей нравиться так его называть – пускай называет. В любой стране свои нравы, понятия и особенности, возможно, даже и имена становятся основной частью местного колорита.
Махтуба, возможно, хотела ещё что-то произнести, как вдруг рядом раздался гневный гортанный окрик. Женщина вздрогнула, моментально вжав голову в плечи и потупив взор, схватила свой плоский сосуд, вскочила и, быстро перебирая босыми ногами, исчезла за глиняной, горчичного цвета стеной, осторожно прошмыгнув мимо высокого мосластого бородача, одного из тех, кто вытащил его из ямы. А может, это был кто-то другой – уж больно они похожи друг на друга, эти чертовы азиаты.
На этот раз Илья шел сам, медленно, спотыкаясь, иногда падая и с трудом вставая на ноги, а потом опять брел и падал, и снова вставал.
Слава богу, путь на голгофу был недолог, и закончился он у какой-то низкой саманной постройки с деревянной, решетчатой дверью, подле которой сидело двое страшного вида охранников с автоматами. На появление «шурави» в новом и привычном для их глаз прикиде один из них тоненько рассмеялся, скаля белоснежные зубы, и что-то весело пропел. За то другой, перетянутый патронташем, резво вскочил, напрягся всем телом, скулы на его лице затвердели, и он, наставив на Илью «калаш», что-то зло и гортанно проголосил.
Сопровождавший Птаху моджахед вовремя успел перехватить, направленное оружие, вырвал его, как пушинку, из рук басмача и осадил того добрым ударом в грудь. Все это он проделал, молча, и властно. Такое проявление силы в раз охладило разошедшегося не на шутку «духа» и тот затих, но из-под сбитой набок черной чалмы Илью ещё долго буравили злые и жестокие глаза двадцатилетнего парнишки.
В саманной постройке стоял полумрак, свет попадал внутрь от небольшого овального окошка и рассеянно расстилался по сухим, без единой трещинки стенам и плотно утоптанному, чисто подметенному земляному полу.
«Почти, как в яме, - подумал Илья, - только не так смрадно, и пахнет вроде бы приятно табаком. Давно я не курил».
Распространял запах дорогого табака рыжебородый дылда, сидевший за сколоченным из грубо обтесанных досок столом на такой же допотопной лавке, поверх которой лежало что-то наподобие полосатого пледа, и курил, медленно затягиваясь, сигарету. Увидев вошедших, он снял солнцезащитные очки, хотел было положить их на стол, но потом вдруг передумал и бережно навесил их на отворот рубахи. Дальше вальяжным жестом он дал понять застывшему на месте, как изваяние, моджахеду, чтобы тот прогулялся где-нибудь неподалеку – тот безропотно подчинился.
«Надо же, какая дисциплина. Какое слепое подчинение. За время, проведенное в этой чертовой стране, я успел убедиться в яростном фанатизме этих долбаных афганцев, в их стремлении быть независимыми в любой ситуации. А тут на тебе, любое приказание этого чужестранца исполняют без лишних вопросов. Даже становится интересно».
-Нow do you feel? – раздалось из-за стола, но не услышав в ответ ничего на свой вопрос, дылда высказал эту же фразу на чистейшем русском языке, правда, с легким незначительным акцентом. – Как вы себя чувствуете?
Первую фразу, сказанную по-английски Илья понял сразу, не так это было и трудно – в свое время он неплохо «спикал» по-энглиш, «англичанка» была просто в отпаде, - но вида не показал. Пускай этот америкашка - а то, что это был стопроцентный американец, он не сомневался – подергается, пытаясь найти с ним общий язык. Что делать французу или какому-то итальянцу в этой дикой стране? Правда, на подобное способны были ещё англичане, но их время давным-давно прошло, показали им тут кузькину мать, а вот американцы похоже ещё не сунули сюда, как следует, свое капиталистическое рыло.
Но, как только рыжебородый заговорил на его родном языке, Илье ничего не оставалась, как начать приспосабливаться к действительности. Выбраться из ямы ещё не значит обрести реальный шанс остаться в живых, одно неосторожное слово, движение – и весь этот кошмар может повториться снова.
-Спасибо, уже намного лучше, - проговорил Илья, стараясь быть вежливым по мере возможности. Как не крути, а, скорей всего, это благодаря американцу он не томится сейчас в смрадной яме, относительно чист и стал обретать хоть какую-то уверенность в том, что не все так уж и плохо.
-О, я очень рад этому нюансу, - радостно заулыбался американец, и чувствовалось, что он это не хитрит, искренен. – Да вы не стойте, садитесь. У вас, русских, есть одна замечательная поговорка: «В ногах правды нет».
Лава была широкой, и Илья пристроился на ней с краю, опустив руки себе на колени, невольно прикрыл глаза, но тут же снова открыл их – не следовало расслабляться, рано ещё. Трудно о чем-то думать, особенно что-то анализировать, когда болит, ноет все тело, знобит и когда на тебя в упор, пускай и доброжелательно, но все же со злорадным превосходством, смотрят беспокойные глаза совершенно незнакомого тебе человека.
Можно было достаточно долго играть в гляделки, рассматривая друг друга, но Илья был не ребенок и понимал, что не за этим его привели сюда. Следовало как-то определяться, и он хрипло произнёс, беря инициативу на себя:
-Спасибо за заботу, но собственно, что вы от меня хотите? И кто вы? – спросил Илья, принявшись изучать простодушное на первый взгляд лицо своего собеседника, его явно не военную выправку.
-О, поверьте, ничего такого, - снова неизвестно чему заулыбался американец, обнажая идеально ровные белоснежные зубы. Неужели они все американцы такие – улыбчивые. Вот уж нация, лыбятся себе, и все. – Для начала просто давайте познакомимся. Так будет значительно проще разговаривать. Мы ведь с вами цивилизованные люди? А цивилизованные люди должны называть друг друга по имени. Так вот, меня зовут Брайн Херлли. Можно просто Брайн. А вас как?
«Знакомиться, так знакомиться, - подумал Илья, – хуже не будет. Ишь ты, подъезжает неторопливо, словно не навязывая своего мнения. Умен, ковбой, да и я не лыком шит. Правда, играть в подобные игры не умею – меня не этому обучали. Здесь не пригодятся ни приемы стрельбы и рукопашного боя, ни умение занимать круговую оборону. Здесь нужно действовать хитро, осторожно, приспособиться к ситуации. Воинского билета при мне нет, а бирку с медальоном, где указаны все данные вплоть до группы крови, случайно забыл в расположении части, так что фамилию и имя можно сказать любую, ту, что придет на ум. А что, идея? Есть у нас в городке одна местная достопримечательность – дурачок Лёник, и фамилия под стать ему, такая же дурацкая – Лапусь. Так что попробую увековечить сию неординарную личность в протоколах ЦРУ. Лёник, если б прознал про это, наверное, не был бы на меня в обиде, наоборот, возгордился бы собой и был бы счастлив безмерно».
-Меня зовут Леонид, а фамилия моя Лапусь.
-Странная у вас фамилия, мистер Леонид. Ла-пу-с, - произнес по слогам американец. – Совсем не русская. Как это понимать?
-А я не русский, я – белорус.
-..?!
-Как вам объяснить. Советский Союз состоит из пятнадцати малых и больших республик, типа как ваш США из штатов. Так вот одна из республик СССР называется Белоруссией, где большинство коренного населения составляют белорусы, как самодостаточно выраженная нация.
-О, йес, я понял. Вы курите? - Брайн Херлли был сама любезность, протянув початую пачку «Кэмела» - наконец, додумался, а то сам пыхтит, как паровоз, а его раздразнил, словно специально издеваясь. – Извините, что не подумал про это сразу.
Илья дрожащими, сбитыми в кровь пальцами, еле сдерживая нетерпение, вытянул из пачки белоснежный цилиндрик, пахнущей умопомрачительно сигареты и вложил её в потрескавшиеся губы. Прикурив от зажигалки американца, он затянулся и блаженно прикрыл глаза. Терпкий, дерущий горло дым проник в легкие, в сущность, затуманил мозг, до этого момента бывший в постоянном напряжении, расслабляя, и легкая эйфория от проделанного процесса как бы немного уняла саднящую боль израненного тела.
Но это ощущение длилось какую-то долю секунды, потом произошло обратное действие. Его тело содрогнулось, словно в конвульсиях, он сухо закашлялся, давясь горьким дымом, внезапно закружилась голова, а из глаз потекли слезы, даже внутри живота заныло резко и больно, и эта странная режущая, словно тупым ножом, боль заглушила постепенно все другие боли. Схватившись руками за живот, Илья стал медленно падать.
Американец побледнел от увиденного зрелища, но, обладавший прекрасной реакцией, подхватил этого непонятного советского солдата на лету. Тот был без сознания – так все быстро произошло.
«Вот и поговорили. Мой Бог, какой я все же идиот. Не надо было давать этому парню сразу сигарету. Следовало его просто-напросто немножко покормить нормальной человеческой едой. То, чем его потчевали эти варвары, до того отвратно, что просто в голове не укладывается, как такое можно предлагать себе подобному. Любому здравомыслящему человеку такое бы и в голову не пришло, а этим азиатам все до одного места. Да и зачем было издеваться над этим русским, айм сори, белорусом, лучше бы сразу пристрелили. А он - молодец, не жрал их помои, хлебал лишь тухлую воду. На этой воде и продержался почти с месяц. Уважаю. Даже ради поддержания жизни не уподобился скотине. Интересно, примет ли он мои условия, когда придет в норму? Пару деньков я не стану на него давить – время у меня ещё есть. Пускай отлежится, наберется, так сказать, сил. А там посмотрим».
Так размышлял Брайн Херлли, сотрудник ЦРУ, тридцати семи лет отроду, холостой, не отягощенный житейскими хлопотами бытия, делающий вполне успешную карьеру в своем ведомстве и для закрепления оной почему-то решивший продолжить её в качестве наблюдателя на территории Афганистана, страны, которая в какой-то степени стала оккупационной зоной Советского Союза. Но отнюдь не Херлли был инициатором подобного решения, а всесильное ведомство поставило перед Брайном довольно простую задачу: при непосредственном участии афганских моджахедов захватить в плен несколько военнопленных, желательно офицерского состава, и постараться склонить их к взаимному сотрудничеству, применяя любые способы вербовки. Для этого была создана специальная бригада из местных боевиков – и охота началась. Первый рейд оказался не очень успешным, и «охотники» со значительными потерями еле унесли ноги. Последующий выход был более-менее удачен, и им удалось захватить в плен одного старшего лейтенанта и двух рядовых. Все бы хорошо, но при переходе через перевал офицер – никто не ожидал такого от этого русского – прыгнул вниз со скалы и страшно покалечился. Пришлось его пристрелить – не тащить же такую обузу, еле дышащую на ладан, по горам ещё несколько десятков миль.
С рядовыми на стационаре началась соответствующая обработка, но она не принесла соответствующего результата – во-первых, парни оказались недалекого ума, во-вторых, представителями национального меньшинства. Один был уйгуром, откуда-то с Дальнего Востока, и на русском языке изъяснялся очень плохо, а второй – почти местный, таджик, из какого-то горного аула. И если один ничего не соображал, чего от него хотят, то другой, услыхав какой-нибудь очередной вопрос, тут же падал на колени и, взывая к Аллаху, начинал молиться.
В конце концов, Херлли вывело из себя непонятное его менталитету поведение пленников, и он с очередным караваном отправил тех в Пакистан, надеясь, что там они со своими молитвами придутся явно к месту.
А для очередного рейда в тыл оккупационной зоны как раз наступило неподходящее время – уж больно активизировались советский ограниченный контингент, царандой и войска ХАДа. Так что следовало немного выждать, до поры до времени. Но вскоре это ожидание стало в тягость, вынужденное безделье просто сводило с ума, и Брайн уже подумывал проинформировать центр, что так больше продолжаться не может, что он не справился с заданием, возможно, тем самым, ставя жирный крест на своей дальнейшей карьере. Но тут подоспело известие – вот после этого и не верь в удачу - в одном горном кишлаке за перевалом уже больше двух недель удерживают в плену раненного советского солдата, судя по нашивкам старшего сержанта. И если поторопиться, то можно успеть застать того в живых.
Путь через перевал был труден и опасен. Пришлось преодолеть немало крутых склонов, чтоб добраться до кишлака, который каким-то чудом гнездился среди серых ступенчатых гор. Слава Создателю, русский был ещё жив. История его пленения была проста и обыденна, как просто и обыденно все на войне, даже смерть – и та по своей сути довольна проста. В одном из недавних спонтанных боев на славных воинов Аллаха налетели советские гяуры – падали прямо с неба из ревущих неистово пятнистых вертолетов. Был страшный бой, где погибло много правоверных, да и гяурам тоже пришлось несладко – еле унесли ноги. Когда моджахеды собирали тела своих убитых, чтобы воздать им хвалу и похоронить с почестями, в одной из расщелин обнаружили тяжелораненого гяура, хотели пристрелить, но кто-то вспомнил, что на базе есть один американец, которому срочно нужен «шурави». Зачем? Неважно. Главное, за гяура этот «мешок с деньгами» может заплатить, и, кстати, вполне прилично и не в какими там чертовыми афгани, а зелёными долларами.
Херлли дал срочное указание вытащить русского из ямы и, приложив ряд малых усилий, привести того в божеский вид. И если пленник на первый взгляд казался крепок духом, то его израненное тело явно оставляло желать лучшего. Но ничего, при соответствующем уходе, нормальном питании и человеческом отношении он вскоре обязательно придет в норму.
Брайн успел заметить, что к этому русскому нужен особый подход, и он, конечно, поступил правильно, начав допрос с незатейливой, как бы дружеской беседы – солдат пошел на контакт. А это уже немало.
И для ухода за русским нужно приставить не какого-нибудь там грязного грубого крестьянина, а ту стройненькую ханум, что обмывала русского. Её, кажется, Махтубой зовут. Единственная, светлая личность, как он сумел заметить, в этом гадюшнике. О, женская ласка - великая сила. Пускай солдат, отвыкший от уюта и комфорта, хотя б немного ощутит тепло домашнего очага, поймет, что жизнь мимолетна, и что ему даётся последний шанс уцепиться за неё обеими руками. Ведь её небольшие радости среди безысходности бытия просто прелестны. Пускай советский солдат осознает, что любое сопротивление с его стороны может быть чревато нежелательными для него последствиями.
Вряд ли после такой психологической обработки сможет этот русский сказать ему «нет». Если только он не законченный «крэйзи». У каждого человека есть свой предел прочности. У русского этот предел скорей всего уже наступил – дальше некуда. Ну что такое человек? Просто тело, в котором уживается между собой куча разных болезней, всевозможных проблем, тело, которое в той или иной степени привыкает к боли, терпит её, но, в конце концов, устает от этой боли и больше её не хочет ни под каким предлогом. Так и с этим русским. Боль его просто сломила и уничтожила. Ещё немного и он вынужден будет принять все, что ему предложит он, Брайн Херлли…
21 сентября 2002г. Непонятно где. Но ясно, что это не санаторий.
Генка тихо открыл глаза, хотел было приподняться, но тело вдруг заломило от нахлынувшей боли, и он посчитал за лучшее пока не трепыхаться. Торопливость ещё никогда ни к чему хорошему не приводила. Быстро только кошки родятся. А ему именно в данной ситуации следовало все же немного поразмыслить, прежде чем хоть что-то предпринимать.
И для начала, скосив глаза немного в сторону, он внимательно осмотрелся.
Комнатушка была небольшая – три на четыре, без окон, стены серые, мрачные, холодные, потолок уходил ввысь под три метра, и посередине ярким лучом била мощная лампочка, заключенная в забрало плафона. Из всей мебели был только деревянный топчан, на котором лежало его измученное и не способное для чего-то большего тело, а массивная железная дверь смотрела беспристрастно на случайного узника – случайного ли?! - зрачком надзирательского глазка.
И вот именно там Генка уловил какое-то движение, а может, ему просто показалось, что за ним сейчас наблюдают. Кто? Некто таинственный и невидимый. Генка словно явственно ощутил на своей шкуре нечто похожее на глубокий и пронизывающий взгляд, от которого непроизвольно по всему телу пробежались мерзкие мурашки.
Внезапно заскрежетали различные засовы, гулко, кошмарно, леденя душу, и железобетонная дверь открылась нараспашку. В проеме дверей возник мрачный силуэт, который привычно шагнул в помещение каморки.
Вошедший оказался мужчиной лет за пятьдесят, но он был строен, подтянут, среднего роста, худощавый, в сером твидовом костюме, в безукоризненно белой сорочке и строгим узким полосатым галстуком, затянутым под самое горло. Он подошел к топчану, на котором лежал Снегирев. Казалось, что его загорелое лицо ничего не выражало, но зато глубоко посаженные глаза, умные и внимательные, посмотревшие на Генку сверху вниз, пронзали словно насквозь.
Генка попытался было встать, но мужчина остановил его властным жестом руки – красивой, с длинными тонкими пальцами, руки хирурга или убийцы, - и чтоб это было понятно наверняка, подкрепил словами:
-Лежите, Снегирёв. Сейчас вам желательно не делать резких движений. Эти костоломы явно переусердствовали, вколов вам какую-то дрянь. Инструктируя их, я, видимо, слишком оказался необъективен, сделав упор на то, что вы очень опасны и можете быть непредсказуемы в своих действиях. Вот они и подстраховались – побоялись лишних хлопот. Не спецы, а просто похоронная команда. Сколько их не учи, не могут тихо и культурно все провернуть. Надо было обязательно с шумом и грохотом. Только всю округу взбаламутили. Ну, да ладно. Что сделано, то сделано. Да и вы тот ещё гусь, забрались к черту на кулички. Найти вас оказалось не так уж просто. Ради такой мелочи пришлось задействовать специальную бригаду.
-Если я такая мелочь, зачем тогда было метать икру? – с трудом разжавши пересохшие губы, вымолвил Генка. – И я что, арестован?
-Считайте, что да.
-Если так, то попрошу предъявить мне обвинение. В чем моя вина?
-Да не распаляйтесь вы так, Геннадий Сергеевич. Будет вам и обвинение и все, что только пожелаете. Уж если мы вас задержали, то, значит, есть за что. В нашем государстве не бывает не виновных. Знаете, есть много возможностей и способов, чтобы любого гражданина или гражданку привлечь к ответственности, тем более, уголовной. Были б только желание и повод. А насчет вас и желание имеется, да и поводов явно предостаточно.
-Ничего у вас на меня нет. Я чист перед законом. А если, как вы говорите, я все же в чем-то и виновен, так это ещё нужно доказать.
-Тут и доказывать нечего. Взять хотя бы вашу последнюю аферу.
-Ну, тут-то вы, батенька, загнули. Я здесь не причем. Просто стоял рядом, вот меня и зацепило. Доказательств – пшик, а улик и того меньше.
-Не скажите, - улыбнулся господинчик. – Смотря, как правильно подать этот вопрос, и какие для этого будут задействованы ресурсы. И тогда вашу вину ничего не стоит доказать. Я же вам уже говорил, что у нас не виноватых не бывает. Так уж устроена наша система правосудия. Тем более, у каждого отдельно взятого человечка всегда найдутся какие-нибудь мелкие грешки. А из любого грешка иногда можно высосать такое, что даже я, бывает, удивляюсь изобретательности наших пинкертонов. Это, запомните, аксиома, а она - доказательств, как таковых, не требует.
-Ух, как я, смотрю, вас раздуло. Уж ли не гордость за органы правопорядка, которые только спят и видят, как и кому больше всего нагадить? – и Снегирев хохотнул, кривя разбитые губы.
Но, несмотря на излишнюю язвительность, улыбка у него получилась ясной, чистой и доброй, и чувствовалось, что господинчик не знает теперь, как вести себя - то ли наорать на Генку, испытывая уместное в данный момент человеческое чувство, а, именно, злость, то ли тоже в ответ мило улыбнуться, и стать более человечнее.
Господинчик выбрал второе:
-Нашему государству и справедливость нужна, как нужна и логика поступка. Если необходимо для логики следствия, чтобы вы были виновны, значит, так и будет. Хотя, если сказать по правде, то дело даже не в вас, милейший, а в вашем приятеле, вернее, друге.
-О, у меня было много друзей, и как это не прозвучит сейчас банально, я их всех сумел пережить. Ну а вот новыми друзьями-приятелями, вы уж не обессудьте, так и не обзавелся. Испытав горечь многих потерь, я сделался как бы человеком толпы. И теперь для застолья или просто какой-нибудь беседы мне достаточно легкой компании совершенно случайных собутыльников, и только. Так что я не понимаю, кого вы имеете в виду.
-Я рад, что вы хотите обойтись без долгих предисловий. Мне импонирует ваш принцип брать сразу быка за рога. Так что и я не стану ходить вокруг да около. Надеюсь, вы в состоянии ответить на все мои вопросы без всяческих выкрутасов и лирических отступлений с вашей стороны?
-Валяйте, если вам так приспичило. Унитаз не занят.
-Фу, как грубо. Я считал вас человеком тонким, деликатным.
-Что ж, какой уродился. Так что воспринимайте меня таким, каков я есть. А если я вам не по нраву, то давайте разойдемся, как в море корабли.
-Ну, этого вы, милейший, не дождетесь. Не для того мы вас так долго искали. Вы нам нужны. И поэтому для начала ответьте. Вам знаком Пташевский Илья Николаевич? Ведь это ваш самый близкий друг, если я не ошибаюсь? Или меня неправильно проинформировали?
-Не скрою, друг. Был когда-то. Так что спешу вас обрадовать, что Птаху я не видел достаточно долго, чтобы вправе позабыть о его существовании. Я даже не знаю, жив ли он вообще с его нынешними запросами на жизнь.
-Ой, ли?!
-Уверяю вас. Если б было иначе, то Птаха, простите, Пташевский Илья Николаевич обязательно дал бы знать о себе. Уж я-то его знаю. Писать пространственные письма не в его стиле, а вот открытку мог бы иногда черкануть на досуге с какого-нибудь экзотического острова. И уж если он молчит достаточно долго, то это, значит, что его давно нет в живых.
-И вы так спокойно говорите об этом? Ни тени беспокойства по поводу исчезновения друга. Да, вы, Геннадий Сергеевич, просто циник какой-то?
Генка ухмыльнулся: кто бы говорил. Хотя у вас, уважаемый господин вид заправского денди, а вот руки, возможно, по локоть в крови. Вон давеча, каких мордоворотов за ним прислали – не поскупились на красивое шоу, а нотации читаете, будь здоров. Правда, ещё непонятно какой вы масти и окраса: государственный душегуб или владелец частной лавочки. Хотя гадать не стоит: ещё немного, и все карты, возможно, в полном раскладе лягут на стол. Ведь ради чего-то его притащили сюда. Но сам-то он лезть на рожон не собирается.
С самого начала разговора Снегирев уяснил для себя, что задавать наводящие вопросы на данный момент не его прерогатива, и с этим стоит повременить до поры до времени. А ещё лучше постараться отвечать на тот или иной вопрос более или менее обстоятельно, но, явно не усердствуя, а то это покажется несколько подозрительным, и никак не будет вязаться с той ролью простачка, какую он пытается разыграть сейчас перед этим лощеным господином. И уж если тебя начали принимать за циника, которому все по барабану, кроме своей драгоценной шкуры, то не стоит разубеждать их в этом – авось пригодиться. А там видно будет.
-Мне Пташевский не сват и не брат, - сказал Генка, с трудом приподнимая тело с топчана и усаживаясь, свесив ноги на гладкий, усланный линолеумом мраморной расцветки пол. - С какой стати я буду лить по нему слезы? Для этого у него есть родители. Насколько я знаю, те ещё в полном здравии. Вот вы их и потрясите. Уж они-то просто обязаны знать, где прожигает жизнь их драгоценный сыночек.
-В том-то и дело, что не знают. И, между прочим, сослались на вас, как на последнюю инстанцию. Мол, вы с Ильей очень часто общаетесь, и, судя по их пространственным признаниям, вели кое-какие общие дела.
-Ложь, галдёж и провокация, - ответил нагло Генка, глядя прямо в глаза господинчику, не отводя взгляда. – Я почти уже как с год безвыездно живу у себя на хуторе. Пишу, так сказать, книгу. К тому, до этого мои личные интересы просто никак не могли совпасть с интересами Ильи. Это вы уже, надеюсь, успели проверить и убедиться. Меня и близко не было, там, где был Птаха.
Господинчик вздохнул.
-Проверили и перепроверили. Но, тут есть несколько «но», которые заставляют усомниться в вашей искренности и в желании помочь нам.
-А почему, скажите, я должен вам помогать? У меня вроде бы нет подобного желания. И других дел невпроворот.
-У вас, Геннадий Сергеевич, можете не беспокоиться, больше не будет никаких дел, но даже если б и были, то вы для них уже просто не существуете. Вас в этом реальном мире уже как бы и нет. Вы фантастику любите? Так вот представьте себе, что вас похитили инопланетяне, этакие зеленые человечки.
-Вы смеетесь?
-Ни капельки. По официальной версии, - господинчик развернул какой-то листочек бумаги и стал читать с него, - « Геннадий Сергеевич Снегирев 1964 года рождения сгорел на хуторе в урочище Заозерное. Пожар возник от взрыва газового баллона в результате неправильной эксплуатации оного. Пожарная бригада прибыла к месту тушения очага возгорания только после того, как все постройки выгорели дотла. Тело потерпевшего обнаружено не было. Возможно, учитывая интенсивность огня, обратную тягу и направленные потоки пламени тело вышеозначенного субъекта имело все основания сгореть, обуглиться и обратиться в пепел…».
-Ну, вы даете! Я же жив, мать вашу!
-Нельзя ли выражаться более-менее прилично, хотя б в моем присутствии? А уж там, как ваша душа пожелает. Да, вы живы, и, возможно, проживете ещё достаточно долго, если перестанете сейчас юродствовать, юлить и скрытничать. Тем более вы, как гражданин этой страны просто обязаны оказать нам посильную помощь и, в конце концов, быть более лояльным к существующей власти.
Так, наконец, определились. Значит, это государство взяло, так сказать, его в оборот. Хотя под такой маркой, прикрываясь силовыми структурами, может быть, кто угодно, что на данный момент проверить довольно сложно. И поэтому Генка хотел было ответить, что, мол, не на того они, гады невкусные, нарвались, что плевал он на их всяческие поползновения на его персону с высокой горки. А ещё что у него клинический вотум недоверия ко всему и ко всем, кто в каком-то смысле проявляет к нему насилие и агрессию, а уж тем более к представителям власти.
Но, естественно, смолчал. И не потому, что мог подобным откровенным признанием повредить себе в чем-нибудь, а потому что понимал пустоту и бессмысленность откровения – у господинчика свой взгляд на сложившуюся ситуацию и, понятное дело, свои интересы по этому поводу, а у него свои. И ещё не аргумент, что если человек в чем-нибудь, в какой-либо мелочи когда-то оступился, то он уже изначально виновен. Допустим, его можно взять в оборот, избить, осудить, даже, если того потребуют интересы государства или какого-нибудь частного лица, уничтожить. Но его нельзя унизить и использовать так, как им будет угодно, если только человек сам не пожелает, чтобы его использовали и унижали.
Генка, как не прискорбно это звучит, много раз прошел через нечто подобное, и сейчас просто не горел желанием очутиться в шкуре агнца идущего на заклание. Хотя и попал он сейчас, как говорится, словно тот кур в ощип, и, наверное, выбраться из этой ситуации будет не так уж и просто, ему все же не стоит пока гнать лошадей, а реально воспринять действительность, как таковую. И значит, что логично в создавшейся ситуации, нужно найти такой компромисс, который удовлетворит и его, да и собеседника на какое-то время убедительно заставит поверить в лояльность своей жертвы. Так же следует укрепить уверенность этого господинчика в том, что он, Генка Снегирев, как будто бы поверил, что задержан карательными органами государства. Хотя не исключено, что так оно и есть, но не стоит сбрасывать со счетов и то, что его, возможно, водят за нос, преследуя свои корыстные преступные цели. Но прежде чем реализовать этот тактический ход, Генке не терпелось разузнать, что это были за «но», о которых вскользь упомянул его новый недруг.
-Простите, что вы имели в виду, когда засомневались в моей искренности? Какие это такие «но» вас заставляют так думать?
-Во-первых, ваш непревзойденный опус, милейший.
-Ах, та сотня мятых страниц, что изъяли ваши подопечные. Так там нет ничего серьезного, лишь немного ностальгии о прошедшей юности. Да и не опус это вовсе, а так небольшая повестушка с весьма заурядным сюжетом, построенная на личных воспоминаниях. – Челюсть по мере того, как пространственного стал изъясняться Генка, болеть перестала, в голове немного прояснилось, и пульсирующая до этого боль слегка притупилась. – Она и яйца выеденного не стоит. Что уж тогда тут говорить о её достоинствах.
-Ну, не скажите. Извольте, я присяду рядом, - произнес господинчик, указав непритязательным жестом на краешек топчана, и, не получив на то Генкиного согласия, все же уселся. – Так вот, пока вы отдыхали, я, знаете, прочитал вашу, как вы выразились, «сотню мятых страниц», от корки до корки. Не хочу казаться голословным, но мне очень понравилось, хотя там полно ошибок лингвистического характера. Тем не менее, впечатление у меня сложилось довольно таки неплохое. У вас, милейший, очень хорошо получилось передать колорит той эпохи, там изначально предельно ясно: это – черное, а то – белое, а также отобразить характер и нравственные переживания главных героев. У меня даже создалось впечатление, что их колоритные портреты списаны с вашего друга и с вас. Разве я не прав?
Генка сморщился, но промолчал – пускай думает, как хочет, и если ему так удобно думать – это его дело.
-Молчите, - продолжил анализировать дальше господинчик, - значит, мое предположение верно. Отсюда следует вывод, что с Пташевским вас связывает нечто гораздо большее, чем то, что вы стараетесь представить мне сейчас. Но, надеюсь, наше взаимное сотрудничество всё прояснит в корне, и между нами не возникнет недопонимания. Вы поможете нам, а мы – поможем вам. Ибо если вы начнете сейчас, то завтра обязательно окончите, - начал философствовать господинчик. – Это, милейший, истина.
Но Генка не стал вдаваться в жалкий лепет доморощенного философа и едко поддел:
-Вы мне уже «помогли». Все нажитое непосильным трудом имущество пустили по ветру, оставив мне только голое пепелище.
-Ну, за это я прошу прощения. Не рассчитали ребята, увлеклись, просто вошли в раж. Что тут поделаешь – издержки производства.
-Да, в нашем государстве всегда так. Вначале сотворят что-то из ряда вон выходящее, а уже потом чешут репу: зачем мы это сделали?
-Бывает и такое. Никто не застрахован от глупостей.
-Даже наш народный лидер? – пустил Генка пробный шар, пытаясь вызвать господинчика на откровенность, для определения его статуса. Он давно заметил, что государственные чиновники, особенно серьезных структур, ох, как не любят, когда кто-то порой язвительно, а кто-то и с более скрытым подтекстом говорит о первом лице государства.
-Считайте, что я этого не слышал, - господинчик тоже решил ему подыграть, если только конечно играл, а не думал так на самом деле.
«Но ничего, пару таких пробных шаров и вы проколетесь обязательно», подумал Снегирев, а вслух произнес:
-Это почему же? Неужели вы мне инкриминируете это высказывание, как словесную диверсию. Интересно, есть ли такой нюанс в нашем самом справедливом законодательстве? Если нет, то дарю – запатентуете.
Господинчик сверкнул глазами, но не зло, а как-то заинтересованно, мрачное до этого лицо ожило, одушевилось.
-Вот вы, наконец, и показали свою гнилую сущность, Геннадий Сергеевич. А то до этого блеяли, мол, это не я и улица не моя, прикидывались потерпевшим от произвола. А сам – хорош гусь – зашился у черта на куличках и тихо так, неприметно, как позволяла ему его совесть, покрапывал себе повестушку о любви, а также стишки о свержении существующего строя.
Снегирев приглушенно засмеялся, потом закашлялся, да так, что слезы появились на глазах.
-Ну и фантазия у вас. Мою дешевую лирику, да детские стишки о любви к родине приняли за крамолу. Кстати, как вас по имени-отчеству?
-Ох, простите меня, заболтался и забыл представиться. Честь имею. Слатин Георгий Сергеевич.
-Надо же, почти тезки. Если не секрет, то кто вы по званию? Надеюсь, не прапорщик. А то перед прапорщиком мне как-то западло распинаться.
-Это неважно. Хотя считайте, что я офицер высшего командного состава. Вас такой ответ устраивает?
-Вполне. Так что можете дальше вешать мне лапшу на уши.
-Не говорите ерунды. Вы умный человек и вы должны трезво осознать для себя истинное положение вещей. Так что шутки в сторону. Все слишком серьёзно. Взять хотя бы вашу недавнюю аферу, пускай и на территории дружественной нам страны, которая своими аморальными действиями подорвала экономику одной весьма уважаемой частной фирмы. Между прочим, то, что вы совершили, уголовно наказуемо. А уж если те фирмачи каким-то образом разузнают, кто их так резво прокатил, то я, милейший, за вашу жизнь не дам и гроша ломанного. Вы сами вырыли себе яму и, поверьте мне, довольно внушительную. Но вы мне симпатичны, уж не знаю почему, и поэтому я предлагаю вам, естественно с моей помощью выбираться из этого липкого дерьма, и как можно быстрее. Решайтесь. Третьего не дано. Надеюсь, вы понимаете, что отсюда вам в случае отказа выхода нет. Конец для вас будет одинаков при любом раскладе и отнюдь не в вашу пользу – вы просто исчезнете. И лишь только взаимное сотрудничество и только на наших условиях откроет двери этой темницы настежь. Такие талантливые люди, как вы должны служить обществу. Только советую вам не выдерживать долго паузу. Положительный или отрицательный ответ мне нужен прямо сейчас. Я слушаю.
Генка пожевал разбитыми губами, потом вытянул их в трубочку, сосредоточенно о чем-то размышляя. Что ж, следовало принимать любые условия, ибо упирательство в данной ситуации просто бессмысленно, а там будет видно. И не из таких передряг выбирались.
-Мне что следует написать новый роман, где в красочных тонах нужно будет описать, как у нас все хорошо и прекрасно?
-Вы, Геннадий Сергеевич, шутник, - погрозил длинным указательным пальцем Георгий Сергеевич и приподнялся с топчана, отряхивая с шикарных брюк несуществующие пылинки. – Писать и сочинять подобную чушь хватает и без вас. Придворных лизоблюдов, особенно в нашем государстве, сейчас хоть пруд пруди, а подобных борзописцев – и подавно.
-Так в чем же тогда будет заключаться моя миссия? Не понимаю.
-Вам, милейший, следует отыскать вашего друга - Илью Пташевского.
-Зачем?
-У Пташевского совершенно случайно оказалось то, что ему не принадлежит, и что он имел исключительную наглость себе присвоить.
-Надо же какие страсти! Прямо шпионский боевик. Но тут вы просчитались. Я не гожусь на роль Джеймса Бонда. Тем более, какой из меня сыщик? Я – дилетант, и в розыске ни в зуб ногой.
-Никто вас не просит становиться шпионом экстра-класса.
-Так зачем сотрясать понапрасну воздух. У вас, насколько мне думается, имеется неплохой штат разных секретных сотрудников, шпионов, сыщиков и костоломов. Чего этим ребятам не попробовать отыскать Илью?
-Пробовали. И все впустую. Ваш друг исчез, как в воду канул.
-Вот видите. У спецов не получилось, а вы хотите, чтобы я нашел того, кто не хочет, чтобы его нашли. Тем более у меня не получиться. Да и не такой уж я гад, чтобы сдать своего друга со всеми потрохами. Допустим, я его найду, а вы его раз - и прихлопнете. Ну, уж нет, поцелуйте меня лучше в зад.
-Вы опять выражаетесь. Как вам не стыдно. Нельзя же так. Кто вас, извините, воспитывал? Бабушка? Плохо она вас воспитала. Так вот, ничего плохого с вашим другом не случиться. Он только отдаст нам то, что взял, так сказать, по недоразумению – и мы забудем о нем и о вас навсегда. Даю честное слово. А насчет того, что вы не сможете отыскать Пташевского, извольте не сомневаться – у вас обязательно получиться. Вы просто не принимаете в расчет свой аналитический склад ума. Знаете, из вас бы вышел замечательный агент. Такое присутствие духа, как у вас дано не каждому. А в людях я как-никак разбираюсь. Тем более вы один, как никто знаете все повадки вашего друга. Прочитав вашу, как вы называете, лирику, я убедился в этом ещё раз. Так что здесь вам и флаг в руки. И как только вы придете в норму после всех свалившихся на вас потрясений, я детально введу вас в курс дела. А пока отдыхайте. Если что нужно - говорите, не стесняйтесь. И вам принесут все, что вы потребуете, конечно, только в разумных пределах. Не стоит злоупотреблять гостеприимством – бюджет нашей конторы отнюдь не резиновый. Да, хочу вас предупредить, что шутить с нами не стоит. Я уверен, что вы дали согласие на сотрудничество просто так, для проформы, а там, глядишь – можно всё и по-другому повернуть. Так вот, этот номер не пройдет. О, вы, видимо, ещё не в состоянии понять, что неадекватные действия с вашей стороны, могут иметь очень неприятные для вас последствия. Тем более, в загашнике у нас есть кое-что, что удержит вас от очередных глупостей.
-И что же это такое, если не секрет?
-А вот об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас вам нужно лишь хорошенечко отдохнуть, набраться сил перед дальней дорогой.
-Потом, так потом. Но все же позвольте ещё один вопрос, - Генка решил не сдаваться и ещё раз попытаться вывести Слатина на чистую воду. - Правда, можете не отвечать. Ничего серьезно, просто небольшое любопытство.
-Я слушаю вас. И отвечу достаточно откровенно, если это окажется в моей компетенции.
-За время нашего небольшого разговора, я знаете, с должным вниманием сумел оценить ваши человеческие и деловые качества.
-Спасибо на добром слове. Ну, и к какому вы пришли мнению?
-Вы умны, тактичны, сдержаны, рассудительны, в какой-то степени правдивы, умеете убеждать, не навязывая своего мнения…
-Благодарю за столь лестный отзыв, но позвольте прервать поток слащавых дифирамбов в мою честь и яснее изложите суть вашего вопроса.
-Извиняюсь. В общем, я хочу понять, как вы такой умный, рассудительный человек, и я уверен, ясно сознающий – пробный шар пошел, - что теперешняя политика руководства страны толкает, пускай и неосознанно, эту страну в пропасть, в бездну, откуда потом, ой, как не скоро удастся выкарабкаться, пошли на поводу у кучки жалких временщиков? Или же вы основная часть её? Ведь наше руководство давно, как вздорная баба, рассорилась со всеми соседями, деловыми партнерами. Оно везде и во всем, где только можно, выискивает врагов. Только на словах у нас все хорошо и просто замечательно. Круглый год песни и пляски, разным фестивалям несть числа. Я понимаю, что это необходимо – люди должны чему-то радоваться и веселиться. Но не до такой же степени, когда в стране ворох проблем и настоящая разруха. Люди хотят хорошей жизни, а им все время пытаются устроить веселье, с фейерверками да салютами. С изнанки вроде бы лоск, а вот внутренне состояние – гнилое. И я не могу понять, почему вы делаете то, что делаете, и правильно ли вы поступаете. Ведь нельзя же ради призрачного будущего, которое хорошо только на словах, рисковать счастьем и благосостоянием целого народа?
-Да, вопросец еще тот. Провокационный. Но так и быть – я вам отвечу, как на духу. Хотя честность иногда бесполезна, порой даже бывает губительна. Ваше счастье, что вы ещё просто не в состоянии понять всех тех бед, которые выпадают иногда на долю того или иного человека и которые могут надолго потрясти душу. Возможно, вас мало била судьба, чтобы вы поняли, как надлежит, всю подлость жизни.
-Ну, допустим, этого у меня в избытке, и мой личный опыт тому явное подтверждение.
-Это как сказать. Вы свободны, независимы, всё свое носите с собой, вы не обременены бытием и у вас нет непреложной обязанности перед другими людьми и тем более перед государством. Хотя, заметьте, это государство воспитало вас, выучило, сделало классным специалистом в своей сфере.
-Того государства, которое сделало для меня то, что вы перечислили, больше нет, оно перестало существовать задолго до того, как начался этот кровавый и бессмысленный передел за власть. То государство, что существует сейчас, лишило меня того, что я сумел достичь, в чем я видел смысл жизни, оно отбросило меня, как ненужную вещь, а потом не обеспечило работой соответствующим образом, и мои профессиональные навыки оказались не востребованными. Вот и пришлось вертеться, чтобы как-то выжить.
-Ну, это вина не государства, а лично ваша, Геннадий Сергеевич. У вас оказались слишком большие запросы.
-А я не лох, чтобы пахать за жалкие гроши и тянуть лямку от звонка до звонка фактически за «спасибо».
-Но ведь многие так жили и живут, и вполне довольны судьбой.
-Я не многие.
-Что ж, - Слатин вальяжно развел руками, как бы говоря этим: каждому - своё. Хитер, жук, не поддавался на провокацию.
-Но вы все же не ответили на вопрос, и свое демагогией изящно увильнули от ответа. Сразу видно, мастер своего дела - умеете заморочить голову.
-А я и не уходил от ответа. Просто наша беседа мирно перетекла не в то русло. Но сейчас я готов удовлетворить ваше любопытство.
-Будьте любезны.
-Так вот, я отнюдь не раболепствующий подданный и не жалкий лакей, который боится, что его вдруг по какой-нибудь причине лишат божественного благоволения, места службы и вкусных подачек с царствующего стола. Я, прежде всего, служу государству, а уже потом личным качествам одного человека. В прочем, этого человека выбрало само время. Я сам иногда с трудом выношу его непонятные, не вяжущиеся с реальным восприятием жизни экстраординарные выходки. Но в данной ситуации нечто подобное, как наш лидер, сейчас просто необходимо. И я вполне терпимо воспринимаю эту необходимость. Я, заметьте, свободен в личном выборе, и как никто в своих действиях, совершенно адекватно воспринимаю действительность. Я за правду и справедливость, но честь носимого мной мундира мне дороже всего на свете. Многим можно пренебречь, можно разочароваться во многом. Лишь службою своей Родине пренебречь нельзя – её надо любить, ей надо угождать. И только через это я вижу свой долг и своё предназначение. Надеюсь, я ясно дал понять свое качественное служение этому обществу?
-Да, сильно сказано. Тут не поспоришь. «Вот, гад, ловко вывернулся. Мол, я верный служака и все такое. Но я же чувствую, что вся эта лавочка к государственным службам никакого отношения не имеет. Возможно, этот Слатин и государственный чинуша, но вот мое похищение и поиски Птахи скорей всего его личная инициатива. Ладно, не одним днем живу, разберусь».
-Вот я и даю вам хороший совет: пересмотрите свое отношение к таким понятиям, как Отечество и долг перед ним. Любой из нас может быть «против», тем более это иногда бывает весело и забавно, в отдельных случаях даже престижно, но приходит время, когда надо стать «за». Этого потребует реальность, в конце концов, совесть, а так же гражданский долг. Так что время у вас пока что есть. И не советую вам плевать против ветра. Это бесполезное занятие. И ни к чему хорошему не приведет, уж будьте уверены.
И он исчез за внезапно открывшейся дверью так же, как появился – тихо и бесшумно, правда, скрежет закрываемых дверей ещё какое-то время действовал на нервы, вынуждая поморщиться от созданного дискомфорта
Снегирев вздохнул. Уж очень утомила его столь содержательная беседа. И то, что Слатин отнюдь не мелкая сошка в карательном аппарате государственной системы, было предельно ясно. И что с ним, Снегирем, не шутят, сомнений не вызывало. Слишком уж нетрадиционен подход, решительность действий, в результате которых он как бы перестал официально существовать, а так же набор соответствующих реплик. Казалось, с Генкой Слатин вел предельно откровенный разговор, но чувствовалось, что все его фразы были построены таким образом, чтобы вызвать у него чувство неполноценности перед поставившей на колени необходимостью подчинения.
Его только что целенаправленно втянули в опасную игру, и насколько это будет позволено, откроют глаза на многое, и не только. Возможно, разрешат даже действовать по своему усмотрению, но под их непосредственным контролем, так сказать, под колпаком. И пока он будет нужен им, ему ничто не угрожает, чтобы не предпринял. Но как только он сделает то, что им нужно, то тут ему точно, это как пить дать, придет настоящий «кирдык». Свидетелей, которые слишком много знают, в живых не оставляют, если только, конечно, они потом сами не становятся частью карательной системы. Хотя зачем этой системе или частному лицу лишние, использованные люди – своих христопродавцев и так в избытке. Значит, эта сволочь, как бы сейчас не гладила по шерстке, потом, когда все закончится, укатает его по полной программе. Невольно напрашивалась аналогия с тем, что все структуры, будь то государственные, то частные, как таковые, и уголовный мир - суть едины. У них действует один общий закон – закон диких зверей: ни под каким предлогом не оставлять случайных свидетелей их неправедных действий.
«Да, попал ты, Снегирь, так попал. Обложило, вороньё. Все обставлено хитро, не сорвешься. Пока не сорвешься. А там посмотрим. Им нужно мое участие – они его получат. Ведь нужно как-то спасать Илью. И, возможно, кроме меня, ему неоткуда ждать помощи. Правда, я не знаю, во что вляпался Птаха, но в нем я нисколько не сомневаюсь. Он мне друг, и ещё ни разу не подвел, а вот государство и разные там доброхоты меня кидали - и не раз. Ладно, вынуждают меня прогнуться – я прогнусь, стану гибким, как лоза. Но уж потом, если разогнусь, то, клянусь, вам мало не покажется. Не на того нарвались. Не мне будет «кирдык», а вам, ублюдки. Вы мне, господин Слатин, дали совет не плевать против ветра. Тоже мне Заратустра нашелся. Как это там, у Ницше, дай бог память. Вроде бы так: «И такой совет дает он врагам своим и всему, что плюется – берегитесь плевать против ветра!». Что ж, мысль мудрая, была и всегда будет актуальна, но только ни в моём случае. Я попробую все же плюнуть против ветра, но перед этим - рассчитаю и силу плевка, и его массу, а так же напор встречного ветра, а сам, уж будьте уверены, сумею вовремя пригнуться, чтоб не зацепило, а так же не зацепило Птаху».
Решив, что именно так он и поступит, Генка попытался заснуть, но сон никак не шел, словно какой-то маленький червячок сомнений не давал ему покоя. Что же это такое ещё есть у них на него, о чем, уходя, вполне серьезно намекнул господинчик? Судя по самодовольной физиономии чиновника, это должно быть значительно весомым по сравнению с его мелкими грешками.
За себя Генка не боялся - устал бояться. Близких и родных у него нет – гол, как сокол. Да и поступков, связанных с криминалом – та афера как раз из той оперы, где даже те, кто проиграл, светиться посчитают ниже своего достоинства - за ним вроде бы не наблюдалось и не числилось. Хотя, если уж очень постараться и копнуть поглубже, то можно нарыть большую яму, где обязательно отыщется парочка скелетов из прошлого – запашок будет ещё тот. А этим ассенизаторам не привыкать, возможно, что-то и накопали.
Да, и черт с ними, бог не выдаст – свинья не съест. Они захотели поиграть в кошки-мышки, так и получат игру по высшему разряду.
Как говаривал его друг Птаха: нельзя сидеть на лужайке и изображать пень. А состояние пня его никак не устраивало. Он должен игру вести по своим правилам, и если получится, то на своем поле. Главное, не заиграться…
Отрывок из рукописи:
«…не помню, кто сказал, что у мыслей - есть оболочка, ядро и все такое, необходимое для физического взаимодействия с окружающей средой. Но мне кажется, он был прав, хотя бы в том, что сильные эмоции и такие же сильные желания оставляют за собой нечто материальное. И оно не исчезает – остается, живет своей собственной жизнью где-то в небытии нашего подсознания, откуда его можно, если захотеть, и вызвать, и разбудить, и даже заставить рыскать в поисках иного, более счастливого, чем наш, мира. Мира, одержимого такими же желаниями – человек существо приземлённое, и в разных ситуациях желает одного и того же, - и дать затем этому миру реальный шанс материализоваться. И, я уверен, материализовавшись, этот мир прочно займет в наших душах и сердцах предназначенное ему место.
Не скрою, я много задумывался об этом, стараясь понять и проанализировать, посетившее меня однажды откровение, но ничего не получалось, да в принципе и не могло получиться – слишком мало у меня было жизненного опыта на столь совершенный анализ.
Да и сколько я прожил, просуществовал на этой земле? – мало, почти ничего. Мне ещё нет и двадцати – девятнадцать с хвостиком, - и я живу так, как хотят мои родители, так как хочет наше стабильное общество, установив для моего дальнейшего существования свои негласные правила. И я по мере возможности стараюсь следовать этим правилам. Без хлопот и забот дотянул до десятого класса, поступил в престижное учебное заведение, где и учусь не через пень-колоду, а вполне прилично. У меня хорошие, любящие родители. У меня есть верный и преданный друг. Да и на личном фронте без проблем – я, кажется, влюбился всерьёз, и, думаю, надолго. И произошло это совершенно случайно, где-то с месяц назад. Тогда Птица затащил меня, правда, с моего согласия в одно местечко, чтоб не спехом перепихнуться с какой-нибудь мочалкой. Там я увидел её – и погиб.
Аня, Анечка, Аннушка впорхнула в мою жизнь легко и безмятежно, прекрасной бабочкой, словно только что выбравшейся из своего тесного кокона, где до этого мирно дремала спокойным сном. И вот она, томно расправив свои прелестные звонкие крылышки, вырвалась на волю, поражая этот серый обыденный мир своей непосредственностью и тихой, неброской красотой.
Тогда, после первой нашей близости, она тайком от своей сестры назначила мне новую встречу. И я пришел. Да и разве я мог ли не прийти, когда всю ночь проворочался в постели, так и не уснув, припоминая наши сладкие поцелуи, легкие касания и страстные объятья, а затем - мгновенный, безудержный зов молодой плоти.
Мне так не терпелось повторить всё снова, что я, даже не позавтракав, а, лишь выпив крепкого чая, устремился на другой конец города. Летел, как на крыльях, и только у самой калитки внезапно остановился - засомневался. А вдруг меня никто не ждет? Вдруг мне тогда это просто показалось? И как только я войду, так сразу получу от ворот поворот. Но, увидев счастливое личико девушки, её прелестную, милую улыбку, все сомнения отпали.
Аня бросилась мне в объятья, и, я думаю, не стоит описывать того, что затем произошло. А после и вовсе стало повторяться с регулярной последовательностью – как только Лариска за порог на работу, я через пару минут, как партизан - прыг к заветному окошку. В общем, мы миловались и целовались до той поры, пока на горизонте не возникал грозный профиль Анькиной сеструхи. И тем же макаром покидал место дислокации.
Как-то в первый раз я, было, попытался всучить Ане деньги за полученное удовольствие, но та решительно отвергла это подношение и так посмотрела на меня, что я просто опешил, а затем, не отводя своих изумрудных пронзительных очей, девушка жестко произнесла:
-Больше никогда не смей этого делать. Я тебе не шлюха. То, что было раньше, до тебя, для меня, поверь, больше не существует. Я про это и сестре сказала. Мол, пусть на меня больше не рассчитывает. Ну, и дура же я была, когда уступила когда-то её уговорам. Слышал бы ты, как она вчера вечером орала, когда я поставила её перед фактом. Но потом ничего, поостыла, заявив, что и она больше не намерена обряжать меня в красивые шмотки. И уж если я такая цаца, то мне придется донашивать то, что есть. Ну и что? Перебьюсь. Ещё год остался. Вот окончу школу, устроюсь на работу куда-нибудь и тогда сама стану зарабатывать, чтобы не зависеть от Лариски.
-Тогда тебе, как никогда, нужны деньги, - начал я робко. – Не отказывайся.
-Я же сказала, что не возьму. Ты пойми, произошло то, что должно было произойти. Я, как только тебя увидела, у меня коленки так и задрожали, дыхание остановилось, а сердечко упало прямо в низ живота. Такого со мной ещё никогда не случалось. Меня к тебе потянуло словно магнитом. И теперь мне все равно, что дальше со мной будет, лишь бы только видеть тебя, быть с тобой рядом, слышать твой приятный бархатный голос, ощущать твои ласковые руки на своем теле. Наверное, я сошла с ума, но я, думаю, просто влюбилась. Это безумие какое-то.
-Я тоже влюбился, - произнес я, выслушав страстную речь девушки и прижав к себе её хрупкое и податливое тело. – Увидев тебя, Анечка, я и сам просто выпал в осадок.
-Ты не шутишь?
-Какие тут могут быть шутки. С такими вещами не шутят.
-А разве у тебя, Серёжа, там, в Москве, нет девушки? – Чистые, наивные глазенки смотрели мне в глаза трепетно, нежно, но сейчас в них на какое-то мгновение поселился испуг, ожидание и что-то ещё такое, чего я не мог уловить. – Только не ври, пожалуйста.
-А я и не думаю тебя обманывать. Не скрою, до тебя были у меня там разные, одно время даже встречался с одной москвичкой, она моя однокурсница. Но мы не сошлись характерами – уж очень она была категорична, права во всем, нос задирала по любому поводу, а мне, поверь, такие не нравятся, - вот мы и расстались. Так это было давно и неправда. У меня теперь есть только ты одна.
-Правда? Не обманываешь?
-Правда. Можешь мне верить. Я тебя ни на кого не променяю. Ты у меня одна единственная. Лучше поцелуй меня, - сказал я и, не дожидаясь ответного действия, сам с наслаждением припал к распахнутым лепесткам алых губ.
Своих отношений мы старались не афишировать, хотя я был не против столь такого приятного официоза. Как же мне иногда хотелось просто пройтись под ручку с сей прелестницей – пусть бы пообзавидовались все пацаны в округе, - а так же сходить с ней на пляж, сводить в кино, на танцы, где можно было оттянуться по полной программе.
Но девушка почему-то не хотела этого. Почему, я так и не понял, не понимаю и сейчас. Что плохого в том, когда двое молодых людей не скрывают своих чистых и светлых чувств. Чего Ане бояться? Осуждения? Но разве можно осудить любовь?
Даже своей сестре Ларисе Аннушка не решалась рассказать о наших отношениях, тем более про наши интимные встречи по утрам. И нам, как партизанам-подпольщикам приходилось встречаться тайком. И только один Птица сразу уловил, что к чему, но верный друг был не из тех, кто любит трепаться, и если наша маленькая тайна должна была оставаться тайной, то на него можно было положиться.
Но наедине со мной Сашок иногда мог позволить себе послать в адрес нашего любовного романа какую-нибудь сальность или пошлую язвительную шуточку. Только я на друга не обижался – это он не от злобы, а от хорошей зависти, потому что, как ни крути, повезло не ему, а мне.
Вот и сегодня я, терзая педали новенького велосипеда, скромно пилил между тесных улочек бревенчатых домов, удерживая в руках большой пакет со всевозможными сластями: шоколадными конфетами, апельсинами и сочными персиками. От таких вкусных презентов, которые я старался приносить как можно чаще, Аннушка не рискнула отказаться – столь изысканных деликатесов в нашем городке в торговых точках днем с огнем не отыщешь. А вот мне это было, что два пальца об асфальт. Это добро – как и разные виды сыров, колбас, черной и красной икры, кофе и настоящего цейлонского чая - в нашем доме, сколько я себя помню, никогда не переводилось. Кто занимался подобным продовольственным обеспечением из предков, мне было как-то без разницы. Главное, это всегда было в наличии и никогда не пропадало.
По этому поводу Птица как-то раз заметил, язвительно философствуя: «Богат и разнообразен мир в доме Соколовских чудесами, большими и малыми», при этом со смаком впившись крепкими зубами в понравившийся ему огромный абрикос, съел его, старательно обгрыз косточку и добавил: «А кому-то на роду написано питаться простой картошкой с солеными огурцами», при этом озорно подмигнув моей маман.
Та была просто в ужасе от подобного высказывания, и, кстати, потом почти целый день мне пеняла, зачем я вожусь с этим обормотом, по которому тюрьма давно плачет. Очень трудно было её убедить, что Птица - парень, что надо, типа свой в доску и лишь только на него я могу положиться в любой трудной ситуации. Короче, я приложил всё своё красноречие, и поэтому проблем в дальнейшем с тем, приходить этому обалдую ко мне в гости или нет, больше не возникало. А что касается отца, то тот и вовсе никогда не вмешивался в мои дружеские отношения с Птицей – мы, мужчины, в подобных делах понимали друг друга.
Сегодня я немножко задержался, так получилось, необходимо было решить ряд отдельных вопросов – ведь мне скоро предстояло уезжать в Москву на занятия, - и поэтому безбожно опаздывал к нашему маленькому райскому шалашу. Тем более, мне вчера и вовсе не подфартило встретиться с любимой, что немножко напрягало: как она там без меня?
Тенистый дворик встретил меня тишиной, такой же тишиной встретила меня и гулкая прихожая, лишь только были слышны мои торопливые шаги по свежевымытому полу, и чуть поскрипывали половицы.
Аня сидела на маленьком продавленном диванчике, на этот раз не засуетилась как обычно, не бросилась мне навстречу, не защебетала весело и ласково, а только вскинула на меня свои изумительные зеленые глаза и зашмыгала смешно носиком.
-Что такое случилось, малыш? – Я присел рядом, обняв девушку за хрупкие плечи и ласково проведя ладонью по белокурой головке. – Кто обидел моё солнышко?
-Никто, - она снова смешно шмыгнула носиком.
-Может, ты обиделась на то, что меня вчера не было? Так извини. Я не смог тебя предупредить о том, что не приду. Утром отец сообщил, что едет в город по делам, и предложил прокатиться с ним. У меня там тоже была парочка нерешенных вопросов, так по мелочам, и я решил воспользоваться удобным моментом. Но зато я тебе подарочек купил. Смотри.
Виртуозным взмахом заправского фокусника из кармашка «джинсухи» я выудил легкий, почти невесомый радужной расцветки платочек. Он словно облачко взлетел ввысь над нами, всколыхнув воздух, а потом нежно и ласково опустился на круглые коленки девушки, пристраиваясь на них разноцветной скользящей змейкой.
-Спасибо, - выдохнула Аня, чмокнув меня в щечку. Было заметно, что этот небольшой презент порадовал её, настроение немного улучшилось, она даже улыбнулась, но чувствовалось, что девушку явно что-то тревожит. – Дело, Сережа, не в том, что ты вчера не пришел. Я понимаю, что у тебя и кроме меня есть свои дела. Ты мужчина, и не обязан передо мной отчитываться.
-Тогда почему ты надула свои прелестные губки и восхитительные глазки почти на мокром месте – того гляди, и заплачут?
Аня немного помолчала, нервно затеребив в руках платочек, и потом, опустив голову, еле слышно произнесла:
-Я беременна.
Я бы не сказал, что эта новость тут же вызвала у меня шок. Один раз Птица, смеясь над нашим, затянувшимся с его точки зрения, романом, высказал такое предположение: «А вдруг она залетит, твоя распрекрасная Анюта. Что ты тогда, мил друг, скажи, будешь делать?». «Женюсь», - ответил я, ибо был счастлив безмерно и ни о чем другом, кроме нашей любви мне и думать не хотелось – эйфория счастья меня просто подавляла.
Но трезвые рассуждения друга спустили меня с небес на землю: «То-то обрадуются твои родители, особенно мамаша, когда их драгоценный сыночек поднесет им такой неожиданный сюрпрайз. Не успел доучиться, встать, как говориться, на ноги, пойти на свой хлеб, и тут – на те вам: не хочу учиться, а хочу жениться, благословите». «А что, и благословят». «Ага, держи карман шире. Если б твоя избранница была из вашего, так сказать, круга, например, как Танька Шугова, прокурорская доченька или Сусанка Садовская, единственная и ненаглядная дочушка председателя райисполкома, то тебя бы женили и без твоего на то согласия. А тут ты в дом собираешься привести голь перекатную, сироту и без связей в обществе».
Я возмутился: «Ты, Сашка, плохо знаешь моих родителей. Я уверен, Аня им понравится». «Ага, а особенно их сестра шлюха. Да, хорошо породниться с такой семейкой. Твоих предков, да и тебя с ними заодно в нашем городке просто засмеют – сам рад не будешь. А, представляешь, каково это будет твоей ненаглядной Анечке. Это её просто убьёт. Так что, братан, ты как-нибудь поосторожнее с этим делом. Резвись, как говорится, в меру и не позволяй своему драгоценному «младшему брату» натворить дел. А то потом хлопот не оберешься».
Оказывается, не так-то легко было сдерживать себя, свои эмоции, когда они так и прут наружу. Мы были молодые, горячи, страстны и к тому же ещё неопытны в подобных вопросах, да и последствиях, как таковых, даже и не думали, идя на поводу у своей безудержной страсти, предавались сладкому греху неистово, нежно, безоглядно – и нам было воистину хорошо. Кто хоть однажды испытал нечто подобное, тот меня поймет.
-А ты уверена?
Наверное, этот вопрос и не один раз задавали своим возлюбленным, партнершам, короче все девушкам и женщинам мира их любимые или случайные партнеры по сексу, короче, мужчины. И я не стал тому исключением.
Но я произнёс эти слова, мне думается, как-то особенно, стараясь подобным высказыванием не обидеть любимую, а просто дать понять, что меня это интересует не меньше её, что я тоже взволнован и озабочен так же, как взволнована и озабочена она. И если это так, то я согласен, а вернее, просто обязан нести всю ответственность за происшедшее.
-У меня задержка уже больше месяца. А вчера меня просто тошнило, да и сегодня что-то мне не по себе. Так что, милый, мы попали…
Ну что я мог сказать на это? Поздравить Аннушку и себя заодно, что я скоро стану папочкой, а она мамочкой, и что у нас будет просто отличная семья. Ну, сказал. Не ожидал, что она тут же заплачет, уткнувшись мне в грудь мокрой от слёз мордашкой.
-Лариска знает?
-Ты что! Я боюсь ей даже про это говорить. Не представляю, что произойдёт, если я хоть заикнусь. Между нами и так кошка в последнее время пробежала.
-Но сказать все же придется, правда, только после того, как я поговорю со своими родителями.
-Ты собираешься это говорить своим родным? – Аня в ужасе отпрянула от меня. – Не надо. Ну, пожалуйста, не надо. Ты представляешь, что будет? Я просто умру от стыда.
-Ну, не говори глупостей. Какой это стыд. Наша любовь не может быть стыдом, и раз так все получилось, то мы просто обязаны стать сильнее и выдержать все, чтобы судьба нам не уготовила. Но я думаю, что не все так страшно. Мои родители люди интеллигентные, поймут нас. Вот поверь, все будет тип-топ. Вытри слезки и улыбнись. Смотри, какие конфетки я тебе принес. Ты такой вкуснятины, наверное, ещё никогда не пробовала…
Вышло не так, как хотел я, а так, как когда-то мне предсказал Сашка.
Предки были не то, что в шоке, а в сильнейшем ауте. Да что там аут! – сильнейший удар прямо под дых. Если отец и молчал, усевшись в кресле и переваривая полученную информацию с первых рук, то есть от меня, то мама стала бегать по дому туда-сюда, словно разгневанная фурия. И то, что я от неё услышал, лучше бы мне не слышать вовсе, отец и тот невольно морщился от столь разнообразного и многопланового количества нелицеприятных фраз.
Вот тебе и интеллигентная женщина – главный врач городской поликлиники. Но постепенно её, вызванная моим скромным заявлением, агрессия улетучилась, накал бушующих страстей спал, и мама, обхватив голову руками, обессилено рухнула на диван, правда, не переставая верещать:
-Ты меня убил, без скальпеля зарезал.
-А может, все и не так плохо, - подал голос отец, щелкнув зажигалкой и закурив.
Мама подняла голову с дивана и категорично произнесла:
-Я же просила, чтобы ты не курил в помещении, - но потом вдруг махнула рукой. – Делайте, что хотите – один пускай курит, где попало, а другой детей строгает, и тоже кому попало. Все вы моей смерти желаете.
-Не говори глупостей. Может, девочка ещё и не беременна. Съела что-то не то, вот её и затошнило. Ведь она не ходила к гинекологу на осмотр?
-Нет, Аня мне сказала, что стесняется.
-Ага, а ноги она раздвинуть не постеснялась, - мама уселась на диване, подправив легким взмахом рук растрепавшиеся от беготни по квартире волосы. – Сколько интересно лет этой твоей зазнобе?
-Осенью пойдет в десятый класс.
-Час от часу не легче, - выдохнула мама. – Ты подумай, отец, спутался с малолеткой. Что других более взрослых девочек, твоих погодков, в городе не нашлось? Ужас. Этот же подсудное дело. Надо что-то решать, и быстро.
-Кто она такая твоя принцесса? – спросил отец, гася сигарету в массивной из красной меди пепельнице. – Где живет? Надеюсь её родители порядочные люди?
Я постарался это объяснить более подробно, как мог и что знал по этому поводу.
Для предков эта информация оказалась не очень утешительной. Мама опять с ахами и вздохами покатилась на диван и застонала:
-Надо же, удружил сыночек. Если уж собрался кого-нибудь обрюхатить, так надо было делать это с умом. Лучше бы дочку Василия Степановича завалил, чем какую-то сиротку безродную.
-Мать, ты слышишь, что говоришь? Что о тебе Сергей подумает.
-Раньше надо было думать, а не лезть под юбку первой попавшейся бляди.
-Она не такая, - я встал в позу, решительно собираясь отстаивать честь и достоинство своей любимой. – Аня хорошая, добрая и славная. Я её люблю.
-Все они добрые и славные, а уж хорошие и подавно, когда появляется возможность любым способам прошмыгнуть в хорошую благополучную семью. Хороший способ нашла сучка – вмиг понесла. Может быть, даже не от тебя. А ты, как дурак, уши развесил. Любит он её, видите ли. Ты хоть знаешь, что такое любовь?
-Знаю, - ответил я с вызовом. – И ребенок это мой! А если даже и не мой, что с того? Я люблю Аню, а она меня.
-О, господи, - снова застонала мама, - за что мне это.
Тут отец неторопливо встал с кресла, отряхнул с брюк несуществующие пылинки, осмотрел внимательным серьёзным пронизывающим насквозь взором маму, свернувшуюся калачиком на диване, меня, застывшего в позе упрямого осла, и медленно произнес:
-Я выслушал вас, а теперь вы послушайте меня. После драки, как говориться, кулаками не машут. Может, девочка и не беременна вовсе. Надо завтра же это взять и проверить. Но сделать это нужно осторожно, не вызывая подозрений со стороны. Впрочем, мать, ты сама этим и займешься. Надеюсь, навыков не утратила. И не возникай. Если девочка вдруг и в самом деле понесла, то ты ведь не хочешь, чтобы нашего сына посадили за связь с несовершеннолетней.
-Ане уже есть шестнадцать, - встрял я.
-Пускай так, но это совершеннолетие так, условное, как бы для получения паспорта, а вот для законного вступления в половую связь требуется, как минимум, чтобы девочке было восемнадцать лет. Выходит ты, сын, сознательно нарушил закон, и твои действия, как не крути, попадают под статью. – Отец явно старался меня запугать и взять, как говориться, на понт. – Вдруг, окажется, что ты эту девочку принудил к сожительству или же попросту изнасиловал.
-Папа, как ты мог обо мне такое подумать. У нас с Аней все было по обоюдному согласию. Мы любим друг друга.
-Это как повернуть. Сегодня девочка говорит одно, а завтра скажет другое. Может быть, и не со зла, а под давлением своей старшей сестры. Как там её?
-Ларисы, - напомнил я.
-Вот, вот, Ларисы. С ней я буду говорить сам, как только мать обследует твою Аню. И если результат окажется положительным, то только тогда будем думать, что предпринимать дальше. Аборт или что там еще, но это уже матери решать.
-Какой такой аборт? – я побледнел. – Я ни на какой аборт не согласен. Я…
-А твое согласие нам и не нужно, - жестко и властно перебил меня отец. – Ты и так уже натворил дел выше крыши. Так что лучше не встревай. Мы, твои родители, и несем за тебя полную ответственность. И нам лучше знать, что делать в подобной ситуации. Ты, прежде всего, должен окончить учебу, а младенец, если появится на свет, свяжет тебя по рукам и ногам. Тем более, ни о какой женитьбе не может быть и речи. Ты – горькое дите, а твоя избранница тем более. Говоришь, что вы любите друг друга, так и любите себе на здоровье. Тебе учиться ещё три года, так вот пускай это станет вам проверкой на прочность. Если твоя девочка так хороша, как ты говоришь, то она вынуждена будет согласиться на аборт. Ради тебя и твоего большого будущего. Я все сказал. И никаких возражений не потерплю.
Да, с отцом моим не поспоришь, и если он сказал, то слово его – железо. Мне оставалось только одно: выйти вон, закрыться в своей комнате, напялить наушники и врубить музон на всю катушку. На душе было тошно, и я подумал, что старый альбом «Deep perple» «24 carat» будет в самый раз – мощная гитара Ритчи Блэкмора и сильный, слегка надрывный голос Яна Гиллана немного развеют меня и дадут возможность поразмыслить о дальнейшем.
И уже после первой песни на меня снизошло: надо срочно посоветоваться с Птицей. Может быть, он подскажет, как нам дальше быть, и даст дельный совет…».
| Марина Гербер # 25 марта 2012 в 18:00 +1 | ||
|
| Калита Сергей # 25 марта 2012 в 19:03 0 | ||
|
| Наталья Бугаре # 25 марта 2012 в 18:19 +1 | ||
|
| Калита Сергей # 25 марта 2012 в 19:04 0 | ||
|



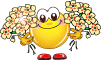

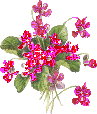 Ваше мнение дорогого стоит.
Ваше мнение дорогого стоит. 