Сотворение любви - Глава 1
15 октября 2018 -
Вера Голубкова

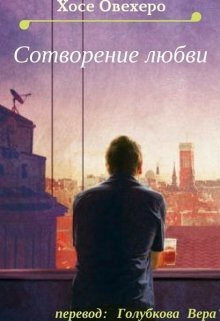
- Нет, и еще раз нет, – Хавьер швыряет салфетку на стол, отодвигает стул, собираясь встать из-за стола, но выжидает, поскольку сказанная Франом фраза вывела его из себя, в то же самое время, дав возможность излиться его собственному гневу. В противоположность Франу, ярость Хавьера была направлена не против всего мира, а персонально против каждого человека, этот мир составляющего. Вот почему, Фран, по обыкновению, выражает свое недовольство неторопливо, без лишних эмоций, практически оборачивая его на самого себя, потому что мир существует не для получения пинков от недовольных жизнью, в то время как Хавьер переживает свои треволнения и беспокойства, воспринимая их, как личное оскорбление. Он кричит, сопит, обижается, кидается на противника. Для него любой спор – боксерский поединок. – Еще и еще раз нет, это мы уже знаем.
- Дело в том, что все дерьмо, чистейший капитализм. У нас король-фашист и фашистское правительство...
- Так спорить нельзя. Если ты начинаешь с подобной чуши, лучше не продолжать.
- Наша экономика фашистская.
- И это говоришь ты? Ты, работающий в банке Сантандер. Ну, ни хрена себе! – ярится Хавьер. [прим: Банк Сантандер – один из крупнейших банков Испании и еврозоны; здесь и далее примечания переводчика]
- Именно поэтому и говорю. Я знаю систему изнутри. Все преступники.
- Тогда уходи оттуда. Никто не заставляет тебя работать в Сантандере.
- Но...
- И не доставай меня своей школой для детей, или университетом, потому что я слышу это с тех пор, как тебя знаю. Да здравствует революция!.. но частная школа для детей, английский в Лондоне и магистратура в...
- Английский в Нью-Йорке, мои дети предпочитают столицу империи. Они знают, чего хотят.
- Пускай Нью-Йорк. Думаешь, мне от этого легче? Да пошел ты к черту! Когда сможешь сказать что-нибудь путное, возвращайся, милости просим.
Фран, еле заметно улыбаясь, уставился на дно стакана. Что он делал бы, уволившись из банка? И как продолжать жить вот так же пассивно-несчастным?
Я люблю наши вечно повторяющиеся бесполезные споры, пристрастие, напоминающее о том, кто мы есть. Мы спорим не для того, чтобы прийти к какому-то определенному выводу, а для того, чтобы послушать как другой оспаривает любой наш аргумент, и знать, что он не оставит нас одних с нашими внутренними противоречиями.
Нам всем уже за сорок, и впереди маячит падение с высот, конечно, если кто-то этих высот достиг. Годы сказываются и на наших возможностях, что является верным признаком перемен. Если хорошенько посмотреть, сороковник это еще не все. Иногда мы поднимаем голову, спрашивая себя: “А почему бы и нет? Ведь я все еще в игре”. Мы, как борзые, вынюхиваем след среди заросших кустарником, забытых и заброшенных дорог, а ведь еще несколько лет назад мы ехали по этим самым дорогам, не решаясь с них свернуть. И даже после того, как забрезжила возможность поворота, мы с удовольствием продолжаем обсасывать наши жизни, не слишком счастливые, но и не очень несчастные. В меру удовлетворенные, мы мусолим наши мечты.
Сорок лет... Сволочной, проклятый возраст. Это не отрочество, естественно, но и не старость. В юности ты чувствуешь творческую злобу, которая не связывает тебя ни с местом, ни с воспоминаниями о, так называемых, лучших временах. И даже испытываемый тобой страх есть не что иное, как топливо, что поддерживает в тебе живое начало, заставляющее искать входную дверь в жизнь. Ты впадаешь в уныние, думая, что мир к тебе несправедлив, что ты всего лишь подросток, и в этом виноваты другие. У старика же было время пройти по жизни, взваливая на себя груз вины, и идти дальше, приняв эту вину и смирившись с собственными ограничениями... И теперь, именно сейчас, когда я подумал об этом, Хавьер оскорбил Франа, потому что в том, что он сказал, нет никакого смысла. А ведь нет никого более убежденного в смысле вещей, чем Хавьер. Он упрекнул Франа в радикализме, потому что в этом случае ему не нужно было притворяться. “Раз все дерьмо, чего ты шебуршишься?” – сказал он, тыча в него пальцем. Мне так хочется, любя, обнять их всех и утешить, потому что они такие растерянные. В этот час огни в соседних домах и на колокольне Святого Гаэтано потушены, единственный в округе свет льется с моей террасы. Мы – плот “Медузы” в темном океане нашего опьянения. [прим:“Плот “Медузы” – картина французского художника Теодоро Жерико, поводом для написания послужила морская катастрофа 1816г, когда фрегат “Медуза” сел на мель, и экипаж и пассажиры спасались на плоту]
Я подошел к Алисии сзади. Она, как правило, не вмешивается в наши споры, разве только сказать, что мы напоминаем ей ее семью. Неважно, сколько времени прошло, но их ссора, кажется, затянулась. Алисия слишком много курит, покусывая заусеницы и изредка прищелкивая языком. Вечно кажется, что эта женщина вот-вот куда-нибудь уйдет, будто ее ждут в другом месте, где ей и впрямь было бы гораздо приятнее. Но обычно она уходит самой последней, насладившись сполна ночью, нашим обществом и звучанием голосов. Я положил руку ей на плечо и, наклонившись к самому уху, прошептал: “Останешься на ночь?” Она, не оборачиваясь, подняла стакан, будто чокаясь, и громко ответила: “Я не сумасшедшая”.
Как жаль. Мне хотелось бы, чтобы Алисия осталась сегодня ночью, обнимала бы меня, стоя у перил террасы, как в театральной ложе. Мы заглянули бы с ней за развернутые декорации, чтобы в них проявить наши фантазии. Мне всегда нравилось жить на верхних этажах, или в мансардах, потому что из их окошек, с балконов и террас виден мир, который не принадлежит тебе, но позволяет им наслаждаться. У тебя нет никаких забот, никто не просит тебя починить крышу, или настроить антенну. Здесь есть на что полюбоваться, и когда ты заглядываешь в это необъятное пространство, то чувствуешь себя землевладельцем, который шагает в воскресенье по полю, куря на ходу и осматривая владения, которые не должен ни орошать, ни возделывать, и с которых он не должен собирать урожай.
А еще мне всегда нравились женщины, позволяющие наслаждаться их обществом, не заставляя постоянно выполнять тяжкую работу, зачастую обременительную, требующую долгого совместного проживания и отношений, которые, предположительно, должны расти и процветать. А для этого отношения, как и поля, необходимо возделывать и орошать, и даже сбор урожая может оказаться утомительным, хотя и обильным. Я – один из тех мужчин, о которых некоторые женщины сказали бы, что они боятся обязательств. Я не отрицаю этого, страх – это здоровая реакция любого живого существа на опасность. Страх защищает и спасает нас. Тот, кто не испытывает чувства страха тупо уничтожает себя. Честь и хвала тому, кто смел и жертвует собой ради нас! Но у меня нет призвания ни к мученичеству, ни к геройству. Мне доставляет удовольствие лишь смотреть на города с высоты и обнимать всегда молчаливых женщин, не произносящих ни слова. Или же тех, кто, однажды заикнувшись о чем-то, потом сожалеет об этом. Я обожаю замужних женщин.
Алисия села, слегка наклонив голову, и улыбнулась, не знаю чему. То ли тому, что слышала, то ли какому-то воспоминанию. Держа в одной руке бокал с напитком, она неторопливо помешала его содержимое указательным пальчиком другой руки, а затем рассеянно облизнула палец как в начальном кадре порнофильма. Она даже не заметила, что я смотрю на нее. Жена Хавьера что-то сказала, сидя за столом, правда, я не расслышал, что, но Алисия искренне рассмеялась над услышанным. Похоже жена Хавьера была единственной из нас, кто к этому времени продолжал держаться бодрецом. Я не удивился бы, если бы она предложила напоследок, как и в прошлые посиделки, выпить “на посошок” в каком-нибудь круглосуточно открытом заведенье. “На посошок” – это потребность ненадолго продлить мгновения жизни, когда мы остановили свой бег и забыли о делах и личных проблемах, потому что несмотря на то, что мы знаем друг друга тысячу лет, на дружеский вопрос “Как дела?”, мы упорно продолжаем отвечать “Нормально”.
Уже поздно, и уже рано. Фран поднимается, медленно поворачивается, достает из кармана рубашки пачку сигарет и разглядывает ее содержимое, словно удостоверяясь в затянувшихся надолго неудачах, а затем сминает и прячет обратно в карман. “Ладно, мы, пожалуй, пойдем”, – говорит он, ловко превращая колебание в утверждение, и советуясь с женой Хавьера, глядя на нее поверх очков. Жена Хавьера встает и берет Франа под руку, словно защищая его. Она, как всегда, очень приветлива с ним, будто для того, чтобы успокоить и утешить его после нападок мужа. А, может быть, просто потому, что знает – Франу необходимы эти выпады Хавьера, как наказание, как покаяние за противоречивую жизнь. Жена Хавьера проявляет к Франу нежность, гладит его, как гладила бы и ласкала раненое животное.
Мы расстаемся: объятия более долгие, чем при встрече, когда наши движения были быстрее, а слова несерьезнее и легковеснее. Столь же долгое объятие Алисии и два ее легких поцелуя в щечку ровным счетом ничего не означают, ее дыхание ничего не обещает, а грудь бесчувственна и не возбуждает.
Очень скоро я и не вспомню, кто ушел последним, и какими словами мы обменялись. Мой разум затуманен, голова словно ватная. Я должен был бы сказать, как тряпка, но это было бы чересчур. Мне хорошо. Я сознаю, что мне хорошо. Я поднялся на опустевшую теперь террасу, по-особенному тихую и безмятежную, словно уход моих друзей не только унес с собой их голоса, но и поглотил все иные звуки, и будто пустота, оставшаяся за их спинами, впитала в себя суть вещей. Меня шатает, но я не совсем пьян. Бокалы, тарелки, бутылки, пепельницы, смятые салфетки, остатки креветок и хлеба, шкурки от свиной колбасы теперь кажутся какими-то жалкими, старыми. Они предвещают похмелье и омерзительный привкус во рту. Я прислоняюсь к перилам террасы и снова смотрю на южную часть города на другом берегу реки. Где-то там, в матовом свете утренней зари, угадывается окраина города, там заканчиваются здания, и начинается пустошь.
Пронзительно звонит телефон. В это время мне никто не звонит. Телефонный звонок выводит меня из себя, и я решаю не брать трубку, потому что в эту самую минуту рождается утро, и в месте его появления происходит взрыв. Оранжевая вспышка поджигает облака, делая их похожими на театральный занавес в огнях рампы. Этот звонок мешает мне погрузиться целиком в свои мысли, но на губах моих застыла благостная улыбка. Думаю, со стороны все могло бы показаться каким-то простодушно-наивным, но это всего лишь проявление спокойствия и умиротворения. Отсюда, с террасы, мне отлично виден Мадрид от Холма Ангелов с одной стороны до горного массива Сьерра-де-Гуадаррама с другой, на востоке виден Вальекас. [прим: Холм Ангелов – географический центр Испании, находится в 10 км к югу от Мадрида, в окрестностях Хетафе; Вальекас – один из мадридских районов] И только северо-восток скрыт от меня какими-то высоченными зданиями. Видны мне и различные скаты крыш. При свете дня, когда солнце стоит в зените, они смутно напоминают картину Сезанна. Видны и башни, и колокольни, и антенны. Виден и этот рассвет, которому только предстоит достичь своего апогея и в логичном своем завершении стать, в частности, предвестником Иеговы или Зевса, или еще какого-нибудь другого громогласного божества.
А телефон снова и снова трещит, ежеминутно передергивая этот миг и нарушая картину. Я уже смотрю на все не так, как раньше – удовлетворенно, спокойно, почти трогательно и расслабленно – теперь я жду следующего громкого звонка, все того же резкого “дзинь”, который звучит весьма пронзительно из-за неисправности телефона, а у меня не хватает терпения поменять звонок на более приятный.
Я спускаюсь в поисках телефона. Вероятно, кто-то из моих друзей что-то забыл – сумку, а, может, ключи от машины – и теперь возвращается за ними. Кто бы то ни был, скорее всего, он сядет пропустить последний стаканчик “бурбона”. А, быть может, это Алисия, которой вздумалось прийти и разделить со мной кровать, уняв мою дрожь, вызванную предрассветной сыростью. Хотя я не хочу заниматься с ней любовью в эти утренние часы с чумовой, будто набитой ватой, головой, но мне чертовски нравится мысль спать с ней в обнимку, прижавшись лицом к ее затылку и положив руки на ее обнаженный живот. Я снова не спеша поднимаюсь по лестнице с радиотелефоном в руке. Наверняка телефон перестанет звонить, прежде чем я поднимусь на террасу, и мне не придется отвечать. Так и произошло, но после короткого затишья телефон затрещал снова. Там, наверху, под открытым небом, во вселенской предрассветной тишине, звонок звучал еще пронзительней и был еще неуместнее.
- Да.
- Самуэль?
- Да, это я.
- Это Луис.
Воцарилась тишина, и я успел подумать, что это не кто-то из моих друзей. В моем мозгу прозвучал сигнал тревоги, такой же, какой звучит, когда ты в полночь слышишь приближающийся вой полицейской сирены или скорой помощи и понимаешь, что это может быть неожиданным предупреждением о том, что в любую секунду порядок вещей может нарушиться. Раньше все шло по накатанной колее, и я приноровился к монотонности дней: по утрам я ел однообразный завтрак, по вечерам шел спать в одиночестве, зная, что за день не произошло ничего примечательного. Но вот этот звонок незнакомца в пять или шесть часов утра может возвещать только о важной перемене, которая, возможно, перевернет всю жизнь. Того, что было, уже не будет, и книга, которую мы читали, превратится вдруг в историю, полностью отличную от той, что мы ожидали. Впрочем, хочется верить, что это будет ложная тревога. Мне был незнаком номер, высвечивающийся на экране, не узнал я и голос. У меня не было близких друзей по имени Луис, и я ничего не испытывал ни от долгого молчания сначала, ни от чьих-то всхлипываний потом, ни от высмаркиваний кого-то, с кем приключилась беда. Я не стану ничего узнавать, потому что непонимание вот-вот разрушится, и этот человек извинится, повесит трубку и снова станет набирать номер, чтобы начать разговор, свидетелем которого я уже не буду.
- Что случилось?
- Я сожалею, Самуэль, очень сожалею.
- Мне кажется, Вы ошиблись, – говорю я, но мое убеждение рушится, потому что я вдруг осознал, что этот человек назвал меня по имени.
- Клара. Сегодня вечером. Совсем недавно. Черт, ты не представляешь, как я сожалею.
- Клара, – повторяю я и копаюсь в памяти, думая, что не хочу, чтобы он повесил трубку. Прежде чем отправиться спать, мне необходимо выслушать эту чужую историю, не мою, именно для того, чтобы она стала моей. Точно также мы читаем романы, чтобы добавить в свою жизнь какие-то события, яркие истории, не причиняющие боли. Мы думаем о них, потому что не можем соприкоснуться с ними в реальности. Я хочу узнать, кто такая Клара, чем она занималась, какие отношения связывали меня с ней, и почему я должен сожалеть об этом.
- Мы никогда не встречались, но Клара часто рассказывала о тебе. Часто, очень часто. Черт. А теперь, подумать только.
- Так что же Клара?
- Она ехала в Мадрид по шоссе из Ла Коруньи. Чтобы объехать пешехода, которому не пришло в голову ничего лучше, чем перебежать через дорогу... нужно совсем спятить, чтобы перебегать через шоссе... В общем, она хотела его объехать и не справилась с управлением.
- Но с ней все в порядке?
- Она погибла, вот что я тебе скажу. Погибла. Это просто ужасно, чудовищно. Я не могу в это поверить. Клара мертва.
Теперь молчали мы оба. Я не знал, из-за чего мой собеседник хранил молчание. Плакал ли он или сдерживал слезы, понятия не имею, но в трубке не слышались ни всхлипы, ни прерывистое дыхание. В небе стремительно гонялись друг за другом два стрижа. Хотел бы я знать, что означали эти гонки – игру, соперничество, или любовное ухаживание. Что было бы, поймай преследователь гонимого? Но, похоже, этому никогда не бывать, словно есть в стрижиной жизни неписаный закон: летящему никогда не догнать другого летуна, даже если он быстрее: заяц, сколько ни беги, не обгонит черепаху.
- Ты здесь?
Я утвердительно промычал, вертя головой и продолжая с легким внутренним волнением следить за двумя первыми утренними стрижами.
- Думаю, ты не придешь, но, чтобы ты знал, кремация – послезавтра в одиннадцать.
- В субботу.
- Да… в субботу. У тебя есть на чем записать? Я дам тебе адрес морга.
- Давай, – говорю я, мысленно беря на заметку адрес.
- Не думаю, что я приду. Я тоже почти никого не знаю. Ладно, она тебе, вероятно, говорила, какие у нас с ней были отношения, весьма отдаленные, хотя мы часто болтали по телефону, правда, в последнее время гораздо реже.
- Но, ты же недавно плакал.
- Оно и понятно, впрочем, не знаю, понятно ли, но, черт возьми, ей было тридцать лет, и я очень-очень сильно любил ее. А, кроме того, я плакал из-за тебя, из-за вас... представляю, что теперь будет…
- Даже не знаю, что сказать.
- Догадываюсь. Что тут скажешь? Разве что ты должен был бы налететь на этого сукина сына, сбить с ног, пройти по его черепушке и раздавить мозги, так ведь?
- Не знаю. Я, правда, не знаю.
- Ладно, я просто хотел выговориться, рассказать тебе... я знал, что больше никто… Ну, в общем, звони мне, когда захочешь. Понимаю, мы никогда не виделись, но какая разница? Придешь ко мне, и мы поговорим, или выкурим косячок. Или выясним, где живет этот урод, и, по крайней мере, набьем ему морду.
- Какой урод?
- Ну тот, что перебегал через шоссе. Не парься, это была всего лишь задумка, шутка, впрочем, не шутка – ярость. Черт, мне так жаль, на самом деле, жаль. Ты расскажешь жене?
- Жене?
- Извини, я болтаю чушь. У тебя же есть мой номер в телефоне? Серьезно, позвони мне, и мы поговорим. Черт, мне так жаль. Блин, ну и дела, вот так вот, вдруг.
Я оставил телефон на столе, среди стаканов и грязных тарелок. Небо изменилось всего за несколько минут. Теперь эта слабо тлеющая необъятная даль была скрыта за огромными пепельно-серыми тучами. Я снова покопошился в своей памяти, разглядывая лица, которые исчезли из моей жизни: моя всегдашняя подружка, переехавшая сначала в другой город, а потом и в другую страну, вышедшая замуж за мужика, которого я терпеть не мог. Та самая, которая глупо злилась на меня из-за простого ожидания и не разговаривала со мной. Снова и снова проходили передо мной лица и имена подружек и любовниц, этакий пожелтевший фотоальбом, заставляющий меня чувствовать себя старше, чем я есть на самом деле. Я отыскивал в памяти вырванные из жизни страницы. Я был абсолютно уверен в том, что они содержали чей-то давно позабытый образ. Было у меня и несколько эпизодических женщин, не оставивших ни шрамов, ни следов – так, короткие приключения или мимолетные увлечения. Как же их звали? Какой у них был голос, какая улыбка? Хоть я и тянул время, пытаясь восстановить свои сентиментальные истории, собрать воедино эту беспорядочную головоломку, складывая неподходящие детали, я отлично понимал, что все мои усилия напрасны: я был уверен в том, что никогда не был знаком ни с какой Кларой.
Рейтинг: 0
370 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

