32. И невозможное возможно, коли правда борет ложь
18 ноября 2015 -
Владимир Радимиров

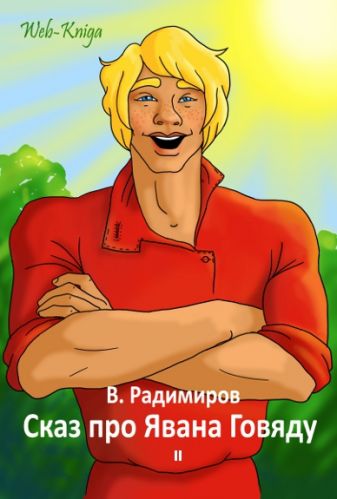
Шёл, значит, шёл Яваха и дошёл наконец до «Чёрного Мака». На озере стояла темень, и только сам терем огоньками озарялся, водное пространство слегка освещая. И когда Яван на мосточек хотел уже ступить и по нему пойти, как вдруг слышит – кто-то его окликает с бережка. Пригляделся туда Ваня – мать честная! быть того не может! – знакомая ведь рожа. Узрел он своего служивого дружка, раздолбая Ужавлишка, который в сумраке на набережной сидел, свесив ноги, и лицезрел водные дороги.
Ну Ванька, конечно, своё прибытие до дому отложил и к Ужавлу заспешил. Дюже интересно ему стало, что с чёртиком произошло, и как он остался живой. Смотрит, а знакомец его бутыль с каким-то пойлом держит в руках. Глянул он косо на Явана, ко рту горлышком приложился – будь-буль-буль оттуда да и скривился.
– Здорово живёшь, Ужавл! – Ванька обрадовался. – Я-то думал, ты уже того... а ты вон чего... Выходит, жив, чертяка!
Чертишка на богатыря зыркнул, рыгнул и рукою отмахнул. «Ты, – говорит, – Ваня, всё смеёшься, а зато мне зубоскалить охоты нету – грусть-тоска меня одолевает смертная, вот я зельем её и запиваю».
– А что лакаешь-то? Небось образией раны души смазываешь?
– Нет, не образия это – брога. Запрещено пить её строго.
– А где ты достал эту пакость?
– За городским порогом.
– Так ведь для вас образия вроде лучше, а?
– Э-э, Яван, мне сейчас не лучше нужно, а круче. Образия душу веселит да башку оживляет, а мне не оживить ныне мозги надобно, а затемнить их до мрака. Я ведь желаю всё случившееся на этом балу забыть. Хочу дураком немного побыть. А-а, чего там!..
И он опять рукою махнул и из горла хлебнул.
– Ну-ну, и чего так-то?
– Как чего? Ты видел, что эти великосветские твари со мной сделали, как унизили меня, окрутили, в посмешище превратили? Особенно та сучища рыжая, чародейка? Я ж к ней с чистыми – почти что – намерениями подкатился. А она... налетела, как орлица, высосала из меня – вместе с кроварным счётом! – всю силу, да вдобавок публику моим ничтожеством насмешила. Ишь, игрушку себе нашли, пошлые богачи!
И чёрта от бессильной злобы аж передёрнуло, едва он пережитые обиды припомнил.
– У-у, погодите у меня, вельможи! – чуть не вылез он, лютуя, из кожи. – И я когда-нибудь вельможей стану. Ещё как стану! На любую подлость пойду, ниже грязи упаду, хитрость любую измыслю – а доберусь до выси! Ну, тогда они у меня попляшут! А рыжая эта...
И он зубами заскрипел, сатанея.
– Страшно, ох страшно я отомщу! Голой и безрогой за город её пущу! Самую отвратную подберу ей харю! Пускай в убожестве помыкается, тварь!
Стало Явану скучновато с этим мстителем пьяным. И подумал он вот что: никому ведь невмочь грешной душе помочь, ежели она не наберётся ума да не повернёт в Ра сама. А Ужавлова душонка совсем другого хотела: чертовской она желала страсти, вот и одолели его напасти.
– Ладно, пойду я, – поднялся с места Яван, но Ужавл его за руку удержал.
– Погоди, Ваня, посиди, – его он попросил. – Видишь – плохо мне, очень, вишь, худо... Э-э-э! Совсем я в жизни запутался. Завидую я тебе, богатырь – непонятный для меня ты. Вот пришёл к нам в пекло босой, в одной лишь паршивой шкуре, а – вишь ты! – нет тут сильнее фигуры! Даже князья и сам царь тебя опасаются. А я... У-у! Ты не представляешь, когда душу твою с телом на пузыри разрывают – как это больно!
– А это, брат, ты сам над сей закавыкой подумай, – решительно поднялся на ноги Яван. – Задумался – и то хорошо. А с меня довольно. Недосуг мне – задание на мне...
– Ну-ну? – Ужавл заинтересовался. – И куда тебя царь послал?
– Куда-куда? На кудыкину гору, купить ворох горя у горбуна Ягора.
– Что, далеко?
– А чёрт его даже не знает. И далеко, и близко, и высоко, и низко, да в придачу ещё и поплутаю... Короче, куда сам Ляд телят не гонял.
– Ну, ни пуха тебе, ни пера!
– К чертям собачьим!.. Хотя, я вроде и так у них в гостях... Ну ладно, Ужавл – на всякий случай прощай, адский ты недочеловек, бедный духовный калека! Давай пять!
Ужавл сидя протянул Ванюхе руку, а тот её пожал и напоследок сказал:
– Лихом не поминай! И главное – думать не забывай!.
. Пока.
На месте затем повернулся, к мостку сбежал да и пошёл по нему к терему, напевая:
Ой, да по речке, да по вонючке
Сизый селезень плывёт!
И не зрит он из-за тучки
Ясна сокола полёт...
Прошлёпал он по шаткому мостику гренадёрским шагом и вскорости в воротах укрылся, а Ужавл посидел ещё на бережку, посидел, брогу допил, сморщился, пустую бутыль в озеро бросил и таки слова молвил:
– А чё тут ещё думать... Думай, не думай – мудрым я не буду. За нас уже всё продумали. И как ни крутись, как ни вертись, а всё равно лишь дряхлость маячит впереди...
И он сплюнул в сердцах и на ноги нетвёрдо поднялся.
– Всё… С меня довольно… Поищите другого лоха, – пробормотал он. – А я здесь не останусь. Улучу момент и на острова подамся. Буду там коз пасти и это... душу постараюсь спасти. И-ик!
И шатаясь, петляя, падая и вставая, в направлении города он заковылял.
Между тем Яван, открывши двери в Борьянин терем и туда войдя, обнаружил у входа бодрствующего Сильвана, который на посту стоял и Яваху дожидался. Прочие же ватажники времени попусту не теряли и героически все спали.
– Ва-а, уж и не чаял я живым тебя увидеть, Ваня! – с явным удовлетворением пробурчал лешак. – Чуял я, что сама смертушка вкруг тебя похаживала, да смелость твою она уважила и с носом осталась. Или я не угадал?
– Точно. И впрямь был момент, когда я чуть было не заледенел.
И Яваха всё Сильвану рассказал досконально. Упомянул, само собой, и о последнем царском задании и попросил у братана совета, как пройти испытание это.
Задумался лешачина не на шутку, а через одну-другую минутку лишь головою он невесело покачал да басом раскатистым пробурчал:
– Говорил я тебе, Ваня, что непосильным будет третье заданье? Говорил?
– Ну, говорил...
– Вот, по-моему всё и случилось! Да-а... В общем, как ты хошь себе, Ваня, а... невыполнимое это задание. Вот тебе и весь мой ответ.
И леший руки в стороны развёл виновато.
– Нет! – стукнул кулаком по столу Ваня. – Не согласен. Кажется, я догадываюсь, где искать...
И он потылицу себе почесал с видом не слишком задорным.
– Конечно, испытание сиё на трезвый взгляд невозможное, но отступать мне не гоже. Я ведь непременно победить должен.
И рассказал Яван Сильвану о своём туманном плане – что направляется он в пирамиду Двавлову, в золотой её колпак. Там, мол, и будет искать, чего царь не может знать. А чтобы наверняка ему туда просочиться, он невидимкой оборотится: шапку-невидимку наденет и проскользнёт туда незримее тени... Наказал ещё Яван братану не спать и на помощь ему поспешать, буде в том надобность возникнет. С этими словами взял он со стола нож, в стенку его вонзил и кружку под ним поставил. «Ты, братуха, – сказал он лешаку, – не зевай, на ножик поглядай, а ежели увидишь, что кровь с него капать станет, то всё бросай и на помощь мне кидайся».
Затем он на ноги встал, с побратимом обнялся, шапку на голову натянул и... будто сгинул.
. ..Ночь была ещё темна. Город спал. Везде стояла необычная для этого буйного логова тишина. На дальних же от озера улицах освещение было тусклым, и где-то там, в глубине мрака почти незримая, покоилась на срединном острове зловещая Двавлова пирамида. Лишь глаз рубиновый на ближней её грани, словно состоя в охране, слегка мерцал и виды ночи пекельной мертвенно созерцал.
Сел Яван на летульчик и, словно бабочка, полетел на рубиновый маяк, а вскоре, до места добравшись и возле дыры в защитном поле оказавшись, неслышно на плиты ступил и к выполнению задания приступил. По-прежнему свет из отверстия купольного на площадку струился, а возле входа в логово Двавла уже не двое, а пятеро стражей стояло, на сей раз обычных биторванов, а не прежних истуканов.
Очень мягко и сторожко, ступая по гладким плитам как кошка, Явахаж стоявшими и стоя дремавшими стражами прокрался и по лесенке вверх поднялся.
Внутри купола никого не было, лишь круглый золотой стол посреди залы блистал, да вокруг него в беспорядке дюжина кресел стояла, а пара-тройка из них на полу лежала. Очень было похоже, что Двавлова камарилья в великой спешке резиденцию свою покинула: спешили вельможи рогатые и безрогие поскорее унести ноги.
По-прежнему ступая на носочках, сделал Ваня вокруг стола кружочек, Двавлов трон к столу придвинул, сел на него и ноги на стол закинул. Да и принялся ждать-пожидать, когда снопище силы с мучилища шандарахнет. Этого ему только было и надо, ибо – страшно даже об этом было подумать! – в бездну выси небесной решил Ваня заглянуть.
Долгонько он этак посиживал, а ничего-то не происходило. Стали Ваню мысли даже одолевать: а вдруг, думает, в связи с бегством главного идеиста, по чьей-либо негаданной милости эта жуткая давильня да остановилась? Придётся тогда в спешном порядке менять весь план, подумал Яван. И вдруг – шарах!!! – ярчайшим взрывом светоярым Ванюху на ноги кинуло, и ленивость его вмиг покинула. Разверзлись над главой удальца дальние-передальние небеса, и озарила его душу, от здешнего быта изнемогающую, чудесная звезда, дивным светом сияющая.
Вперил Яваха в звезду привлекательную расширенные до невозможности очи и стал глядеть на неё сквозь световой поток. И, казалось, что навеки остановилось прекрасное то мгновение, прекратилось окончательно течение нудного времени и, в полном разума забвении, оказался Ванёк в экстатическом восхищении. Смотрит он, ошалевши, ввысь и ничего другого не видит – лишь один этот чудо-магнит, его душу манивший! Сердце у Вани зашлось, никаких сил противления у него не было, внутри у него что-то запело и... душа его вон отлетела.
Отлетело, значит, внутреннее Ванино содержание от формы его бренной и с немыслимой скоростью по слепящему лучу понеслось. Вроде как даже вознеслось... И в тот же самый миг, а может быть и сига быстрее, оказался Яван в дырище блистающей, в бездне веселья и спокойствия непередаваемого, ощущением мощи питаемого. «Вот он, предел всех стремлений! – не мысль в душе его вспыхнула, а ощущение. – Вот он, стержень крепкий Вселенной!..»
Но только он радость вечную своей душой ощутил, как вдруг чудовищной силы вихрь его вверх закрутил. И была мощь того вихря необоримая совершенно!
И пропал блистающий мир постепенно. Померк он и исчез, как будто не было его в помине. Вихрь же непостижимый Явана во что-то неописуемое низринул. Или занёс. Или доставил.
Да там его и оставил.
Вчувствовался Яван в место, в котором нежданно оказался, и пуще всего диву дался. В самом ли деле али во сне, а ощутил он себя... на каком-то абсолютном дне.
Вот что ему там открылось:
Полнейшая вокруг была чернота.
И абсолютное безмолвие, немота.
И тягчайшая липкая вязкость.
И стреножащий лютый хлад.
И муки жажды палящей.
И грызущий безжалостно глад.
И ужасающе-жмущая жуть –
Нечем и нечего было вдохнуть.
А ещё бремя полного безвременья душу его вмиг придавило. И вдобавок бессмысленно-бесполезная вторглась в неё маята.
Да – абсолютная везде была пустота. Ничто. Ничего. Никак... Только где-то внутри утянутой в трясину души – ужас и мрак. И ещё сознание своего пропавшего бытия в этой потрясающей пропасти, немыслимой дыре и провале... Мыслить по-прежнему было нельзя, но ощущение полной безысходности усилилось неимоверно. Страдания Явана были воистину безмерными, а поскольку времени там не было, то они показались ему вечными. Не мгновения, не минуты, не часы, не года – и даже не века и эпохи! – а навсегда.
Навсегда!!! Навсегда...
И наконец, страшнейшее изо всех, открылось последнее леденящее душу ощущение – одиночества. Да, он был там один, выпавший из Вселенной и преданный полному и окончательному забвению. А вместе с этим жутким ощущением пришла и его тень – сожаление. Горькое и мучительное сожаление о непоправимой ошибке, ибо ни вернуть, ни исправить ничего было невозможно. Всё было тщетно. Всё было зря. Всё ложно. И абсолютно, казалось, безбожно.
Никогда, нигде и ничего Яван так не пугался, как этой тихой, бесцельной пустоты.
Но сдаваться он не собирался, а попытался напрячь своё сознающее естество. Изо всех, что были в памяти, сил. Но... даже мизера какого-либо движения не ощутил. И это оказалось зря. Он абсолютно, совершенно, полностью там застрял.
И взмолился тогда Яван всей душой к Богу. Не словом, не мыслью он взмолился, а чем-то более ёмким и глубоким, что при жизни его прежней как бы спало и никак вроде себя не проявляло.
И в тот же самый миг что-то в его восприятии изменилось. По-прежнему ни увидеть, ни пощупать это было нельзя, но Яван точно знал: нечто близ него появилось, – нечто загадочное и странное.
– Кто здесь? – Яван в душе своей воскликнул и понял отчётливо, что опять он мог мыслить.
Тишина, тишина, тишина...
А потом пришёл ответ, невероятно громогремящий, будто вся пустота там взорвалась и звук страшного взрыва отразила собою:
– НИКТО-О-О-О!!!
Взволновался Яван несказанно. И обрадовался в придачу всею душою. Понял он, что кроме него, здесь есть ещё кто-то, что-то или некто, и этот второй был вовсе не никем, а кем-то.
– Но я тебя слышу и чувствую, – подумал Яван несогласно. – Значит, ты есть.
– Меня нет! – пришёл грохочущий ответ, но уже потише и поближе.
– Ладно, пусть так, – согласился Яван, – пускай для тебя тебя нету. Но для меня ты есть. Поэтому ещё раз тебя спрашиваю: ты кто, Никто?
И Никто ему ответил нараспев:
Я тот,
кого давно уж нет,
Кого отринул
Белый Свет,
Чьё имя позабыто,
Кого не кружит Вита.
Странное дело, но голос невидимки ещё утишился и ещё ближе к Явану приблизился.
– Вот ты-то мне и нужен! – пуще прежнего обрадовался Ваня. – Я пришёл за тобою.
Долго ему никто не отвечал. Подумал даже Яван, что этот некто испугался и прочь ретировался, но наконец совершенно нормальный и приятный голос где-то рядом с ним сказал с энтузиазмом:
– Ну что ж, мой друг – я прочь уйти согласен. Возьми меня отсюда, человек. Твоим рабом готов я стать навек.
– Вот и ладно, – ответил ему Ваня. – Только раба мне не надо. А вот в качестве товарища я тебя захвачу. Мне нужно предъявить твою особу одному царю.
– Царю? Фу-у! – недовольно фыркнул Никто. – Несчастное сословие, дутые ничтожества. Рабы страсти и слуги власти... А что заставило тебя сюда попасть?
И Яван рассказал ему всё без утайки: и о пекельных приключениях, и о своих умозаключениях, и о Чёрном Царе, и о Борьяне, и о трёх царских заданиях.
Никто слушал внимательно, то и дело Явана перебивая, с вопросами встревая, иногда изрекая удивлённые восклицания и дельные отпуская замечания. Чувствовалось, что мотивы поведения людей он знал досконально. Ванино же поведение он назвал довольно разумным и похвальным.
Изложив вкратце всю имевшуюся у него информацию, Яван от проявления любопытства не удержался и такой вопрос собеседнику задал:
– А скажи-ка мне, Никто – кем ты был, когда на свете жил?
И тот скромно эдак Ванюше ответил:
– Я-то? Хм. Я был обыкновенным... властителем Вселенной.
Тут уж Яван позволил себе не поверить. И хотя открыто о своих сомнениях он сказать постеснялся, но Никто обо всём догадался и добавил после паузы как ни в чём не бывало:
– Вижу, что мне ты не веришь, ибо на взгляд сторонний сказанное мной достоверностью не отличается. Однако это правда. Давным-давно ведь всё происходило, и было это так...
И он поведал Явану своё жизненное повествование:
Когда Вневременный и Творчеством обильный
Вселенский сад на поле воли посадил,
Я самым первым был, и этот мир любил я,
И лучезарно сердцем радостным светил.
Я молод был!
Я был горяч!
Я бурно жил!
Я нёсся вскачь!
О, это упоение твореньем,
Лелеемое вместе с самомненьем!
Мне удавалось многое и часто.
Я напролом дорогу торил к счастью
И, засучив по локоть рукава,
Работал много,
И качал права…
Я понял твёрдо, что Свобода нам дана:
Творцом миров была дарована она.
И совершил ошибку роковую:
Решил Вселенную я переделать
На другую!
Как самый сильный, умный и крутой,
Я рьяно к цели повернул... не той,
И возмутил я бурною волною
То наше время дивно золотое!
Не внял Отца я тихим наставленьям:
Своим я только покорился представленьям.
И я сумел!
Ведь я был смел!
Я знал и делал,
Что хотел!
Мои вокруг взыграли в мире смерчи,
И твари все подвластны стали... смерти!
Имея целую Вселенную в наличьи,
Я ощутил пьянящее величье,
Испытывая к прочим безразличье,
Основанное на моём отличье.
Растя в душе духовную отраву,
Измыслил я Великую Державу,
Себя поставив в центр,
Из Мира сляпать,
И сделал я акцент
На праве брать и хапать.
Я ж первый был тиран,
Диктатор веры
И терзатель,
А прочим всем – главарь,
Лихой пример
И мод законодатель.
Я постепенно сокрушал мне противленье,
И лишь свои внедрял везде установленья...
И наконец – о, бог!
Я своего добился!
Я создал всё же то,
К чему стремился!
Узрел я радостно послушные миры,
Где пели славу мне покорные хоры,
И лестью ложною спесиво я упился,
И коркой гордости мой властный дух покрылся.
Я всё постиг!
Я высь достал!
До дна достиг!
Я... богом стал!!!
И я... устал.
Да-да –
Я уморился.
Я брагой славы,
Видно, перепился.
Надоедать мне стали кубки славы,
И тяжкое похмелье вдруг настало.
О, пресыщенья
Тошнотворный яд,
Когда и ладу
Ты уже не рад!
Хлебнул я ныне подозренья грязной пены:
Мне мнились всюду отпаденья и измены.
Да, поразительна души метаморфоза,
Когда засела у вас в духе зла заноза!
И Устрашитель
Принялся бояться,
Терзатель –
Пуще жертв своих терзаться.
Веселие моё
Змеёю ускользнуло,
И горечь злобы
Сердце полоснуло.
Тогда неистово и с гневом беспримерным
Я стал искать везде предателей неверных!
Я требовал покорности у тварей
И угрожал им... невозможной карой.
Я ревновал,
Кнутом махал,
Взывал меня любить,
Я блефовал,
Я трепетал,
Я всех хотел убить!
И вот венец – все твари
Вконец меня признали!
Тогда я успокоился немного
И сам себя в душе признал я... богом.
Я восхитился моим принципом насилья,
Которое всё в мире пересилило
И обеспечило полнейшую мне власть,
Которой невозможно стало пасть.
В горячке страстной
Я забыл Отца.
Я приучил себя
О Нём не думать.
Да Он, наверное,
И не существовал,
А если был –
То уж давно Он умер.
И только было я, как следует, собрался
В помпезной пышности на лаврах почивать,
Как что-то вредное в миру образовалось,
И стало вдруг мне докучать опять.
Во гнев войдя
И снизойдя
В миры свои для сыска,
Я стал летать,
Я стал витать,
И в преисподних рыскать...
И, к вящему моему изумлению,
Прежалчайшее сыскал я явление,
Которому, к большому удивлению,
Не нашёл я нигде применения.
То была мразь.
То была рвань.
То была грязь.
То была дрянь.
Я стал с презреньем хохотать:
На что мне эта чепуха?!
Пустая, словно шелуха!
Ничтожная поделка!
Никчёмная безделка!
А это отвратительное тело,
Которое в дыре своей сидело,
Отверзло свой хулу творящий рот
И вот... меня, прекраснейшего,
До себя зовёт.
И что же я от этой твари услыхал?!
Смеяться я мгновенно перестал.
Она сказала мне:
«Мой милый, дорогой!
Ты должен лучше стать –
Ведь в духе ты другой!
Давай возьми меня скорей
Из сего места
К себе в чертог –
Ведь я... твоя невеста!»
Глупее я не ведал положенья,
Сиё от гадины услышав предложенье.
На миг отнялся даже мой язык,
Который мямлить вовсе не привык.
Сильнее прежнего я оказался раздражён:
Я был унижен,
Опозорен,
Был взбешён!
И я взгремел:
«Как смело ты, отродье,
Помыслить оскорбить
Моё высокородье?!!
Весь этот мир
Я для забавы разделил,
И даже высших
От себя я отделил!
Ты кто такая,
Чтобы покуситься
На то, чтоб к богу
Нагло возноситься?!»
И сказала мне жаба:
«О, мой голубок!
Ты жестокий тиран,
А не бог!
Если б только не я,
Ты б давно уже пал,
И был бы провал твой
Глубок».
Тут меня всего от яри
Скорёжило.
Подскочил я к сей дряни
Мгновенно.
А вреднюга от страха
Аж съёжилась,
Я же сгрёб её и выбросил
Из Вселенной!
И с каким злорадством
Я расхохотался,
Что с уродкой гадской
Я навек расстался!
Только я напрасно
Пел и ликовал,
Ибо меня к жабе
Кто-то приковал.
И едва она в бездну
Нырнула,
Как меня вслед за ней
Потянуло...
И я орал,
Я горло драл,
За всё вокруг хватался,
Но я стал мал,
И я пропал,
И тяге той поддался.
И вот, мой смелый человек –
Я в этой пустоте...
Навек...
Потрясённый Яван молчал. Он не знал, что сказать и как грешную душу утешить. Казалось, это было невозможно.
Наконец, он спросил осторожно:
– Где же теперь совесть твоя, Безымянный?
– О, она ныне со мной и во мне! – ответил тот. – Это меня не существует, а она – есть. Из всего, что я ведаю, это единственная добрая весть.
И он снова пропел:
Она мне казалась отвратною,
А жабою был ведь я.
Теперь она стала отрадою,
Единственная моя.
Она мне дарует надежду,
Она мне даёт любовь,
И в тёмную душу невежды
Веру вселяет вновь.
Печальнее нету сей повести.
Не жизнь тут – отчаянья крик.
И к здешнему быту без совести
Я б никогда не привык.
Величайшею в мире планетой
Себя мнила душа моя.
В ней было море света,
И был океан огня…
Теперь того света нету,
И бурный огонь погас,
А душу призвал к ответу
Тот, кто явил всех нас.
– Пошли со мною! – решительно сказал Яван. – Пошли, Никто! Разве ты не хочешь вернуться в мир?
– О, Яван! Не хочешь... – печально произнёс его знакомец. – Если б ты в силах был меня понять, если бы... Когда б я мог, когда б я смел оставить горький мой удел – при нынешнем-то знаньи! – то я б пылинкою хотел ютиться в мирозданьи. Все силы приложить желал бы, чтоб дух мой в мире снова запылал бы...
– Ну так в чём дело, Безымянный? Не зевай, коль случилась оказия, и на образ сменяй безобразие... Теперь я вижу ясно, что Чёрный Царь, как последователь твой верный, лишь совести одной и не имеет. Всё он знает: и любовь мутную, и веру беспутную, а совести... вот не ведает и баста! Такова уж чертячья каста... Пошли, короче!
– А ты уверен, Яван, что сможешь отсюда выйти?
– Уверен! С Божьей помощью и сам выйду и тебя выведу. Коли удосужилась нелёгкая меня сюда занести, то сумею и вылезти.
Надолго задумался Безымянный... Явану даже ждать надоело, да и устал он от гнёта неимоверного, а господин Никто всё молчал и на призывы Ванины не отвечал.
Наконец, когда совсем уж невмоготу стало переносить Явану эту тяготу, Никто вдруг отозвался и вот чего Ване сказал:
– Ладно, друг мой, попробуем… Может и впрямь у нас с тобой получится...
И почувствовал Яван, как что-то горячее души его коснулось и даже село душе на шею. Не, тяжелее Ване не стало – стало труднее.
Ну что ж, пришла пора ему действовать, а не лясы точить. Сосредоточился наш богатырь, напряг дух упруго и... ни малейшего движения даже не почуял.
Тогда в другой раз он напрягся, белый свет живо представил, милую Борьяну, солнце красное, и всё самое важное, что его в мире держало и... не вышло опять у него ничего.
Ничего! В ужас пришёл Яван – ничего!!! Ведь он попал в ничего, в ничто, в никакую бесконечность, где вековать ему ныне вечность...
И воззвал он тогда к Ра, к Отцу неизречённому, взмолил он Его горячо о помощи и возопил отчаянно к Вселенскому Творцу, ибо силы его собственные подошли к концу.
Ба! И будто впрямь над Ваней свет чудный воссиял! Да точно же – сияние призрачное там показалось, тусклая неяркая пелена, которая от мрака бездны была отделена... Несказанно обрадовался Яван и почуял, как силы в его душе прибыло. Сосредоточился он тогда пуще прежнего, с духом собрался и... и!.. и!!!..
Не смог. Не смог! Не смог!!!
Он не сумел тот превзойти порог.
...Пробуждение было внезапным, точно кто-то невидимый Сильвану по голове шандарахнул. Очнулся лешак, глядь – а он прямо за столом уснул, оказывается: голову на ручищи положил волосатые да себе и посапывал.
Первое, что он краем глаза заметил, будто некая тень из угла метнулась. Все свои чувства навострил человечище, но вроде ничего не заметил. Ну, думает, мало ли чего спросонья покажется, а нечего на посту засыпать, тогда не будет ничё и казаться...
«А с чего это я так разоспался? – Сильваха занедоумевал. – Ишь, сморило тебя, громилу! Не по-братски получается: Яван мне дело доверил, в постовые определил, а я спать завалился!»
И на нож, в стену воткнутый, взгляд кинул, да за голову тут же и схватился. Мама родная – ножик-то сплошь заржавленный торчит, хотя ни капли крови из себя не точит. Что это ещё за кудеса, ломает мозги лешак? Уговору ведь не было, чтобы ножик ржавел.
Настроился он на Яванову волну, далеко окрест заглянул, и почуял совсем уж непонятное дело: душенька-то Ванина от тела прочь улетела... И как тут быть? Не может Сильван решить...
И тут вдруг слышит – стук раздался в ворота. Да сильно так!
Озлился лешак. Кто это, думает, там фулюганит? Подходит он к воротам, заглядывает в смотровой экран, и чуть было от удивления не прядает – то ж задира Бравыр у ворот стоит смело, о коем Яван сказывал, что он чуть было в душемолку не загремел.
– Чего тебе надо? – леший у чёрта пытает.
А тот сызнова в ворота заколотил да дурным голосом завопил: «Открывай, идиот, время не ждёт, я ведь насилу утёк, и за мной гонится целый полк! Отворяй скорее, олух, ибо я не со злом пришёл, а с добром!»
А сам мокрый стоит, как крыса, непривычно безрогий да лысый, жалкий какой-то и даже убогий. Подумал Сильван, извилинами пошевелил, да ворота и отворил.
Заскочил Бравыр внутрь проворно и орёт во всё горло:
– Закрывай! Покуда не опомнились эти твари, а то я чую, они меня запеленговали.
А тут и остальные ватажники прибежали.
Смотрят они на безрогого вояку, а тот на них зырит тяжёлым взглядом и их спрашивает:
– Есть чё пожрать-то? Принесите, пожалуй, а то у меня с голодухи подвело брюхо. Так голодаю, что околеваю...
Ну, ему Делиборз остатки ужина приносит: хлеб там, овощи, молоко, сыр...
Как навалился на еду Бравыр! Ест, аж за ушами трещит!
В момент всё подчистил и говорит:
– Я после побега в воде спасался. Как в гробу обретался. Меня в городе искали, а я, не будь дурак, озеро обогнул да с другой стороны в воду и сиганул. А там под водой в набережной ходы есть заброшенные. Вот я в гроте одном и ютился.
– В-общем, так, – заявил он не терпящим возражений тоном, последний кусок дожёвывая, – я теперь повязан с Яваном, а значит и с вами... А где, кстати, он сам?
На что Давгур ему отвечает, что Яван-де отлучился по делам и в настоящий момент последнее царёво задание выполняет.
– От же дурень-то! – взъерепенился чертяка. – Нашёл с кем договора заключать – облапошут же ни за грош! Лучше бы девку украл да тягу с ней дал. А то всякие там задания... Тьфу! Болван ваш Ваня!
– Ну да ладно, – почесал он череп, – чего уж тут делать... Я, когда сюда плыл, биторванские посты по берегам заприметил. Штурм они затевают.
Только врёшь – нас нахрапом не возьмёшь. Борьяна – воительница рьяная, и её гостювальня прочнее, чем наковальня, так что тупым биторванам сей орешек будет не по зубам.
И он потребовал, чтобы его по всем помещениям провели сей же час. «Я, – заявил он важно, – в передрягах побывал всяких, так что главное ныне – верно расставить силы».
Осмотрев же углы и закоулки, чердаки и подвалы, Бравыр потёр руки и, крякнув, добавил:
– Оружие огневое тут отменное. И полевая защита у домика совершенная. Ну, господа люди – круто мы повоюем! Командовать же ватагой... буду я.
Тут Сильвана скроба-то и взяла.
– А с какого это бугра ты здесь раскомандовался? – недовольно он проворчал. – Ты кто такой есть, чтобы в вожаки лезть?!
– Ах, лесная ты образина! – сощурился ехидно верзила. – Вот хто ты́ такой, надо спросить? Ты ж, кроме шишек да коряг, и не видал ни шиша, а ещё вякаешь...
– Короче, вот чего, – и он твёрдым взглядом обвёл ватагу. – Покуда нету Вани – я буду у вас за главного! И на этом ша́! Прошу голосовать, господа! Кто за?.. Ага, раз, два, три, четыре... Кто против?.. Хм, один, и тот нелюдин, хе-хе. Ну и воздержался тоже один – ваш покорный слуга, он же ваш командир... Итак, банда, слушай мою команду: к изучению огневого дела при-и-ступить!
После чего он раздал подчинённым кучу огнемётов, показал, как из них целиться, как палить, чего делать и как быть. Каждому место у открытого окна потом определил, наказав начеку всем быть.
– Я врубил полевую защиту, – пояснил он деловито, – так что и муха даже не пролетит.
И они с Сильваном вернулись в прихожую, чтобы о своих действиях договориться, поскольку основные силы врагов явно в ворота будут ломиться.
Приходят. И тут Бравыр за руку Сильвана хватает и недоумённо вопрошает:
– Слышь, лешачище, а отчего с ножа течёт кровища? Вона, гляди – там, впереди!
Сильван на Яванов ножик оборотился и аж за сердце схватился: с рукоятки-то струйкой тонкой кровушка алая капала. Полную кружку её уже набежало, через край текло и по столу растекалось.
– Опа-на! – воскликнул обалдело Сильван. – Ух же я и дурак, так меня разтак! Мне же Явана спасать надо – он в себя пришёл в пирамиде и в жалком находится виде! Короче, я полетел!..
– Да ты что! Куда ты полетишь? Тебя ж мигом собьют, обормота!
А Сильван ему: «Цыц! Не твоя это забота!» А сам весь встопорщился, нахмурился, прищурился, потом волчком крутнулся, чего-то залопотал и... пропал! У Бравыра же от сего чародейства даже буркалы на лоб полезли. Эге, смекает он, а лешачок-то не совсем и остолоп... Тут и ворота бесшумно отворяются, летульчик двухместный в прихожую залетает и сразу же с глаз долой исчезает. Это, видать, Сильван его оседлал.
Вот свистнул он на прощание, гикнул – и вон выпорхнул.
…Когда, несмотря на все старания, не сумел Ваня из пустоты выбраться, то прямо ужасным стало его состояние. Даже ступор на него напал, и всё ему сделалось безразличным. И словно сквозь дрёму почуял он, как облегчился его ярём.
И голос послышался удаляющийся:
– Иди, Яван. С богом! Свою совесть я тебе оставил. Обняв Чёрного Царя, передай совесть ему, а мне она тут ни к чему.
Вмиг проснулся Яван и в волнении закричал:
– Стой, стой, Никто! Безымянный, вернись!
Никто ему не отвечал... Ему не отвечал никто...
– Ах ты боже ж мой, – сокрушился Яван и про себя добавил: – Я должен отсюда выползти! Должен! Ради всего святого, ради мира и Ра!
И он опять вверх посмотрел, решительней прежнего даже. А над ним световая сияла пелена. Всё ближе и ближе она приближалась и вскоре чуть ли не над Явановой головой оказалась.
И вдруг световое явление уплотнилось – видение в нём появилось. С огромным вниманием созерцал его Ваня, и увидел он картину поразительную.
Из света сотканный, там просиял старик. Был ярок – ярче солнца! – его лик. По ветру вились длинные власа, и пели славу ему хора голоса. В златой одежде он сидел на троне в своей немыслимо сверкающей короне. Окинул властелин суровым взором лежащие пред ним бескрайние просторы и долго те просторы лицезрел. Потом он вниз взглянул и узника узрел.
– О Боже Ра! О Боже Ра! О Боже! – Яван взмолился, помощи прося. – Я сын Твой! Я унижен! Я ничтожен! Молю тебя и верю – можешь ты! – меня изъять из этой пустоты! Так помоги же, Отче, помоги!
И в духе Ему руку протянул.
И Бог на Ваню ласково взглянул и в свой черёд ему простёр десницу, дабы извергнуть сына из темницы... Но не достала длань короткая Явана руки Отца, протянутой из света. Была бессмысленной попытка его эта. Как видно, перейти чрез тот порог сам даже Бог не в силах был, не мог.
И огорчилась тотчас несказанно душа пленённая несчастного Явана.
Но что это? Неужто ему мнилось? Картина света вдруг переменилась. Суровый Царь Вселенной растворился, и в том же месте... Воин появился! То, без сомненья, Витязь был великий, и пламень воли отражался в его лике. Как тыща солнц, сверкал его доспех, сам грозный вид бойца уж предвещал успех, ну а вокруг его блестящего шелома сверкали молнии, и грохотали громы.
– О дивный Витязь, брат мой, Богатырь! – взмолился новому Яван виденью. – Исхить меня из этой бездны, помоги! Не дай пропасть моей душе навеки – ведь мы с тобою оба человеки!
И снова руку в духе он простёр – сильнее прежнего он вытянул её, – и Витязь внял мольбе собрата и Ване палицу он подал из булата. Тогда, души в сём Воине не чая, напряг все силы наш Яван необычайно. Каким-то просто чудом он схитрился и мёртвой хваткой в палицу вцепился. И, радостью хмельной, уж ждал освобожденья, но тут же горького хлебнул он отрезвленья. Как видно, палица была не самой лучшей, и в прах рассыпалась она в руке его могучей. А вместе с нею Витязь тот пропал – его развеял ветра шалый шквал.
О, горькой вечности недвижные мгновенья, когда не лечит даже время пораженье! О, тяжесть осознания провала – досель её душа Явана не знавала!
Всё в ней дотла как будто бы сгорело, и ничего она уж не хотела. И света блики, что над ним мелькали, его потухший взор не привлекали. Яванов дух в отчаяньи замкнулся и от вселенной в безразличьи отвернулся. Из кокона того, казалось, что навеки, его ничто не сможет уж извлечь, и образам великим не по силам его вниманье хоть на миг к себе привлечь.
Да, необорна пустота та несравненная – пред ней слаба сама даже Вселенная!
И тут, когда Яванов дух почти угас, и свет над ним едва ли не погас, какой-то звук достиг его ушей – как будто лепетанье малышей. И Ваня духом постепенно встрепенулся, от дрёмы мертвенной он кое-как очнулся. И видит вот что: в радужной той вы́си, где ране сполохов снопы окрест сверкали, и молнии грома́ми грохотали, не в ярком свете, как бы в полутьме... лежат малютки в колыбельке на земле. То были два малюсеньких дитяти – без мамы, бабушки, без няни и без тяти. Малец и девочка; они вдвоём игрались и от забавы весело смеялись.
Отрадно стало видеть то Явану, и как бальзам пролил ему на рану. И он тем видом скромно восхитился и незаметно духом возродился. Как хорошо, подумал он с участьем – пусть я пропал, но жизнь воскресла вновь. Какое счастье – вот она, Любовь!
И тут нежданная какая-то тревога нахлынула волной из-за порога!
Яван воспрял, глядит и узревает – над теми яслями опасность назревает: к чудесным детям, коих нет родней, ползёт на брюхе жутко-чёрный змей! Он бедных крошек, гад, собой пугает и пасть широкую на них уж разевает...
И дети, безвинные дети остались одни во всём свете. Лихо ползучее они увидали и горько и жалобно тогда зарыдали. Узрел то Яван, обозлился и в духе своём возмутился: «Куда ж это все пропали, треклятые?! Неужто и защитить некому ребяток?! Ну, погоди у меня, змеище – ужо чешую я тебе начищу!..»
И оторвавшись от гиблого места, вовсе даже не думая о себе, вверх он взял и полез.
Вот лезет он, лезет и видит, что змей его всё ж опережает; кольца тела чёрного вокруг деток свивает, пуще прежнего пасть разевает, да шипит ещё, злобный урод – вот-вот дитятей пожрёт!..
Совсем немного осталось Явану лезть, но чует он – не успеет долезть.
Гаркнул он тогда голосом молодецким:
– А ну не трожь детей, проклятый змей! Уползай, кому говорю, а то я тебе пастищу-то раздеру!
Захлопнул змеище пасть, на Явана глядит, удивляется – вроде и не было кругом никого, а тут некий наглец откуда-то взялся да ещё угрожать ему принялся... Поудивлялся змей, поудивлялся, да вскоре смекает, что Ваня ему ни с какого боку не угрожает: ну, кричит, ну вопит, ну орёт – а пасть зато не дерёт...
Сызнова он пастищу разевает и ещё более крошек пугает.
Огорчился тут Яван до невозможности, ибо дотянуться до мерзавца не мог. Разве что кинуть в него чем и издали гада угостить?.. И догадался он тогда совестью Безымянного в змея запустить. Тут же её Ванюша с себя снимает да в головищу змеищу и запускает.
Полетела совесть чистая шибко да по маклыге нечистому – свись!
Зашипел змей, точно ужаленный, да и бросился наутёк, словно ошпаренный, совестью яро прижаренный. Только его Яван и видал.
Ну а Ваня с собой не совладал. Вконец он от того броска обессилел, у самого светового порога лёг и шевельнуться не мог. Вот лежит он, лежит, смертельно усталый дух переводит и со спасённых детей умильного взора не сводит. А те довольно гугукают и улыбаются ему радостно, отчего на душе у Ванюши стало сладостно... Тут мальчонка ручку свою невеликую к Явану протянул, за кисть богатыря взял крепко, да и вытянул его на белый свет, словно из грядки репку.
И была в его рученьке милой силища необоримая!
И всё видение тут же пропало. Огляделся Ваня окрест и о произошедшем с ним подумал с сомнением: то ли сон ему снился, то ли морок мнился, а то ли и вправду это с ним приключилося?.. Единственное, что Яван мог утверждать с уверенностью, так это то, что он в Двавловом золотом кресле мешком осел и от слабости, словно бочка без ободьев, расселся. Ни рукою, ни ногою он двинуть не мог, как будто утянуло его на океанское дно.
И вдруг слышит Яван голос приятный, в самом мозгу его раздающийся. Сначала он его не признал, а потом догадался – то ж дружок его, господин Никто! Его голос-то, чей же ещё! Весёлый такой да радостный.
– Спасибо тебе, брат Яван! – произнёс с благодарностью Безымянный. – Вернул ты меня во Вселенную, спас ты душеньку мою бедную – себя не пожалел, а меня вызволил... Ведь что случилось-то? Совесть свою я тебе подарил, сам прочь удалился, а о том позабыл, что невозможно совесть никому передать. Заглушить её в себе можно, а ни купить, ни подарить – нельзя. И когда ты с Божьей помощью ничто покинул, ты и меня в мир вытянул.
И я своей совести не лишился – она при мне осталась и даже ещё большею стала. Знание же о совести, кое ныне возле сердца твоего обитает, ты Чёрному Царю передай – пускай осознает, скотина, что он в жизни своей натворил, пусть, чертячья душа, о бесчинствах своих пожалеет! Авось тогда и поумнеет – не всё ведь пропало, даже если душа в ничто упало. Непременно появится возможность к прави повернуть: надо лишь через совесть на всё взглянуть да по ней что-либо сделать.
Никто замолчал, а после паузы добавил, в волнении находясь явном:
– Ну а теперь прощай, Яван! Великая сила притяжения уж влечёт меня на рождение. Дюже хочу я родиться, чтобы на правое дело сгодиться! Прощай! Проща-ай! Проща-а-ай...
И голос его, постепенно затихая, стал удаляться. А перед измождённым Яваном золотые стены вдруг поплыли будто в тумане. Попытался он из последних сил привстать, да тут же в кресло упал и потерял сознание.
Рейтинг: 0
464 просмотра
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

