Тень Гамлета
18 июня 2012 -
Владимир Степанищев

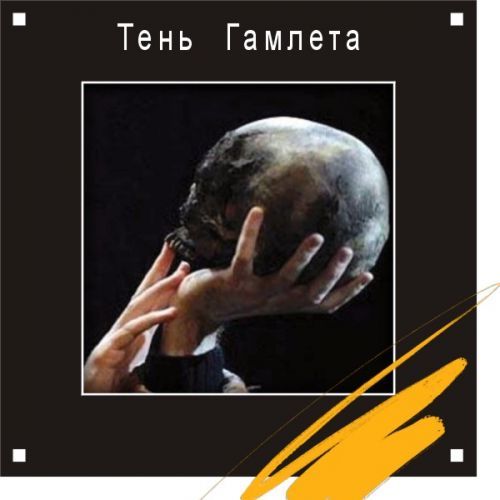
Не будите спящую собаку
Английская пословица
Что заставляет человека двигаться? В смысле, идти. Развиваться, совершенствоваться, преодолевать, достигать, овладевать достигнутым, двигаться дальше… Что? Страсть к Деньгам? к Почестям? к Власти и Славе? к Женщине, наконец? Отнюдь. Движет человеком… его Ущербность. Всяк из нас рождается в известном географическом месте, в определенное историческое время, в конкретной социальной среде, с впечатанным невыводимой печатью в наш генотип ростом, комплекцией, цветом волос и глаз и, конечно, интеллектом. Даже имени своего мы не можем выбрать себе сами. И, как правило, точнее, всегда неудовлетворены, недовольны мы этим божьим «подношением». Мы его стесняемся. Нам кажется, что кто-то на пути нашем, от брачного ложа родителей до первородного крика, нас обманул, подсунул что-то чужое, подменил бирку на гениальной руке. Но… изменить мы ничего уже не в силах. Наш удел – либо быть такими, что есть, либо стараться изо всех сил казаться такими, что мы, по нашему разумению, есть (или должны были бы быть). Маленькому хочется выглядеть большим, слабому сильным, низкому великодушным, жадному щедрым, ну и… глупому - умным. Любопытно, что человеку достаточно и даже выгодно именно выглядеть, а вовсе не быть. Ну зачем, к примеру, быть великодушным, сопереживать, участвовать? Это очень даже неудобно для личной жизни. Или щедрость..., она же толкает прямиком в собственную нищету, а храбрость может привести и к смерти. А выглядеть...
Человек, о коем рассказ мой теперь, родился в глухой сибирской провинции, в семье горького пьяницы-тракториста и доброй, но несчастной доярки. Мальчиком он рос щуплым, некрасивым, нелюдимым и косноязычным. К тому же, и по праспорту-то он был Петя Пукин. Толи из-за отсутствия друзей, а, позже, и подружек, строгого внимания отца и (за не имением здоровья и времени) заботливой ласки матери и, как следствие, бессчетных часов свободного времени, толи из-за некоторых, открывшихся даже очень рано, склонностей к чтению и правописанию, но учился он хорошо. Настолько хорошо (по деревенским меркам, конечно), что даже и вышел он из обветшалой бревенчатой школы своей с золотой медалью. На том же основании (как медальный самородок из глубинки), без каких-либо препятствий был принят на журфак МГУ. Но и здесь студенты его не любили, студентки игнорировали, родители, тем временем, померли, а клеймо «Петя Пукин» так и висело над ним дамокловым мечом. Зато в стенах университета обрел он и правильную речь и столичный прикид и... глухую, затаенную злобу на весь божий мир, которую можно было выразить всего четырьмя словами – «Я вам еще покажу!».
Таким вот девизом на щите своем прикончил он, с отличием, свой факультет и... попал в паршивую бульварную газетенку с пошлым и весьма многосмысленным названием «Наше». Что это такое наше?.. Особенно этот вот средний род этого притяжательного местоимения. Наше слово? наше дело? наше мнение, отечество, кредо? В общем, наше всё. Одному богу да главному редактору ведомо было, что подразумевалось под этим «наше». Уж больно оно напоминало Булгаковско-Шариковское: «Ну желаю, чтобы все...». Но моему герою все это было неважно. Случилось главное. Будь то некролог на смерть заслуженного, в прошлом, директора Московского мясокомбината, или репортаж о прорыве канализационной магистрали на Неглинке, аккурат напротив Театрального училища имени М.С. Щепкина, или обзор рынка московского ветхого фонда, всюду красовалась подпись собственного корреспондента газеты «Наше» - «Александр Браун». И, что важно, это не был псевдоним. Уже на дипломе он занялся сбором всевозможных справок и свидетельств, дабы навсегда избавиться от ненавистного имени. Выбирал долго. Тут были и Иннокентий Успенский, и Станислав Гинсбург, и Альберт Бенуа и даже Вениамин Мальденброт (уж непонятно почему, но сторонился он русских фамилий да имен). Но, совершенно себя измучивши поисками и фантазиями, напрочь растерявшись, что даже стал обращаться к церковным святцам (почти попав в ситуацию родителей несчастного г-на Башмачкина), и, видимо учитывая свои литературные склонности, он остановился наконец на двух, как ему казалось, наиболее удачных образцах – Саша Черный и Андрей Белый. Звучное имя Александр ему приглянулось уже давно (Македонский, Невский, Суворов, три российских императора), а Андреевичем он и был уже по-батюшке от рождения. Метаясь между Черным и Белым, он уже склонялся к фамилии Серый (ну, конечно, на аглицкий манер – Грэй), но все же поняв, что это его подсознание, цепляясь за его серое происхождение, нашептывает ему такую спорную фамилию, окончательно остановился на Брауне. Другие цвета произносились, на его вкус, либо слишком помпезно-агрессивно (Ред), либо через чур знакомо-аллюзивно (Грин), либо и вовсе неблагозвучно (Маджента).
Итак, свершилось. Нет больше на свете Пети Пукина, но есть скоро уже знаменитый (не сомневайтесь) журналист, публицист и писатель Александр Браун. И... О, чудо! Люди стали к нему относиться совершенно по-другому. Как горячечные сны, как болотные туманы, как отравляющий угарный дым исчезли вдруг презрительные взоры знакомцев и коллег, заулыбались сотрудницы на работе, вдовушки и проститутки на улице, да и редактор его стал привечать. Уже не затыкал им горящие дыры в текущем номере, уже даже, иной раз, доверял подменять его на фуршетах презентаций, еще немного, и у него будет своя рубрика с собственной фотографией в колонтитуле. Он уж и фото-сессию себе устроил, и была даже пара вдумчивых портретов... Не говорите мне, что не имя красит человека, а, будто бы, человек имя – чушь! Я, вот вам крест, сам все это видел, своими глазами. Он даже (я не очень разбираюсь в мужской красоте) стал как-то по-своему симпатичен. Он казался теперь скорее строен, нежели худ; бледен больше благородно, но не болезненно; длинные волнистые волосы его обрели пшеничный, а не землистый оттенок; прямой нос, тонкие губы и голубые глаза довершали картину эдакого Чайльд-Гарольда или правильнее воспользоваться Пушкинским «Москвич в Гарольдовом плаще» (правда склонного больше к журналистскому лицемерию, чем к аристократическому цинизму). В общем, давайте запишем – имя красит человека, а не человек имя.
Карьера Александра Брауна (так и станем теперь величать моего героя) понеслась аллюром. Особенно помогали фуршеты, тусовки, так сказать. На презентациях чего бы и кого бы то ни было всегда присутствуют три категории журналистов. Одни (как правило, газетчики уже в возрасте, исписавшиеся, спившиеся и списанные) приходят исключительно набить брюхо да напиться на халяву. Их отчет о пресс-конференции давно уже готов к верстке – только фамилии подставить. Другие, это, в большинстве своем, еще молодые, но уже (или пожизненно) недалекие писаки, всерьез воспринимающие редакционное задание. Они часами бродят, пристают, интервьюируют, вникают в несуществующую суть... В общем, попусту тратят время, ибо репортажи их, в конце концов, не будут отличаться ничем от репортажей «писателей» первой категории. Третьи..., эти ребята – что надо. Таких организаторы презентаций заказывают заранее. Более того, уже согласованы и объемы и содержания и даже фотографии. Материалы давно сверстаны, подписаны и, что важно, проплачены заказчиком вперед, а они просто присутствуют, вкусно закусывая, в меру выпивая и учено рассуждая о перспективах рынка или обсуждая достоинства и недостатки новой секретарши председателя Союза журналистов.
Первых Александр презирал и даже брезговал, вторых чурался, как еще вчера чурались его самого (он их так и обзывал – Пукины Петьки), но третьи... Ах, как ему, до дрожи, до бессонницы, хотелось попасть в их волшебный круг. На фуршетах всё ходил кухонным котом возле их вальяжных кофейных столиков, все выслушивал, что и как говорят, выглядывал, во что и как одеваются небожители, и жест, и мимика, все было предметом его жадного ученического внимания. Но элита эта, как и любая самовыдуманная элита, была не без снобизма и просто так, без представления ко двору, к ним было не попасть. Однако, долго ждать не пришлось. Михаил Ааронович Гусман, главный редактор Александра Андреевича Брауна, взял его как-то на корпоративное празднование семилетия (вообще-то, шесть с половиной, но ведь лето же) какой-то обувной полу-итальянской компании с собой. Мероприятие проводилось на теплоходе «Руслан и Людмила», курсировавшего на Москве-реке от Северного речного вокзала до «Хвойного бора», что на берегу Пестовского водохранилища, и обратно. Это был шикарный теплоход: два ресторана, три бара, караоке-зал, каюты от простых до класса «Полулюкс» и «Люкс», открытая верхняя палуба. За полчаса до отправления подкатил целый автобус загорелых длинноногих девиц с оленьими глазами с поволокою и аккуратными дынными попками, из агентства фотомоделей «Голд Стар», похожих друг на друга, как брызги шампанского. Чуть позже прибыла команда артистов средней и ниже руки и, уже на своих авто, парочка лицедеев довольно известных. В общем, настоящий добротный открытый корпоратив.
У Александра зашлось под сердцем: «Вот оно! Если не теперь, то когда же!». И точно. Ароныч (так его называли в редакции заглаза) тут же, по отплытии, потащил его с собой на верхнюю палубу, где, ближе к корме, в шезлонгах, расставленных вкруг столика с запотевшими безалкогольными коктейлями, раскуривали толстые гондурасские сигары три его закадычные, по центнеру каждый, друга-редактора.
- Ба-а! – крикнул один из толстяков, - никак, сам Гусман пожаловал!
Двое других толстяка лениво, в четверть оглянулись и лениво же повторили это «Ба-а!». Можно было догадаться, с каким трудом они укладывали свои холеные, в не по-возрасту фривольных бриджах и панамах тела в свои шезлонги, так что, Михаил Ааронович лично подошел к каждому, чтобы не вставали, и каждого облобызал.
- Как Роза, дети?
- Твоими молитвами, Семен Исаевич. А Сима твоя, здорова ли?
- Ты ее знаешь, Миша. Кабы не ее артрит, увязалась бы, как пить дать. Уж, думаю, не быть ли дождю.
- А ты, Фима, тоже без супруги?
- Помилуй, Ароныч, ты видел тех девиц, что на автобусе подкатили? – осклабился и даже сглотнул Фима.
- А ты с кем? - наконец обратил внимание на Александра третий толстяк.
- Ах, простите, забыл представить, - спохватился Ароныч. – Вот, прошу любить и жаловать, мой помощник, так сказать. Надо же еще чего-то и писать, мы ж ведь пресса, а Саша..., Саша, он отменный репортер, мой ученик, так сказать.
Такое затянувшееся вступление повергло моего героя в немалое смущение, ибо три толстяка пристально уставились на него и уставились очень даже двусмысленно, переводя взгляд то на Сашу, то на Ароныча. Редактор отчего-то засмущался, чем совершенно утвердил их в ошибочном их предположении и Александру вдруг захотелось, чтобы провалилась под ним (а лучше под ними) палуба. Михаил Ааронович наконец уселся в свободный четвертый шезлонг. Пятого не было.
- Саша, ты принеси себе чего-нибудь, - отер Ароныч платком пот со лба.
Саша пошел искать сидение, проклиная тот час, когда радостно согласился сопровождать сюда своего шефа, нашел только некогда белый пластиковый стул, вернулся с ним к уже четырем толстякам, притиснул его слева, чуть за спиной, у Михаила Аароновича и сел. Девиз «Я вам еще покажу!» ярко пылал на его щеках. Однако, за столиком уже велась какая-то, только четырем и понятная беседа и лицо Саши постепенно приняло прежний бледный оттенок. Разговор, тем временем, из сферы олимпийских подкроватий плавно перешел на зависимость стоимости рекламной полосы от тиража, аспект более знакомый Александру. Внешне успокоившись совершенно, он смог теперь более детально рассмотреть участников беседы.
Строго напротив шефа сидел Семен Исаевич Айзерман, главный редактор периодического издания «Компьюсфера» (каким боком компьютеры к обуви?), человек средних лет, но за счет лысины и двойного подбородка казавшийся старше своего возраста. Слева от него, в красной майке с зеленым логотипом какой-то никому неизвестной фирмы (похоже, раздаточный материал с предыдущей презентации), возлежал Ефим Самойлович Брунов, генеральный директор агентства печати «Проза». Он имел пенсионный вид, косматые рыжие бакенбарды и мелкие непоседливые похотливые глазки. Третьего рассмотреть было сложнее всего, ибо Саша сидел как раз между ним и Аронычем. В профиль он казался человеком солидным. Они тут все были, конечно, солидными, только он все больше слушал, нежели говорил. Такие либо страшно глупы, либо чертовски умны или, на худой конец, коварно хитры. Одет он был более благообразно, что ли, чем остальные. Несмотря на жару, он был в светлом летнем костюме и даже в нагрудном кармане пиджака имел голубой платочек. Холеные руки, сложенные замком на правом колене, перекинутом через левое, хранили следы совсем недавнего маникюра. Он почему-то сразу понравился моему Александру. Он ведь тоже больше любил слушать, чем говорить, и тоже очень следил за своей гигиеной. Это был главный редактор газеты «Новая Культура», Кирилл Мефодиевич Савранский.
Когда застольный разговор, спровоцированный Ефимом Самойловичем, перетек в русло обсуждения достоинств голдстаровых наяд, Кирилл Мефодиевич развернул к Саше свое желтоватое от легкого загара лунообразное (ибо покрыто оно было едва заметными, но пятнами) лицо и мягко произнес:
- Вы, юноша, должно, скучаете со стариками-то?
- Да нет, - обрадовался нежданному вниманию Саша. Он не скучал, нет - он внутренне скрежетал зубами. Перед глазами проносились школьные годы, где каждый однокашник, без злобы, просто от скуки мог влепить ему хорошего пинка; пять студенческих лет кромешного одиночества, когда даже на вечеринках, из-за полнейшего небрежения к нему, он был словно в каменном мешке. И вот теперь, когда покончено с позорным именем, когда нет уже свидетелей его прошлых унижений, когда его, будто своего, берут на элитарную журналистскую тусовку, он, как последний денщик, сидит за спиной своего шефа, да еще и записан барами в его любовники. – Да нет, Кирилл Мефодиевич. Просто мне трудно быть адекватным вашим темам обсуждения. Я ведь, в сущности, начинающий журналист, опыта мало, да и область, в которой я работаю, не совсем...
- Да что вы? Саша, кажется?
- Да-да, Александр Браун.
- Звучно, звучно, - снисходительно улыбнулся Кирилл Мефодиевич. – А. скажите, это ваше настоящее имя или псе...
- Нет-нет, - почти испуганно и даже невежливо перебил Саша. - Это мое настоящее имя.
- Любопытно, - сузил глаза человек-луна. Лицо у вас уж больно, как бы это..., русское.
- Так сосланы были родители мои, - начал врать Саша напропалую. – Родился под Оренбургом, вот и обрусел, наверное...
- А-а, тогда понятно, - поверил (или сделал вид, что поверил) Кирилл Мефодиевич.
- А вы? – осмелел вдруг лгунишка.
- А что я? – искренне изумился Кирилл Мефодиевич.
- Ну..., - замялся Саша, - уж больно здорово совпало – Кирилл и Мефодий и литературная газета...
- Ах, это? – рассмеялся главный редактор, похлопал теплой холеной ладонью Сашино колено и так ее там и оставил. – Вы проницательны, юноша. А пойдемте-ка, пройдемся.
Компания была увлечена дискуссией о том, что есть разница между тем, как женщина выглядит и какова она в постели. Михаил Ааронович утверждал, что в постели нам красота второстепенна, что нам нужно полное и пышное тело, Ефим Самойлович возражал, что именно эстетика возбуждает мужскую потенцию, а вовсе не осязание кустодиевских телес. Семен Исаевич отстаивал позицию конформистскую, что, мол де, на людях лучше с худой, а в постели с полной и, вообще, главное в женщине вовсе не комплекция, а ее молодость. Беседа так увлекла старичков, что никто и не заметил исчезновения новых приятелей. Они прошли ближе к носу палубы и разместились там на свободных шезлонгах. Народу почти не было. Какая-то молодая пара фотографировала спорной эстетики виды уплывающей Москвы (теплоход уже приближался к границе города), да неподалеку спал очевидно уже пьяный один из гостей обувной презентации. Кирилл Мефодиевич достал два пенала с сигарами, открыл, срезал золотой гильотиной кончики и протянул одну Саше. Тот, не смея отказаться («Боже! Я сижу наедине с главным редактором Новой Культуры!»), хоть и не курил до сего дня ни разу, принял ее с благодарностью, раскурил от предложенной ему зажигалки и (он знал, что сигарный дым не вдыхают в легкие, а лишь обволакивают им рот), боясь закашляться, чем обнаружить свою, так сказать, никотиновую девственность, тем не менее, закашлялся. Сигарный соблазнитель лукаво улыбнулся, но комментировать не стал, раскурил свою и продолжил прерванный разговор.
- Так вот, Саша. Как я уже заметил вам, вы очень проницательны. Открою вам свою тайну, хотя, конечно, для друзей это секрет полишинеля.
«Он сказал, друзей!», - защекотало у Саши где-то под кадыком и он снова закашлялся.
- Если вы помните, а я уверен, помните, Кирилл в миру был Константином, а Мефодий, соответственно, Михаилом. Так что, звали меня когда-то Константином Михайловичем. Я был молод и амбициозен, как сейчас вы, и начинал в «Литературке». И уж так ли мне хотелось выделиться среди прочих, обратить на себя внимание, поразить, потрясти. Я писал умные, щедро приправленные филологическими изысками обзоры и критические статьи, но все они причесывались да кастрировались нашими евнухами-редакторами да скопцами-корректорами до такого, что в печать выходила уже рафинированная безликая банальность, ничем не отличавшаяся от остальных публикаций. Тогда-то мне и пришла в голову эта оригинальная идея. Повезло. Не так-то просто протолкнуть для себя псевдоним, но такое вот, как вы верно заметили, совпадение меня и выручило. Псевдоним утвердили и, представьте, меня стали примечать. Много воды утекло с той поры. Карьера моя устремилась вверх, а имя..., имя настолько прижилось, что я, в конце концов, взял, да и выправил себе паспорт на Кирилла Мефодиевича. А урок здесь вот какой, Саша: далеко не всегда человек красит имя, но имя человека – безусловно и всегда.
Радость! Неизъяснимая радость парным молоком растеклась по всему телу моего героя. Он даже позволил себе глотнуть дыма в легкие и при этом даже не закашлялся. «Мы одинаковы! Одинаковы, черт возьми! Я тоже стану главным редактором! Да! И, отныне, я буду курить сигары! Придет время и я поеду по городам и весям России, как Солженицын! Я заеду в свою занюханную деревеньку на серебристом Мерседесе! По возвращении, я навещу свой факультет, деканат и буду там в кремовом смокинге и шелковом шейном платке, как Вознесенский! Я им еще покажу!», - Саша сглотнул терпко-сладкую от элитного табака и карамельных мечтаний слюну.
- А как вы относитесь к литературе, Саша? - вынул его из грез Кирилл Мефодиевич.
- То есть, что значит?.. А, - спохватился юноша, - ну я..., я люблю классическую русскую и классическую английскую литературу. Конечно, мои знания не распространяются так глубоко, как, скажем, до Чесера или Виклифа, но начиная с Томаса Мора, Френсиса Бекона, Томаса Уайетта, Эдмунда Спенсера и, конечно же, Шекспира...
- Вот и славно, друг мой, вот и славно, - снова положил литератор руку на колено Саши и снова не убрал ее и даже, ему показалось, несколько сжал. – Есть тут у меня одна задумка. Понимаете, слишком пересластили, на мой взгляд, образ Шекспира в современном представлении обывателя. Если позволите, я процитирую высказывание Белинского: «Слишком было бы смело и странно отдать Шекспиру решительное преимущество пред всеми поэтами человечества, как собственно поэту, но как драматург он и теперь остается без соперника, имя которого можно б было поставить подле его имени», но не с тем, чтобы согласиться с ним. Не только как поэт он далеко не первый. Его драматургия имеет кучу трещин, противоречий, растянутостей и смятостей, натурализма на грани пошлости, не говоря уже о прямом и бесстыдном плагиате сюжетов. Вы не согласны?
- Конечно-конечно, - взволнованно залепетал Саша. – Взять хотя бы «Тита Андроника» с его убийствами, трупами, отрубленными руками и отрезанными языками или, скажем, скабрезности кормилицы из «Ромео и Джульетты». А заимствование? Немудрено, что до сих пор ставят под сомнение самое существование Шекспира, как самостоятельного и единственного автора приписываемых ему пьес. К тому же, ведь кроме «Комедии ошибок» и «Бури» его пьесы классическими-то, в академическом смысле, и назвать-то нельзя. В остальных везде нарушен постулат единства времени и места...
- Вот-вот-вот-вот, - обрадовалась луна, - я вижу вы глубокий знаток творчества Шекспира. Я рад. Очень рад. Но, знаете... Такие крамольные мысли мне, главному редактору высказывать, ну..., как-то не почину, что ли... Другое дело – вы. Понимаете...
Кирилл Мефодиевич стал теперь уже и поглаживать Сашино колено, как бы сам этого не замечая, вроде бы в пылу беседы. Саша напрягся, но он чуял, что у него вот-вот появится тот единственный журналистский шанс, тот самый трамплин, с которого и взлетают на этот вожделенный Олимп или Парнас. Он решил: «Будь, что будет, но шанса своего я не упущу».
- Понимаете, я хочу предложить вам написать большую статью, может быть даже цикл критических статей, - Кирилл Мефодиевич заметно волновался и поминутно сглатывал слюну, - в которых вы...
Тут раздался звонкий девичий смех. Пара давешних фотографов, забросив свою фото-сессию, довольно беспардонно тискалась у отполированных до блеска, словно стойка стриптизерши, перил палубы.
- Знаете что, Саша. Здесь нам не дадут спокойно поговорить. Идемте ко мне в каюту, там все и обсудим.
Кирилл Мефодиевич, нагнулся и заглянул в глаза бедному моему герою. Луна цвела теперь пунцовым сиянием.
***
Сегодня, когда уже доказано, что гомосексуализм – это хоть и отклонение от нормы, но возникающее на хромосомном, генетическом уровне и, следовательно, не вина, а беда, не стоит и обсуждать подобное явление. Тем более, мы знаем, что любовная лирика 126-и из 154-х сонетов Шекспира (а именно данный автор и есть тема моего повествования) обращены к мужчине и если только не подвергать сомнению авторство этих стихов, то становится ясно, что и великий гений был не чужд, так сказать. Впрочем, история умалчивает, было ль иль не было чего такого между Сашей и главным редактором «Новой Культуры» и не это есть цель моего сюжета. Зато доподлинно известно то, что уже через два месяца после презентации Александр Браун трудился на новом месте, в офисе редакции «Новой Культуры» на Цветном бульваре. Даже, слышал я, вышел некий конфликт между Кириллом Мефодиевичем, его новым шефом, и шефом старым, Михаилом Аароновичем. Ну мог ли предположить молодой безусый журналист, что станет предметом, причиной конфликта таких акул средств массовой информации? Александрово Эго взлетело до небес. Он, конечно же, отнес все на счет своего литературного таланта и с удесятеренным рвением принялся за работу. У меня даже сохранились кой-какие вырезки той поры. Ну например:
«Никогда не полагал кино искусством.
Ars Longa, Vita Brevis, говорили римляне и... были правы. Что это, прости господи, за искусство, если оно так зависит от моды на стиль игры, на манеру гипертрофировать чувства, от технологии съемки и монтажа, качества спецэффектов, наконец. Можно ли себе помыслить, чтобы «Сикстинская Мадонна» или, скажем, «Гибель Помпеи», «состарились» от подобных мод и техник?
Прежде всего – игра актеров. В тридцатых-сороковых, возможно, как остаточное явление немого кино, мимика, невербальные, так сказать, изощрения актеров настолько перекрывали суть играемого, что сегодня смотришь на эти фильмы, как на шабаш клоунов. Позже, наступила мода на, что называется, «держать кадр». Это когда экранный Штирлиц пять минут как бы думает, а зритель эти пять минут как бы сопереживает. Вообще, советское кино обставило весь мир по мастерству затягивания времени (платили им за метраж пленки, а не за суть). Наезд..., отъезд..., панорамочка..., теперь крупно..., переплыв на детальку..., отъезд и закадровый приглушенный баритон - вот тебе и полчаса фильма. И затрат никаких, и громкая, пусть и узко-российская слава... Теперь и вовсе... То, что мы наблюдаем сегодня в кино, есть не что иное, как внеклассное чтение по ролям. Актеры даже не дают себе труд озвучивать себя. Иногда кажется, что режиссер с оператором ставят с утра пару камер, пару «юпитеров», крепят на стойку удочку микрофона, забыв надеть ветровой экран, загоняют чтецов на площадку и... идут пить пиво, а вечером уже и в эфире. Игра? Помилуйте. Ну, скажем, истерику, слезы или там, безумную страсть..., еще туда-сюда. Любая домохозяйка-барби делает это чуть не каждый божий день. Злой киллер, пахан, олигарх... – это неплохо идет у мальчиковых актеров. М-да. Русский актер закончился на Евстигнееве.
Теперь, технологии. Еще десяток-другой лет назад какой-нибудь «Терминатор» вызывал в зрителе щенячий восторг. Далее, «Поттер», «Паук»... – сегодня тоже уже детский лепет. Теперь 3D, 5D, 7D... Что дальше? Не может такое быстросгорание предыдущих, в угоду последующим технологиям, быть Ars Longa. Давайте признаем. Кино – это не искусство - это развлечение, шоу, балаган. И, да простят меня апологеты обратных мнений - и Феллини, и Бергман и Тарковский, и Герман и иже с ними... – шоу. Пусть талантливое, пусть изысканное, пусть не для всех, но... развлечение, судьба которому – смерть и забвение. Если умрут фрески Микеланджело Буонарроти, если сгниет холсты Леонардо да Винчи, если рассыплется мрамор Агесандра - это будут проблемы штукатурки, холста и камня, но искусство их останется искусством навечно, как живет память об игре Паганини, хоть ее никто из нас и не слышал. Итак... Кино – это не искусство.
Александр Браун».
Или вот такое:
«Случалось вам идти по музею, рассеянно разглядывая скульптуры, полотна, акварели?
Что-то задерживает ваше внимание, что-то раздражает бездарным цветом, неумелой композицией, неприятным персонажем. Особенно злят библейские сюжеты. Они почти всегда мертвы. Всегда вымученно-статичны. Мария протянула свою руку к младенцу, но в руке этой нет движения. Кажется, что она у нее задеревенела и сейчас отсохнет. А вот и Иосиф, всегда с таким глупым выражением на лице, будто говорит: «Я рогат, ребята». А вот и волхвы с вечно сладко-кислыми физиономиями. И, уж конечно, у итальянцев, все иудеи - с итальянскими, у немцев – с немецкими, ну а у русских - с вологодскими рожами. Господи! Известно, на сколько столетий отбросила религия науку! А искусство? Наука – Бог с ней, от нее одни неприятности, но искусство! Или Питер Пауль Рубенс... «Дородное блюдо любви» - сказал кто-то о его творчестве. Не знаю. У каждого времени своя эстетика женской красоты, но мне кажется, что он был несколько болен на голову, выписывая и прорисовывая все эти складочки и наплывы, сморщенности некогда прекрасного женского тела. А, впрочем, Рубенс – великий мастер.
Не всякого тронет Амедео Модильяни, Поль Сезанн, Анри Матисс. Но давайте вспомним Оскара Уайльда: «Дух времени лучше передается в абстрактных идеалистичных искусствах, поскольку дух сам по себе абстрактен и идеалистичен… Великий художник никогда не видит вещи такими, какие они есть на самом деле. А если бы увидел, то перестал бы быть художником». И он чертовски прав, даже если речь идет о классических реалистах, таких как Рембрандт Ван Рейн или Илья Ефимович Репин. Портреты их кисти… И здесь вновь уместен этот великий писатель и тонкий ценитель искусства: «Верят только тем портретам, в которых крайне немного от модели и очень много от художника».
Такие или подобные им впечатления, лишь украдкой, как бы стесняясь, касаются тебя, почти не причиняя ни удовольствия, ни, хоть сколько-нибудь, серьезных переживаний, как вдруг, будто кто-то зовет тебя по имени. Ты оборачиваешься и видишь перед собой «Лунную ночь» Куинджи, Шишкинское «Лесное кладбище», или «Омут» Левитана, или «Сирень» Врубеля. И тут ты понимаешь, что присутствуешь при волшебстве. Люди, создавшие эти чудеса, давно в земле, а их произведения, как бы кричат: «Остановись, посмотри, как прекрасен, как божественен этот мир!
Александр Браун».
Ну и в таком вот духе. Согласитесь, не лишено ни ума, ни свежести взгляда, правда смущает некоторая безапелляционность и, я бы даже сказал, юношеский снобизм, эдакий Савл Киликийский (кстати, Апостола Павла вполне можно отнести к первым журналистам новой эпохи, прочтите любое из его «посланий»). Редакция, тем не менее, все это проглатывала и, наконец, как и было сговорено между Сашей и Кириллом Мефодиевичем, он замахнулся на самого Шекспира. К сожалению, у меня не сохранилось той статьи, но помню, что скандал вышел превеликий.
Случилось так, что отправился Кирилл Мефодиевич в отпуск. Очень звал Сашу с собой и очень даже настаивал, но тот, ссылаясь на большой объем общей, в сущности, их работы по критике творчества Шекспира, отказался. Многое нужно было перечитать из самого автора, просмотреть каноническую критику. Критиковать Шекспира, это вам не «Табакерку» по попке шлепать. В общем, главный редактор, почти в трауре, отправился в Испанию один, наказав Саше при этом, не сдавать статью до его возвращения. Поначалу Саша и не помышлял нарушать этого завета, но, в какой-то момент (так бывает с иным писателем) возомнил, что создал шедевр критического эссе и решил поразить Московский, а может и пошире, мир. Он снес первую из серии статей о Шекспире под названием «Тень Гамлета» в секретариат. Там сидели два довольно бестолковых редактора, замы Кирилла Мефодиевича, Розенкроц и Гилденсберг. Дело даже не в их бестолковости (даже и они бы не пропустили в печать подобное). Просто они очень умели держать нос по ветру, знали, что Браун у шефа на особом положении и, ничтоже сумняшеся, сдали памфлет в набор.
Через пять дней, на которые автор взял отгулы, неся подмышкой свежий номер «Новой Культуры», где на первой полосе, под черным жирным таймсом «Тень Гамлета» красовалась его фотография, Александр Браун буквально вплыл триумфатором в офис редакции. К своему удивлению ни туши ни оваций он не услышал. Слегка раздосадованный, он проследовал прямиком в кабинет Розенкроца. Там он застал и Гилденсберга. Оба имели вид весьма подавленный.
- На вас, ребята, лица нет, - бодро приветствовал он замов. – У нас что, переворот в стране?
- В известном смысле, - гробово отозвался Розенкроц.
- Ну, поведайте и мне свою скорбь, - не терял настроения Саша. Он прошел к дивану и развязно плюхнулся в него, небрежно уронив рядом с собой номер газеты, своей фотографией вверх.
- Савранский умер, - окатил его колодезной водой Гильденсберг.
- Что?! Как?! Когда?! – опешил Саша.
- В общем, - начал Розенкроц, - после выхода твоей статьи, в министерстве культуры поднялась небольшая волна. Звонил замминистра. Он всего лишь был недоволен нашей публикацией, хотел поговорить с Савранским. Я сказал, что тот в отпуске, ну на том вроде бы и все. Но я должен был доложить шефу. Я и позвонил. Он залез там, в своей чертовой Барселоне, в интернет, прочел последний номер и, позвонив мне, устроил такое... - святых выноси. А посредине своей ругани вдруг раз и пропал. Связь при этом не оборвалась. Я подумал, что он просто бросил трубку мимо аппарата. На следующее утро нам сообщили, что у него случился инфаркт и он скончался по дороге в больницу Сан-По.
- Черт, Браун, - вступил поднакалившийся Гилденсберг, - нахрена ты нам соврал?!
- Что?.. Что соврал?.. – не мог прийти в себя Саша.
- Да то! Ты же сказал, что с его ведома статья должна выйти на первой полосе.
- Ну... Так и было, - неубедительно врал Саша.
- Врешь, гад! – разозлился и Розенкроц. – Он сказал, что ты должен был дождаться его. Так?
Саше нечего было ответить. Он потупился, встал и молча вышел, оставив на диване свою вдумчивую газетную физиономию. Пройдя на свое место, которое было отгорожено от общего зала книжным шкафом, он сел и уткнулся взглядом в темный монитор. Из матового его стекла на него глядело хмурое его отражение. «Вот тебе и триумф», - вздохнул он. Вдруг оно, лицо его в мониторе, как-то начало округляться и..., через секунду, он увидел мертвенно-бледную луну Кирилла Мефодиевича. Саша в ужасе отскочил от стола. «Черт, крыша едет, - подумал он, - мне просто необходимо выпить коньяку».
***
Все сотрудники давно уже ушли, бутылка была наполовину пуста, близилась полночь. Раздался какой-то скрип, Саша вздрогнул и проснулся. Пить он не умел, а в одиночку и вовсе пил впервые, поэтому и отключился после четырех рюмок. За окном заунывно постукивал дождик. Осень. Саша поежился от холода и прошел к окну, чтобы прикрыть фрамугу. Закрыл ее, но по офису вдруг будто прошелестел холодный осенний ветерок. Саша оглянулся. «Может дверь не прикрыта?», - подумал он и прошел к входной двери. Она была не только прикрыта, она была заперта снаружи. «Черт! Во, попал», - расстроился Саша. Он прошел на офисную кухню, где стоял кулер для воды, кофеварка, холодильник и печка СВЧ, подошел к раковине, открыл воду и сунул голову под холодную струю. Вода, стекая в слив раковины, пела каким-то заунывным заупокойным пением. Саша выключил воду, выдернул из держателя пару бумажных полотенец и промокнул ими длинные свои волосы. В голове немного прояснилось. «Черт. Что же теперь будет, - заработало наконец в его мозгу. – Скандал. Розенкроц молчать не будет. Завтра все узнают, что причина смерти Савранского – я. Господи. Все так хорошо складывалось. Годик-другой потерпеть и он бы назначил меня своим преемником. Чертов педофил... Возьми, да и сдохни. Черт. Надо как-то нейтрализовать Розенкроца и Гильденсберга. Но как? Оба теперь спят и видят себя на месте Савранского. Так. Это хорошо. Нужно их столкнуть лбами. Пусть грызут друг дружку. А мне..., мне срочно нужно залезть в компьютер шефа, благо, пароль я знаю, и пока не поздно, написать от его имени пару хвалебных рекомендаций на себя и твердое распоряжение своим замам не печатать до его редакции моих материалов. Из таких писем вся вина за смерть шефа ляжет на этих двух придурков, а я скажу, что сдал лишь черновой материал к приезду Савранского».
Итак, план был ясен. Саша вышел из кухни и вдруг остановился в неясной тревоге. Полутемный офис окатил его каким-то могильным холодом. Наступила полночь. Саша медленно пошел к своему рабочему столу обогнул книжный шкаф и... окаменел. В его кресле сидела какая-то черная фигура в черном плаще с капюшоном, из-под плаща выглядывала серебристая шпага.
- О, боги..., - наконец прошептал он, - что это?
- Не что, а кто, - гулко отозвалась фигура, - Вы присаживайтесь, Александр Андреевич. Вот тут и стульчик есть какой-то. Смелее.
Саша упал на стул напротив ночного гостя. Он посмотрел на коньяк, слабо надеясь, что это все его проделки, перевел взгляд на плащ. Тот никак не исчезал.
- Да Вы не пугайтесь, Браун. На вас лица нету. Тени не кусаются. Позвольте представиться, я Уильям Шекспир, сын Джона из Стратфорда-на-Эйвоне, точнее, как вы меня тут назвали, - гость постучал пальцем по столу, на котором лежал развернутый номер «Новой Культуры», - я Тень Гамлета.
- К-как? – икнул Саша.
- К-как, - передразнил Шекспир. – Вот так вот.
- Но..., но, - начал оживать Саша.
- Послушайте, Браун, хватит уже дрожать. Нате-ка, выпейте коньячку. Небось без яда он, ведь я ж не Клавдий подлый.
С этими словами, похожими на стихи, Шекспир протянул руку (точнее рукав, руки не было) к бутылке, та поднялась в воздухе, налила в рюмку коньяку, рюмка пододвинулась к краю стола. Саша послушно взял ее дрожащей рукой и выпил. Коньяк подействовал благотворно. Страх вдруг исчез, как вода в песке и появилось некоторое даже любопытство. Произошла эдакая волшебная сублимация. То есть, из страха, минуя сомнения и удивления, он сразу окунулся в вопросы.
- И как же вы, это...,
- Как я здесь оказался? – устало вздохнул драматург. – Видите ли, Саша, вы позволите мне вас так называть? Вы у меня три тысячи пятьсот сорок седьмой. Да-да. Именно столько книг и публикаций, включая вашу, последнюю, посвящено за четыреста лет моему несчастному Гамлету. Всякий раз, как только выходит очередной памфлет, мне приходится вставать из гроба и держать ответ. Бернард Шоу меня измордовал и в хвост и в гриву, ваш бородатый граф и вовсе за драматурга не считал (он, я слыхал, даже Пушкина вашего пинал почем зря), антистратфордианцы и вовсе отрицают мое существование, вы вот теперь. Ишь ведь наказание господне. Знай я, что не будет мне из-за этой невинной пьески на том свете никакого покоя, ни за что бы и не подумал ее написать.
- Невинной пьески? – проснулся в Саше праведный критик-обличитель. – Да это же поклеп, клевета на все человечество! Сатана, умей он писать, не написал бы более гнусных виршей на творенье божье.
- Ну-ну, - Шекспир откинулся на спинку кресла и приготовился скучать.
- Ну, ей богу, мистер Шекспир, давайте посмотрим на вашу пьесу повнимательней.
- Ну-ну, - повторил, как бы зевнув, призрак.
Голос исходил из черной дыры капюшона, но Сашу это почему-то уже не смущало. Он уже не был Сашей, он уже был чеховским генералом Александром Брауном.
- Ни одного, маэстро, ни одного положительного героя. Даже Горацио, которого бы и можно было, притягивая за уши, назвать неплохим парнем и тот в конце пьесы малодушно пытается выпить остатки яда. Об остальных и говорить нечего. Кто там еще? Храбрый Фортинбрас? Этот честолюбивый засранец ведет многочисленное войско в Польшу, дабы положить его за никому ненужный клочек земли:
Что значит человек,
Когда его заветные желанья -
Еда да сон? Животное - и все.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что тут виной? Забывчивость скота
Или привычка разбирать поступки
До мелочей? Такой разбор всегда
На четверть - мысль, а на три прочих - трусость.
Но что за смысл без умолку твердить,
Что это надо сделать, если к делу
Есть воля, сила, право и предлог?
Нелепость эту только оттеняет
Все, что ни встречу. Например, ряды
Такого ополченья под командой
Решительного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвется к сече, смерти и судьбе
И жизнью рад пожертвовать, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот-то и велик, кто без причины
Не ступит шага, если ж в деле честь,
Подымет спор из-за пучка соломы.
Отец убит, и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
Готовых лечь в могилу, как в постель,
За обладанье спорною полоской,
Столь малой, что на ней не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых.
О мысль моя, отныне будь в крови,
Живи грозой иль вовсе не живи!
На этом все. Остальные же герои, такие, как Клавдий, Гертруда, Полоний, Розенкранц и Гильденстерн, которым по закону жанра и задумке сюжета и должно быть подлецами, у вас, напротив, проявляют и житейскую и государственную мудрость и даже имеют человеческое сердце. Полоний, к примеру:
Заветным мыслям не давай огласки,
Несообразным - ходу не давай.
Будь прост с людьми, но не запанибрата,
Проверенных и лучших из друзей
Приковывай стальными обручами,
Но до мозолей рук не натирай
Пожатьями со встречными. Старайся
Беречься драк, а сцепишься - берись
За дело так, чтоб береглись другие.
Всех слушай, но беседуй редко с кем.
Терпи их суд и прячь свои сужденья.
Рядись, во что позволит кошелек,
Но не франти - богато, но без вычур.
По платью познается человек,
Во Франции ж на этот счет средь знати
Особенно хороший глаз. Смотри
Не занимай и не ссужай. Ссужая,
Лишаемся мы денег и друзей,
А займы притупляют бережливость.
Всего превыше: верен будь себе.
Тогда, как утро следует за ночью,
Последует за этим верность всем.
Или, пусть цинично, но очень верно:
На удочку насаживайте ложь
И подцепляйте правду на приманку.
Так все мы, люди дальнего ума,
Издалека, обходом, стороною
С кривых путей выходим на прямой.
А вот умно философствует Гертруда:
Так создан мир: что живо, то умрет
И вслед за жизнью в вечность отойдет.
Даже недалекий Гильденстерн говорит: «А сны и приходят из честолюбия. Честолюбец живет несуществующим. Он питается тем, что возомнит о себе и себе припишет. Он тень своих снов, отражение своих выдумок». Ему вторит Розенкранц: «Как невесомо и бесплотно честолюбие. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень тени».
А монолог короля? Разве таков должен быть злодей в пьесе?
Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.
Помилованья нет такой вине.
Как человек с колеблющейся целью,
Не знаю, что начать, и ничего
Не делаю. Когда бы кровью брата
Был весь покрыт я, разве и тогда
Омыть не в силах небо эти руки?
Что делала бы благость без злодейств?
Зачем бы нужно было милосердье?
Мы молимся, чтоб бог нам не дал пасть
Иль вызволил из глубины паденья.
Отчаиваться рано. Выше взор!
Я пал, чтоб встать. Какими же словами
Молиться тут? "Прости убийстве мне"?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
При мне все то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева,
За что прощать того, кто тверд в грехе?
У нас нередко дело заминает
Преступник горстью золота в руке,
И самые плоды его злодейства
Ест откуп от законности. Не то
Там, наверху. Там в подлинности голой
Лежат деянья наши без прикрас,
И мы должны на очной ставке с прошлым
Держать ответ.
Ну да бог с ними. Положим вы просто не смогли спрятать своего ума и вложили совесть в бессовестных. Ну а положительные герои, к коим, я понимаю, следовало бы отнести Офелию, Лаэрта и самого Гамлета? Как можно рассуждать о любви Офелии, если та, только ее остерег братишка: «Пока наш нрав не искушен и юн, застенчивость - наш лучший опекун» и цыкнул папа:
Силки для птиц! Пока играла кровь,
И я на клятвы не скупился, помню.
Нет, эти вспышки не дают тепла,
Слепят на миг и гаснут в обещанье.
Не принимай их, дочка, за огонь.
Будь поскупей на будущее время.
Пускай твоей беседой дорожат.
Не торопись навстречу, только кликнут.
А Гамлету верь только в том одном,
Что молод он и меньше в повеленье
Стеснен, чем ты; точней - совсем не верь.
А клятвам и подавно. Клятвы - лгуньи.
Не то они, чем кажутся извне.
Они, как опытные надувалы,
Нарочно дышат кротостью святош,
Чтоб обойти тем легче. Повторяю,
Я не хочу, чтоб на тебя вперед
Бросали тень хотя бы на минуту
Беседы с принцем Гамлетом. Ступай.
Смотри не забывай!
тут же и отвернулась от возлюбленного. Более того, она соглашается быть подсадной уткой и с ее помощью король, королева и Полоний подслушивают этот, на мой-то взгляд, вовсе не главный монолог Гамлета, в том смысле, хотя бы, не главный, что здесь он вроде бы страшится того, что ждет после смерти, а в конце пьесы (снова необъяснимое противоречие), в разговоре с Горацио называет смерть блаженством:
Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.
И в прочих диалогах Офелии с остальными героями, вы как-то добиваетесь того, что когда она, сбирая цветы, случайно (а вовсе не специально) падает в воду, зрителю и читателю ее совсем не жаль. Совсем. Поэтому, когда благородный Лаэрт в горе бросается в ее могилу, не верится и ему.
Благородный Лаэрт... Вот тоже парадокс. Это ведь ему, а вовсе не Клавдию приходит мысль отравить рапиру. Кубок с ядом король уж для верности приготовил. То есть братец, вместо того, чтобы отомстить за смерть и честь так, якобы горячо любимой им сестры, сознательно идет на подлое и трусливое убийство.
Ну и, наконец, Гамлет. Давайте посмотрим на него поближе. С самого начала. Вот он встречает тень любимого отца, почтительно выслушивает, но, когда требует от друзей клятвы на мече, а отец из-под земли ему вторит: «Клянитесь!», он почтительнейше обращается к папе: «Ты, старый крот? Как скор ты под землей! Уж подкопался? Переменим место». Любящий сынок.
Далее, уж, коль скоро, поклялся отомстить – иди и убей дядю. Ничуть. Он устраивает комедию с собственным сумасшествием, да еще и аудит (не верит папе) с заезжими актерами, где, кроме проверки Клавдия издевается над матерью, хотя отец ему строго наказал мать не трогать:
Мне верится, вы искренни во всем.
Но не всегда стоим мы на своем.
Решимость наша - памяти раба:
Сильна до службы, в выслуге слаба.
Что держится, как недозрелый плод,
Отвалится, лишь только в сок войдет.
Чтоб жить, должны мы клятвы забывать,
Которые торопимся давать.
У каждой страсти собственная цель,
Но ей конец, когда проходит хмель.
Печаль и радость в дикости причуд
Сметают сами, что произведут.
Печали жалок радости предмет,
А радости до горя дела нет.
Итак, когда все временно и тлен,
То как любви уйти от перемен?
Кто вертит кем, еще вопрос большой:
Судьба любовью иль любовь судьбой?
Ты в силе - и друзей хоть отбавляй,
Ты в горе - и приятели прощай.
Но кончу тем, откуда начал речь:
Не может жизнь по нашей воле течь.
Мы, может статься, лучшего хотим,
Но ход событий не предвосхитим.
Так и боязнь второго сватовства
Жива у вас до первого вдовства.
Диалог с королевой, где Гамлет издевается над матерью уже лично, а не посредством актеров, и вовсе вспоминать не хочется. Если и вспомнить, то в том смысле, как неестественен этот диалог, произносимый над трупом в общем-то безобидного Полония, будто его нет. Кстати, и убийство Полония. Гамлет, ни грамма не сомневаясь, заколол его через ковер, думая, что это его дядя, хотя, минуту тому, он рассуждал вот как:
Он молится. Какой удобный миг!
Удар мечом - и он взовьется к небу,
И вот возмездье. Так ли? Разберем.
Он моего отца лишает жизни,
А в наказанье я убийцу шлю
В небесный рай.
Да это ведь награда, а не мщенье.
Отец погиб с раздутым животом,
Весь вспучившись, как май, от грешных соков,
Бог весть, какой еще за это спрос,
Но по всему, наверное, немалый.
Так месть ли это, если негодяй
Испустит дух, когда он чист от скверны
И весь готов к далекому пути?
Нет.
Назад, мой меч, до боле страшной встречи!
Когда он будет в гневе или пьян,
В объятьях сна или нечистой неги,
За картами, с проклятьем на устах
Иль в помыслах о новом зле, с размаху
Руби его, чтоб он свалился в ад
Ногами вверх, весь черный от пороков.
Но мать меня звала. - Еще поцарствуй.
Отсрочка это лишь, а не лекарство.
Очень по-христиански мщенье. Со вкусом. Уж ударить, так с доворотом.
Ну и в довершение портрета положительного героя – путешествие в Англию. На корабле принц крови тайком выкрадывает и вскрывает письмо из которого понимает, что его должны обезглавить сразу по прибытии, и что же делает наш благородный принц? Совершает подлог. Подделывает почерк и подпись, ставит дубликат печати, доставшийся ему от папы и тем самым придает смерти еще недавних своих друзей, Розенкранца и Гильденстерна. Они, конечно, ребятки с гнильцой, но всего только слуги и выполняли приказ короля, не больше. Ну убей ты их, в конце концов, сам. Но таким низким даже не для принца – для обыкновенного человека способом...
В общем, одного лишь я нашел в вашей пьесе героя, который мне близок – это первый могильщик, который, на вопрос: «Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?», отвечает: «Могильщик. Его дома простоят до второго пришествия».
Саша выдохнул, словно произнес свой монолог на одном глотке воздуха, налил себе коньяку, выпил и победоносно откинулся на спинку своего стула.
- Ваш Пастернак переводит очень неточно, но... красиво, - спокойно проговорил Шекспир. - Вообще, ваш язык, не скажу, что благозвучен, но весьма выразителен и, я верю, ради этой выразительности он и позволял себе отступать от первоисточника. Кроме того, Пастернак пользовался фолио 1623 года, изданного уже после моей смерти, а в нем отсутствуют целых 230 строк. Впрочем, задумки моей это не меняет. Все так. Но, позвольте, любезный Александр Андреевич, я не вижу здесь никаких противоречий. В убийце нет-нет да и просыпается совесть, в благородном мстителе (ничто не чуждо человеку) и трусость и низкий поступок. Боже, это же сама жизнь. Вот как раз чистый Ромео и непорочная Джульетта – вот где ни доли правды жизни. Так, слезу из публики выжать. Но..., - рукав призрака поднялся, как бы упреждая возражения, для которых уже выпрямил спину Саша, - я не стану сегодня с вами спорить. Если пьеса четыреста лет и по-прежнему заставляет о ней писать, то значит есть же в ней хоть что-то. Я сейчас о другом. Мне, пока я вас слушал, пришел в голову сюжетец. Сам-то я, как вы знаете, при жизни сам ничего не придумывал. Все, правду вам сказать, все на свете давно придумано до нас, поэтому уже неважно, что говоришь – важно как. Вот зацените пьеску.
Жил был юноша, совсем мальчик. Мальчик способный, но почему-то очень недооцениваемый окружающими. И затаилась с самого детства у этого мальчика лютая злоба на весь божий мир. Однако, мальчик этот вырос и, дабы избавиться от ненавистного прошлого поменял себе имя. Под этим новым именем стал он делать себе писательскую карьеру. Но одним пером много не отвоюешь. Тогда решился он ради перспектив на противоестественную богопротивную связь со своим начальником. Страдал от этого безмерно, но дело важнее, да к тому же, и злоба его на людей вовсе не исчезла, а приумножилась многократно. (Саша стал заметно ерзать на своем стуле). Мальчик, теперь уже вполне оформившийся молодой человек, зная, что у начальника его слабое сердце, в его отсутствие издал книжку, порочащую репутацию этого начальника. Тот, прочтя, не выдержал, да и скончался от сердечного приступа. Однако, на пути его стояли еще два человека, с сердцами у которых было все в порядке. (Саша уже весь дрожал, до боли в пальцах сжав ручки своего стула). Тогда решил он их оклеветать, обвинив их в смерти начальника. Путь к месту своего благодетеля был свободен. И все у него почти вышло, но явилась к нему вдруг как-то ночью... Тень Гамлета и обличила его в грехах его, тогда он...
Тут Саша не выдержал и бросился на Шекспира. Тот резко встал, отскочил на шаг, вынул свою шпагу и, со словами: «Так ступай, отравленная сталь по назначенью!», проткнул ею Сашино сердце. Юноша вскрикнул, зашатался и рухнул к ногам Шекспира. Возможно, в это время, где-то в Сашиной родной деревне пропел петух и призрак, прошептав: «Так на же, самозванец-душегуб. Глотай свою жемчужину в растворе. За матерью последуй», медленно растаял в воздухе.
***
Наутро, в офисе еженедельника «Новая Культура» был обнаружен труп молодого ее сотрудника, Александра Брауна, с диагнозом «инфаркт миокарда», предположительно, в результате злоупотребления спиртным. Розенкроц, исполняющий обязанности главного редактора, и его зам, Гильденсбург, описали событие весьма патетично в статье под заголовком «Ученик не перенес смерти любимого учителя». За этими событиями, скандал со статьей Брауна «Тень Гамлета» сам собою и забылся, но Розенкроц больше никогда никому в своей газете не позволял касаться Шекспировских тем.
Рейтинг: +1
538 просмотров
Комментарии (1)

