Предвкушение счастья. Глава 20
6 сентября 2015 -
Денис Маркелов

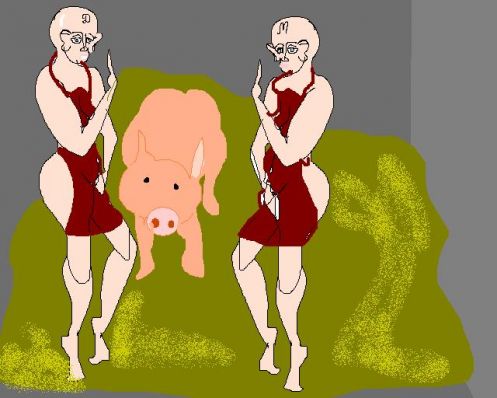
20
Титаренко не мог не нарадоваться на этих весьма послушных батрачек.Даша и Маша больше не вспоминали ни о ЕГЭ, ни о Москве, с таким большим и притягательным университетом.
Им даже нравилось варить ту бурду, которую давали свиньям. От этого варева пахло ужасно, но девичьи носы скоро притерпелись и к этому мерзкому запаху.
Во время работы им разрешалось носить большие кожаные фартуки. Это одеяние скрывало от любопытных птиц девичьи лобки. Даша ужасно боялась то петуха, то важного и строгого индюка, а от крика воробьёв у неё тотчас краснели уши.
Прошлое теперь казалось красивым и заманчивым сном. Никто не спешил к ним на помощь, да их и не было – они умерли вместе со своими телефонами.
Вечерами Титаренко приглашал их в гостиную. Он называл её залой и любил принимать своих полубартачек-полуналожниц в костюме Адама. Даше и Маше было наплевать на свою изжёванную гордость – они учились быть послушными куклами и без особых гримас брать в рот то, что предлагал им сердобольный и гостеприимный хозяин.
Он мало отличался от их пропавшего без вести «отца». Игнат также раздевал их взглядом, словно бы маленький и развратный мальчишка, в руки которого попала сестрина кукла. Ему нравилось пугать их, обзывая и презирая за слабость и такую ненадёжную гордость.
- Вот молодцы, читать-писать научились, и хватит с вас. Ну-ка скажите, сколько будет – пятью пять?
- Двадцать пять, - с трудом вымучивала ответ Даша.
- Верно.
Красная и мерзкая лапища Остапа опускалась на её бритую голову, словно бы на набалдашник трости.
Даша и Маша боялись только одного, случайно вспомнить о своей недавней подруге. Та была страшнее даже самых счастливых и радостных фотографий. Она, такая красивая и развратная могла бы тоже ползать на карачках и упражняться в знании таблицы умножения.
- А кто эту самую таблицу изобрёл?
- Пифагор, - в промежутке между сеансами миньета, ответствовала Маша.
- Правильно. А кто он?
- Эллин… Ну, древний грек.
-- Запам'ятай, кацапка, він був укром. Всі великі люди були украми. Зрозуміло тобі, Гола Башка?
Это прозвище понравилось Остапу. Он старательно унижал девушку, злясь, когда она не сразу надевала свой измученный рот на его вечно ненасытный и такой развратный пенис.
Даша и Маша боялись одного – в один прекрасный день обратиться в свиней. В детстве они видели японский мультфильм про слишком наивных японцев, которые съели чужое угощение и стали свиньями.
Остап специально не давал девушкам смотреться в зеркала. Он занавешивал их, словно бы в доме только что побывала смерть, и обеим несчастным пленницам казалось, что с каждым обсосанным пенисом они всё ближе к роковому преображению.
Зной царил в это время в степи. Зной заставлял их тела смуглеть. Но, то была не та бездеятельная смуглость пляжа, это была страшная смуглость плантаций, на которых ещё вчера белокожие люди становились темнокожими рабами.
«Какая разница, кем мы станем – свиньями или негритосками. Наверняка это необходимо, что мы больше никогда не задавались. И не лезли туда, где нас не ждут!».
Постепенно жиреющие свиньи были единственными их подругами. Они снисходительно похрюкивали, жалея несчастных девчонок, и в этом хрюканье обеим пленницам мерещилась материнская поддержка.
Они боялись, что вновь вернутся в Рублёвск. Что им придётся жить там, откуда их выдернули, как выдергивают больные зубы из челюсти – мать, которую они слегка презирали, они были готовы боготворить, и обещали забыть обо всех своих мечтаниях, о столице и пойти на самую непрестижную и грязную работу.
Серафима Григорьевна пошла к участковому инспектору утром в понедельник.
Она старалась утишить бег взволнованного сердца, унять тревогу, поселившуюся в душе.
Дочери никогда так зло не играли с её добросердечием. Они всегда возвращались, даже если задерживались у подруги.
Участковый молча выслушал её и предложил написать заявление и приложить к нему фотографии потерявшихся девушек.
Больше всего Серафима Григорьевна боялась того, что её повезут в морг и станут показывать полуразложившиеся трупы. Она не хотела искать своих девочек среди голых тел. Не хотела верить в их такую скорую и нелепую смерть. Смерть, которая была им «совсем не к лицу».
Участковый достал лист бумаги, трафарет и шариковую ручку, достал и попросил написать заявление. Серафима Григорьевна боялась показаться глупой стареющей женщиной, случайно разреветься от страха и обиды. Она села за свободный стол и стала выводить слегка кривоватые буквы, изредка бросая взгляд на портрет Президента.
Тот с отеческой нежностью взирал на неё. Её взгляд был знаком, когда-то она видела похожего человека. Тот белокурый с небольшой лысиной был запечатлён на белом коне в красивом мундире. Тогда в Эрмитаже она едва не отстала от экскурсии, слишком вглядываясь в лицо победителя Наполеона.
- Ну, что будем искать, – пообещал инспектор, беря заявление и список примет девушек вместе с их фотографиями.
Выйдя из полицейского участка, она решила пройтись по городу. Возможно, девочки засиделись в гостях и сейчас виноватые и краснеющие от стыда спешат домой. Серафима Григорьевна стала вглядываться в лица вчерашних школьниц, как в её кармане завибрировал телефон.
На зеленоватом табло красовалось одно слово; «классная». Серафима Григорьевна ответила на звонок и едва не оглохла от слегка нервозного голоса немолодой и нервничающей женщины.
Она в чём-то упрекала Серафиму Григорьевну и громко выражала своё недовольство тем, что Мария и Дарья не явились на сбор по поводу экзамена.
-Вот-вот будьте любезны придти. Это какой-то нонсенс, - крикнула она и отключилась от связи.
Серафима Григорьевна с трудом дошла до знаменитой Столыпинской гимназии. Дошла. Чувствуя, что тут ей не собираются помогать, наоборот будут обвинять в самых страшных прегрешениях.
Классная руководительница ожидала её у входа.
Это нонсенс. Я звоню, а эти девчонки не берут трубки. Мало того, что они самовольно ушли с торжественной линейки, так ещё и пропади неизвестно куда. Я всегда замечала у ваших девочек несобранность и легкомыслие. Вы мать, вы должны знать, куда они могли пойти.
Тараторенье классной отдавалось в голове Серафимы Григорьевны пугающими звенящими звуками, казалось, её голове была наполнена звенящими колокольчиками. И вот-вот была готова развалиться на части. Она плохо понимала эту злую и гадкую трескотню, ей вдруг захотелось пожить в тишине, перестать всё время думать о страшном.
Ноги подкашивались. Она вдруг почувствовала, что её тошнит, точно так же, как много лет назад, когда она впервые почувствовала в своём животе что-то тяжёлое. Но сейчас она не могла быть беременной – Игнат избегал её, избегал, словно бы точно знал, что она хроническая вереничка. «А что если он и убил её девочек? Если он догадался, он…»
Классная застыла с раскрытым ртом. Она вдруг всерьёз испугалась. Серафиму Григорьевну успел подхватить человек в форме охранника,
- Скорую надо вызвать. Живо.
Классная дрожащими пальцами набрала три заветных цифры.
Карета скорой помощи примчалась к школе через пять минут. Классная суетилась возле тела, мешая медикам и чувствуя стойкое желание тут же обмочиться от волнующего её страха. Охранник отвёл её в здание и усадил на стул.
- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Трупа нам ещё не хватало.
- Эти Дроздовы, я всегда чувствовала, что с ними у нас будут проблемы. Надо было вовремя избавиться от этой парочки выскочек. Тоже мне – чеховские сёстры.
- Хорошие девочки были, уважительные, - вздохнул охранник. – Теперь вот сиротами станут.
- Накаркаете ещё. Какими сиротами?
- Так тут намедни машина взорвалась. На Екатериноштадтском шоссе. Говорят, водителя в клочья разорвало – а номер мне памятен. Помнится, на машине с этим номером отец этих сестёр и ездил.
- Криминала нам ещё не хватало. Вот что значит всякой шантрапе дорогу в жизни давать. Вы в полицию сообщили?
- Зачем, у них во какая база – и без моих слов разберутся. Одна надежда, что это не он, а кто-то другой взорвался. Вот ведь ирод какой – собственную машину минировать. Да и машина-то дрянь, «копейка».
- Да, помню я его. Жадный ужасный. Всё сборы на класс зажиливал. А сам ведь на трёх работах вкалывал, всё ради этих сучек, прости господи.
Классная деланно перекрестилась и старательно сделала умильное лицо.
Серафиму Григорьевну везли на каталке в реанимацию. Она была почти мертва, и совсем не хотела возвращаться в этот непредсказуемый и мерзкий мир – там в далёком и таком желанном мире она хотела одного – встретить своих дочерей.
Игнат Иванович пытался выбраться из обжигающего озера огня, он был холодный, и от его прикосновений всё тело болело, как после страшной и смертной болезни.
Он ещё надеялся стать вновь живым. Всё было так нелепо и страшно, что он не мог до конца поверить в свою такую скорую и страшную смерть. Что он сгорел вместе с одетыми в школьные платья куклами, сгорел из-за своей злости и глупости.
Он тщетно взывал сначала к некогда презираемой супруге, то к дочерям, которых по-своему жалел, и надеялся на их помощь.
Даша и Маша, голые и испуганные жались к тёплому боку свиньи. Им больше не снилась такая далёкая и обманчивая Москва, снилась мать. Она протягивала к ним руки и что-то беззвучно кричала.
Девушки вздрагивали и всё сильнее прижимались к своей хранительнице. Сытая хрюшка сыто похрюкивала во сне – им было хорошо вместе и больше ничего не хотелось.
Рейтинг: 0
549 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

