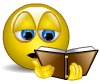Дщери Сиона. Глава сорок вторая
4 августа 2012 -
Денис Маркелов

Глава сорок вторая
Степан Акимович смотрел на вращающиеся бобины своего старого магнитофона. Из динамиков «Снежети» лилась песня «Память» Микаэля Таривердиева на стихи Роберта Рождественского.
Он тоже зарастал памятью, как и лирический герой этого слегка заикающегося поэта. Но в стихах была правда, странная пьянящая правда. От которой на глаза сами собой наворачивались слёзы.
Он играючи поставил на кон свою жизнь. Поставил, надеясь на скорый и не слишком опасный для жизни выигрыш, хотелось стать кем-то другим, вырваться из объятий деревенского быта, стать вполне городским и счастливым человеком. Учёба в юридическом институте, будущая работа адвокатом казалась верхом человеческого благополучия. Он представлял, как будет выступать в суде или штудировать многочисленные законы в каком-нибудь учреждении или на заводе.
Исидор Яковлевич увлёк его финансовым правом. Увлёк, как увлекает колдун милого простачка. И теперь, женившись на своей нынешней жене, он испытывал страшную скуку, скуку и злость на самого себя. Жизнь стала пустой, пустой, как пересохший колодец.
От пустоты хотелось убежать. И он решил взять в помощники великого Льва Толстого. Рука сама нащупала сборник повестей великого лапотного графа. И одна из повестей поразила его.
Его однофамилец умирал – и вся повесть была посвящена процессу его умирания. Степан Акимович пока не думал о смерти. Но была рядом. Она шла бок о бок с ним и насмехалась над ним, как смеется человек с мухобойкой над неповоротливым насекомым с прозрачными крыльями.
Быть мушкой было несносно. Хотя стихи из романа Войнич и приходили ему на ум всё чаще – поэт Блейк был прав. Он не знал, живёт или умирает. Возможно, это просто был продолжительный процесс ухода, ухода в неведомый и странный мир.
Но он не хотел совершать этот путь. Весь мир стал похож на очень опасный туннель – по этой трубе можно было выйти в цветущий сад или оказаться на страшной огнедышащей помойке среди грязи и разлагающихся на атомы существ. Он не хотел этого путешествия, он не просил о нём. Возможно, оно просто было неизбежно, неизбежно и от того еще более страшно.
Строки Толстого будили его совесть. Он вдруг испугался, испугался настолько. Что решил молчать. Молчать обо всём, что было в его прежней жизни. Молчать о свиданиях с Зиной, о том, что он сотворил с наивной первокурсницей Алевтиной, наконец о своём дурацком благородстве, когда он, упиваясь им, разлучил двух новорожденных сестёр. Поступая скорее, как неразумный мальчик в магазине игрушек, чем как взрослый и вполне нормальный человек.
И теперь ничего нельзя было изменить. Он разучился любить. Разучился верить в чужие искренние чувства. Разучился плакать от восторга, от того. Что рядом с ним ходит чистая незапятнанная душа. Теперь он видел прежде всего тело. Зиночка с её капризами была слишком телесной. Несмотря на своё бесплодие. Она любила секс – так человек, не зная о том, что болен диабетом, тянется к куску сладкого торта.
Зинаида Васильевна торжествовала. Седовласый живописец взял с неё совсем немного. Он явно гордился своим полотном, гордился и был даже слегка смущён.
Мисаилу Уланову ещё не приходилось писать таких двусмысленных картин. Хотя в библейском сюжете трудно было отыскать издёвку. Он долго разглядывал принесенные заказчицей фотографии.
- То есть это ваши дочки? Близнецы?
- Не совсем, - словно бы от зубной боли скривилась эта холёная женщина.- Это дочери моего мужа. Я сама не могу иметь детей. Это мой крест. Вы не представляете, как страшно быть бесплодной. Но ведь есть презервативы. Беременность для меня смерти подобна – если я забеременею, то или умру во время родов, или… Или попросту буду вынуждена избавиться от ребёнка. А эти девушки. Они не знают о существовании друг друга. Одна, правда. Живёт с нами. И даже искренне считает меня своей матерью. Хотя это слово мне режет слух. Вообще, видимо во мне уже угас этот проклятый инстинкт. Даже в детстве меня не тянуло играть в дочки-матери. А мой муж… Мой муж – он просто души не чает в этих никчёмных существах.
- То есть вы хотите увидеть его в образе Лота. А вы знаете, как закончила свою жизнь его жена?
- Стала соляным столбом. Не беспокойтесь, я бы была не против того, чтобы стать скульптурой, пускай даже и природной…
Зинаида Васильевна рассмеялась. Ей казалось, что она очень удачно пошутила, но этот скромный и слишком объёмный человек так не думал. Ему было жаль эту капризную женщину. К тому же было трудно и согласиться и отказать ей.
Теперь, когда на полотне разворачивалась человеческая трагедия, он вдруг пожалел того. Кто стал для этой женщины Лотом. Возможно, что и библейская супруга того самого незадачливого человека была столь же жестока. Возможно, что её тянуло в смрад содомских игрищ. Туда, где люди напрочь отрицали саму возможность деторождения, упиваясь лишь пьянящим ощущением. Прикладываемого добрым Творцом к этой необходимой процедуре.
На картине ненавистные ей девушки выглядели порочными и испуганными одновременно. Мысль об инцесте и раньше приходила ей в голову. Было бы забавно напоить допьяна эту глуповатую кривляку и лишить её последней благодати – благодати невинности.
Но Людочка была всего лишь куклой, куклой, которую продали и не хотели принимать обратно. Ужасно хотелось отомстить ей за это – сделать бракованной, поставить в угол и обстреливать дротиками, как
мишень для игры в дартс. Наконец, попросту вылить на её тупоумную голову правду, точно так же, как на голову слабоумных пьют холодную воду. Правда перед этим их всех делают одинаковыми, лишая привычных причёсок.
Бритоголовость очень пошла бы её падчерице. Она сама напрашивалась на это мерзкое оболванивание. В ней было много от зазнавшейся Золушки. «И почему я раньше не попыталась быть строгой с нею? Не поставила во время на колени?»
Зинаида Васильевна жаждала определенности. Она вдруг стала нуждаться в сбросе негативной энергии. Хотелось царить, просто царить. Приходить домой и хлестать по кому-то злыми словами, как хлещут розгами по телу провинившегося человека. Теперь она сожалела, что осталась в одиночестве, было бы приятно покуражиться над этой белоручкой – она сама превратила её в подобие куклы – и теперь была в восторге от любой злой мысли, направленной против этой милой в своей бесхребетности девушки…
Степан Акимович уже не верил, что его дочь когда-нибудь найдут. В его душе жил испуганный школьник, школьник, который потерял или красивый пенал, или – что гораздо хуже – ключи от квартиры.
И теперь всё шло к большому скандалу, скандалу, которого он искренне боялся.
Хотелось избавиться от навязанных ему оков. И хотя он знал много способов, как остаться чистым, всё равно страх перед этой зловонной лужей не проходил. Казалось, что она затягивает его в себя, что теперь равно – женат ли он или холост, точнее позорно разведён.
«И почему я так завяз в этом болоте? Почему вообще оказался здесь? Почему решил убежать от привычного мира в какой-то иллюзорный или придуманный мной мир. Кто мне сказал, что я могу быть адвокатом – что могу называться коллегой Кони, или какого-нибудь другого светила?»
Ответа не было. Да и он не нуждался в ответе, не нуждался, как не нуждался в наставлениях, прошедшего фронт отца, который вскоре тихо скончался от полученных ран, подарив жизнь сначала его сестре, а потом и ему.
Шорканье ключа застало его при разговоре женоубийцы Позднышева с рассказчиком. Он мысленно витал над этими двумя, понимая, что сам ничем не лучше Позднышева. Тошнота подступала к самому горлу. Он вспоминал свою юность. Нет, он не стремился поскорее раскрыть мучащих других тайну. Он попросту боялся её, боялся необходимости становиться пусть и на краткое время зверем, и принуждать к животности другое неведомое ему тело.
«Да, неужели… это всё – необходимо? Ведь нет. Возможно, это только нам так кажется, что мы не можем жить без этого. Что это необходимо, как стакан воды, а ведь это всё, всё – один только яд…».
И он засмеялся. Смех доставил ему удовольствие. Он избавлял его от угрызения совести. Теперь он понимал, что читай он в юности Толстого, он бы никогда не женился. «Каждая счастливая семья похожа на другую счастливую семью, но каждая несчастная – несчастна по-своему»,- слегка перевирая авторский текст, подумал он.
И он был несчастен по-своему. Как и все те, кто окружал его. Он понимал, что сломал жизнь не только себе, но и своей нынешней супруге. Что тогда надо было быть гордым, и отказаться это этой ненужной никому женитьбы, а проще было вновь уйти туда, откуда он появился, словно чёртик из табакерки. И ведь он не чувствовал никаких особых чувств к Зинаиде, даже Алевтина, и та казалась ему дальней родственницей, которую ему доверили опекать, но не склонять к преступному, и от того ещё более мерзкому сожительству.
И вот теперь он лишился одной из дочерей. В этом существе его была лишь та нелепая субстанция, что хранилась в его пенисе. И теперь, создав это существо, он страдал, как никогда раньше.
Однако шум открываемой двери и чьи-то незнакомые шаги заставили его оторваться от чтения. Жена с кем-то разговаривала вполголоса. Всё это походило на незапланированную измену. Вероятно, ей хотелось подразнить его.
Выйдя в прихожую он хмуро посмотрел на седого широкоплечего человека. Они чем-то были похожи и наверняка были ровесниками. От человека веяло уютной стабильностью. Он вообще излучал начальственное спокойствие и теперь походил на лауреата Государственной премии СССР, по крайней мере.
- Я тут картину купила. От ковра на стене только моль разводится. А картина – это всё же искусство.
Степан Акимович был согласен. Он устал возиться с коврами. Было как-то слишком страшно доверять уборку дочери. Он был против насильственного трудовоспитания. Получалось, что он эксплуатирует эту глупышку. А быть злым и по-чеховски бездушным хозяином ему не позволяла совесть.
Художник поклонился и ушёл.
А жена с азартом дошкольницы на новогоднем утреннике начала распаковывать полотно.
Степан Акимович понял, что заболевает. Вдруг библейский миф о несчастном праведном Лоте встал перед его глазами во всей полноте. Именно он был этим Лотом, Дотом, продолжавшим жить среди грязи и подлости, и ему требовался приход трёх ангелов, чтобы он наконец покинул пропахший похотью город.
У Лота наверняка была такая же самодовольная жена. И кто сказал, что она была родной матерью этим девушкам. Она же не возмущалась, когда Лот намеревался отдать на поругание толпе их юные тела и души.
Зинаида Васильевна упивалась своей местью Она вспоминала, как холодно принимала ухаживания этого странно притягательного деревенщины. Как старалась во всём угодить своему дяде. Как мечтала, что будет обманывать Степана с дядей Исидором. Как наконец решится и вылечится от своих гинекологических проблем, делающих её бесплодной и мерзкой смоковницей.
Но этого не случилось. Ей стало скучно. Душа её начала скукоживаться и усыхать, словно оставленное на солнцепёке яблоко. И от этого злость на этого простака становилась подобна зубной боли – её невозможно было терпеть и невозможно унять.
На полотне был он – голый пьяный и безвольный. Он – её проклятье. Теперь в этом шаржированном образе выходили на первый план все те ужасные недостатки, что разъединяли их. Быть напоенным допьяна и использованным своими же дочками. Использованным, как обыкновенный скот, ради желания продлить свой род.
«И что разве это так важно? Разве эта нелепая гимнастика так уж необходима? И вообще, что мы делаем, когда производим на свет себе подобный – добро или зло. Ведь мы становимся богами, богами, у которых мозги мало отличаются от мозгов курицы…».
Если бы дочери мужа решили забеременеть от него – она была бы рада. Она и раньше подумывала о таком раскладе – увидеть на лице Степана Акимовича гримасу раскаяния, заставить его сожалеть о своём беспомощном положении, наконец попросту сделать его преступником – это было так сладко, сладко, как стакан лимонада в жаркий июльский полдень.
Степан Акимович понимал, что его лицо было написано как-то странно. Это был он, и в то же время – не он. Казалось, что его показывали ему самому, как назидательную картинку. Зато одна из дочерей, что сидела у него на коленях слишком уж напоминала Людочку. А может быть, Лору…
«Хорошо, что они родились однополыми… А если бы…»
Он вдруг так явно представил совокупление разнополых близнецов, что тотчас залился краской, как нашаливший в классе школьник.
Из повести о фальшивом купоне он знал, что грех цепляется за грех. Что он охватывает человека, как тяжёлая цепь, и что от него трудно избавиться, как от смертельных объятий анаконды.
«Вот полюбуйся. Вполне невинный сюжет… Я специально заказала нечто неопределенное…»
- Невинный?! – перебил он жену. – Ты говоришь, что это – невинно?!
Он вдруг понял, что превратился в глазах этой бесплодной дуры в паяца. Что теперь его можно было дёргать за ниточки, как марионетку, что но сам напросился в руки безжалостного кукловода, и от этого палача ему не спастись.
Он вернулся в гостиную. Старомодный магнитофон уже закончил свою работу, и молчал, как молчат приехавшие издалёка старшие родственники, пережидая шторм семейного скандала. Степан Акимович невольно устыдился этой машины, устыдился, как будучи школьником стыдился клякс в первом классе, или не отомщенных синяков.
Предостережение седовласого живописца прошло мимо ушей Зинаиды Васильевны. Она не могла представить себя фигурным куском соли, куском, который издали можно принять за фигуру женщины.
«И почему он так сказал? Что за глупость? Этого просто не может быть, как не может быть того, что я такая цветущая стану вдруг развалиной. Мне же всего тридцать четыре года. Всего. Я могу найти кого-нибудь другого, более смелого, решительно. И вообще не мог же свет сойтись на этом бездарном уроде!».
В этот момент нагло и напористо подал свой голос телефон. Звонили явно из другого города, и явно ожидали ответа. Зинаиде даже показалось, что это напоминает о себе ненавистная Алевтина, что именно эта дурацкая женщина и норовит занять её место, выгнав её, как не справившуюся со своими обязанностями жену на грязную продуваемую всеми ветрами помойку.
Она была готова прекратить этот навязчивый монолог, как муж снял трубку с аппарата в спальне.
Таловеров был рад, что будет говорить с мужчиной. Он не любил истеричных дам. Не любил быть с ними любезным и всё понимающим офицером.
Но Головин явно был ошарашен его монологом. Он слушал, и казалось, что слова Таловерова уносятся в пустоту, тают в его мозгу, словно кусок рафинада в крепком английском чае.
«То есть вы задержали Лору Синявскую. Но она утверждает, что она – Людмила Головина? Значит, это всё-таки произошло?! Они встретились…»
«Кто?»
- Да мои дочери, чёрт возьми! Лора и Людмила сёстры. Значит, одна решила помочь другой и заняла её место. Боже, прости меня. Я не хотел, не хотел. Я завтра же буду в Сердобске. Приеду туда.
Головин ещё не знал, поедет ли поездом или предпочтёт автобус. Он даже и предположить не мог, что Людочка увидит когда-нибудь Лору. И теперь, теперь чувствовал себя малолетним хулиганом застигнутым с рогаткой строгим школьным директором.
«Давно было пора развязать этот узел! Я всё сделал для этого идиота профессора. Даже установил ему на могиле гранитный монумент.
Он был готов вновь скукожиться до размеров мальчишки. Вновь окунуться в своё такое далёкое и ужасно нелепое детство, когда он страшно мечтал быть каким-нибудь человеком с портфелем. Но теперь, теперь он с радостью променял это на обычную жизнь деревенского жителя.
Главное, было достигнуто. Её дочь была спасена. Головин вдруг подумал о Нелли, о том, как он просил эту девочку быть опорой для своей избалованной дочери, и наконец, как своей просьбой подтолкнул её в омут.
Угрызения совести были совсем некстати. Вообще, если бы Оболенский не играл с огнём, а просто закрыл глаза на назначение этого дурацкого займа, то ничего бы не было. Но он всюду чуял подвох, словно много раз битый дворовой пёс. И это злило. Злило до колик в животе. Головину было плевать на судьбу других девочек. Он был уверен, что сам никогда не потащил бы свою дочь в это актёрское агентство, а если это сделали бы другие – он не виноват.
Теперь было главное смириться с преображением дочери. Он вдруг поймал себя на мысли, что относится к ней, словно бы к некстати сорвавшейся с поводка собаке. Что боится лишь криво усмехнуться и закрыть дверь перед опозоренной и ставшей неинтересной девочкой.
И он стал думать о том, что скажет Зинаиде. Она вероятно, всё слышала. То, что его могли подслушать Степана Акимовича не волновало. Он боялся лишь немого укора в глазах дочери. Боялся только этого. И ничего больше…
Людочка похолодела. Ей даже показалось, что её вновь посадили голым задом на яйца. Сквозь эфир она уловила самое главное – та, кого она отправила на эту голгофу вместо себя была её кровной родственницей. И теперь ничего нельзя было сделать, невозможно было исправить то, что она сотворила, боясь пойти в своих страданиях до конца.
Она вдруг представила Зинаиду Васильевну. Во взгляде этой женщины она часто читала брезгливое равнодушие. Такое же, какое было в глазах детсадовской воспитательницы, и вообще в глазах тех, для кого она была помехой.
И теперь она поняла, почему. Она была обычным подкидышем. Что-то вроде Кати Масловой. Которая стала проституткой и торговала единственным, что ей принадлежало своим женским телом. Людочка заплакала. Ей вдруг показалось, что за стенами этого участка гремят колёсами конные экипажи. А она никакая не дочь банковского юрисконсульта, а обычная девушка со свежеполученным жёлтым билетом. Что-то вроде Сонечки Мармеладовой, которую она немного презирала, будучи самозваной Принцессой.
Было страшно вновь приспосабливаться к миру. Вновь играть какую-то роль и дрожать от страха за своё прошлое. Конечно, на её теле почти не осталось примет её падения. Надпись Какулька сумела свести добрая Шутя. А всё остальное казалось теперь просто неприятным сном, обычным ночным кошмаром.
Людочка попыталась пропеть «Я - Принцесса», - но тотчас сплюнула, словно избавляясь от чего-то горького или ядовитого. Теперь это восклицание заставляло испытывать тошноту, словно было таким же дерьмом, как и то, что несчастная попробовала в самый тяжёлый для себя день – понедельник 11 мая…
Рейтинг: +3
598 просмотров
Комментарии (2)
| Людмила Пименова # 19 сентября 2012 в 21:03 +1 | ||
|
Новые произведения