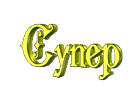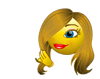Годы армейские
3 ноября 2014 -
Александр Шатеев


1
В армию я ушёл 18 апреля 1978 года, закончив Тульский электромеханический техникум. До этого 25 февраля состоялась защита диплома, а 11 марта мы всей группой отметили окончание учёбы в ресторане «Дружба» и получили распределение на работу. Мне предстояло работать в течение двух лет в Калининской (ныне Тверской) области в небольшом городке Западная Двина. Техникум наш принадлежал Министерству бытового обслуживания населения, а потому, и отрабатывать мне предстояло в мастерской по ремонту бытовой техники. Надо сказать, что распределение для нас, мальчишек, было весьма условным, и никто не придавал этому большого значения – со дня на день все ждали повесток из военкомата. Мне надлежало прибыть в Западную Двину 1-го апреля, но, тем не менее, 23-го марта устроился на работу на Тульский завод «Прибой», производящий, главным образом, наушники и микрофоны. Перед службой надо было поработать и для того, чтобы армию засчитали в трудовой стаж (так советовала мне мать), да и получить двухнедельное выходное пособие при увольнении в связи с призывом в СА тоже было не лишним.
Мои друзья, одногруппники, один за другим получали заветную бумажку из военкомата, сдавали направление на работу обратно в учебную часть техникума и в назначенный день являлись с вещами в свои военкоматы, а я всё ждал и не мог дождаться, когда же гонец принесёт и мне желанную повестку. Время шло, военкомат молчал, и я даже немного запаниковал – ведь в любой день из Западной Двины могли прислать в техникум запрос, почему, мол, ваш выпускник не явился по месту работы? Терпению моему пришёл конец, и я попросил отца зайти в военкомат и поинтересоваться, не получилось ли какого-нибудь недоразумения в отношении меня, не затерялось ли моё личное дело? Надо сказать, что мой отец, офицер-пограничник, после увольнения из армии, работал в оборонном НИИ и каждый день по пути на работу проходил мимо Зареченского райвоенкомата г. Тулы. И вот в один прекрасный день он сам лично доставил повестку – где мне предписывалось 18 апреля 1978 года в 6 часов утра явиться к воротам военкомата, имея при себе необходимый минимум вещей, указанных на обороте повестки.
Итак, 18 апреля, весенним солнечным утром я в сопровождении родителей и братьев с вещмешком за спиной пешком отправился к военкомату (он находился в двух троллейбусных остановках от нашего дома). Моё сердце было наполнено чем-то волнительно радостным, каким-то головокружительным томлением встречи с ещё незнакомым мне миром!
От военкомата нас, человек десять призывников, повезли на старом (ещё «носатом») ПАЗике на стрижку. Парикмахерская находилась недалеко, в двух кварталах от военкомата, в старом здании на берегу Упы. Дорога заняла всего минут пять, не больше. Когда приехали, парикмахера ещё не было, пришлось ждать. Но вот он пришёл и с извинениями за опоздание открыл дверь. Во время стрижки мои волосы и ещё двух-трёх человек парикмахер аккуратно складывал в коробочку, а не сбрасывал на пол, как остальные. Я так понял, что он собирается из них сделать какие-нибудь шиньоны или что-то в этом роде. Удивительно, никогда не подозревал, что мои волосы имеют какую-то ценность! Я вообще любил короткую стрижку, а когда постригли «под ноль» – ощутил такую необыкновенную лёгкость!
Когда со стрижкой было покончено, нас повезли на сборный пункт. В Туле он находился (да и сейчас находится, должно быть) около Московского вокзала. Пункт кишел как муравейник. Мы, новобранцы, только и успевали вертеть головой: туда-сюда сновали «покупатели» – офицеры, прибывшие за пополнением. То пограничника увидим, то моряка, то танкиста. Каждый думал, наверное, тогда так же, как и я: «А вдруг именно в эту команду я попаду, к этому офицеру?». У тех в руках были стопки карточек призывников и порой они прямо на ходу обменивались ими. Так при мне один из «покупателей» метался от одного офицера к другому и с тоской в глазах умолял: «Помогите, ради бога! Нужен киномеханик… Меняю повара на киномеханика!» Видно получил от командира задание без киномеханика в часть не возвращаться. Так решалась наша судьба, может, и меня могли на кого-нибудь поменять, но, видно, в этом плане я абсолютно ни для кого интереса не представлял.
В военкомате меня определили в команду-200 (хорошо ещё, что не в «груз-200»!), для отправки в Войска правительственной связи. Но куда и когда отправят, никто не знал. Ходили слухи, что иногда на сборном пункте держат по два-три дня и в таком случае местных даже отпускают ночевать по домам. Душа замирала от неизвестности, словно участвуешь в съёмках какого-то героико-приключенческого фильма!
У решётчатых ворот сборного пункта пестрела толпа родственников, тех, кто находился по другую сторону забора. Кое-кто из призывников отыскивал глазами родные лица и махал им рукой или объяснялся какой-нибудь замысловатой пантомимой. Я же абсолютно не обращал внимания – моя гражданская жизнь закончена, решил я, попрощавшись со своим прошлым ещё у ворот районного военкомата. Позже мать мне с укором говорила: «Что же ты ни разу не взглянул на нас? Мы всё это время стояли у ворот и несколько раз даже видели тебя!» Но у меня и в мыслях тогда не было, что мой уход в армию для кого-то событие более значимое, чем для меня самого! Я же чувствовал себя совершенно спокойным и даже был в приподнятом настроении, в таком приподнятом, что на медкомиссии перед отправкой со сборного пункта, врач-психиатр, строго взглянув на меня, с тревогой спросил: «А что это вы, молодой человек, всё время улыбаетесь?». Я моментально стёр с лица идиотскую свою улыбочку – испугался, вдруг подумают, что ненормальный и отправят обратно домой, мол, подлечишься – придёшь…
За всё время пребывания на сборном пункте нас строили и распускали раза три-четыре: дадут команду строиться, построимся, сделают перекличку и распустят. Пару раз досматривали вещи, кое-кого выдёргивали из строя и уводили куда-то – назад они, как правило, не возвращались. Вместо выбывших ставили в строй новеньких, так что количество наше никогда не изменялось и неизменно равнялось сорока. А когда в 15.30 опять объявили построение, я и не мог подумать, что это последнее. Встал в строй, готовясь к тому, что через пару минут снова распустят, но неожиданно прозвучала команда «Напра-а-аво!», и «Ша-а-агом марш!», и мы двинулись к воротам, на выход. Через пять минут мы уже сидели в электричке, которая в 15.50 должна была отправиться в Москву. Езды от Тулы до Москвы чуть меньше четырёх часов. В дороге много смеялись, шутили, но я заметил, что у некоторых весёлость эта была не естественной, а какой-то напускной – натянутой и нервозной, чувствовался в призывниках какой-то внутренний душевный неуют. Кто-то пытался выпытать у сопровождающего нас офицера: «А, скажите, товарищ капитан, куда нас везут?». Но тот хмуро молчал, был непробиваем, видно умел хранить военную тайну не хуже гайдаровского Мальчиша-Кибальчиша. Так и ехали мы, сорок вчерашних мальчишек, в неизвестность.
В Москве на Курском вокзале нырнули в метро, и вскоре оказались на Белорусском. А за несколько минут до смены суток поезд повёз нас дальше, теперь уже в западном направлении. В Минске два-три часа провели на вокзале. Я никогда не был в Белоруссии раньше, но сразу обратил внимание на то, что здесь люди живут лучше, чем в центральной России, какой-то иной дух витал над этими местами. В привокзальных киосках ассортимент товара был, несомненно, шире, всё вокруг было как-то красивее, изящнее, немного по-западному. Купил из-за любопытства какую-то книжонку на белорусском языке, но тут нас подняли с места, и повели на электричку. Доехали до Столбцов, пересели на другую – на той добрались до Городеи, где нас уже ждали две машины из части. Проделав путь в двадцать с лишним километров на колёсах, мы поздно вечером, уже после отбоя, прибыли в небольшой белорусский городок под названием Несвиж, где располагался полк Правительственной связи.
Мои друзья, одногруппники, один за другим получали заветную бумажку из военкомата, сдавали направление на работу обратно в учебную часть техникума и в назначенный день являлись с вещами в свои военкоматы, а я всё ждал и не мог дождаться, когда же гонец принесёт и мне желанную повестку. Время шло, военкомат молчал, и я даже немного запаниковал – ведь в любой день из Западной Двины могли прислать в техникум запрос, почему, мол, ваш выпускник не явился по месту работы? Терпению моему пришёл конец, и я попросил отца зайти в военкомат и поинтересоваться, не получилось ли какого-нибудь недоразумения в отношении меня, не затерялось ли моё личное дело? Надо сказать, что мой отец, офицер-пограничник, после увольнения из армии, работал в оборонном НИИ и каждый день по пути на работу проходил мимо Зареченского райвоенкомата г. Тулы. И вот в один прекрасный день он сам лично доставил повестку – где мне предписывалось 18 апреля 1978 года в 6 часов утра явиться к воротам военкомата, имея при себе необходимый минимум вещей, указанных на обороте повестки.
Итак, 18 апреля, весенним солнечным утром я в сопровождении родителей и братьев с вещмешком за спиной пешком отправился к военкомату (он находился в двух троллейбусных остановках от нашего дома). Моё сердце было наполнено чем-то волнительно радостным, каким-то головокружительным томлением встречи с ещё незнакомым мне миром!
От военкомата нас, человек десять призывников, повезли на старом (ещё «носатом») ПАЗике на стрижку. Парикмахерская находилась недалеко, в двух кварталах от военкомата, в старом здании на берегу Упы. Дорога заняла всего минут пять, не больше. Когда приехали, парикмахера ещё не было, пришлось ждать. Но вот он пришёл и с извинениями за опоздание открыл дверь. Во время стрижки мои волосы и ещё двух-трёх человек парикмахер аккуратно складывал в коробочку, а не сбрасывал на пол, как остальные. Я так понял, что он собирается из них сделать какие-нибудь шиньоны или что-то в этом роде. Удивительно, никогда не подозревал, что мои волосы имеют какую-то ценность! Я вообще любил короткую стрижку, а когда постригли «под ноль» – ощутил такую необыкновенную лёгкость!
Когда со стрижкой было покончено, нас повезли на сборный пункт. В Туле он находился (да и сейчас находится, должно быть) около Московского вокзала. Пункт кишел как муравейник. Мы, новобранцы, только и успевали вертеть головой: туда-сюда сновали «покупатели» – офицеры, прибывшие за пополнением. То пограничника увидим, то моряка, то танкиста. Каждый думал, наверное, тогда так же, как и я: «А вдруг именно в эту команду я попаду, к этому офицеру?». У тех в руках были стопки карточек призывников и порой они прямо на ходу обменивались ими. Так при мне один из «покупателей» метался от одного офицера к другому и с тоской в глазах умолял: «Помогите, ради бога! Нужен киномеханик… Меняю повара на киномеханика!» Видно получил от командира задание без киномеханика в часть не возвращаться. Так решалась наша судьба, может, и меня могли на кого-нибудь поменять, но, видно, в этом плане я абсолютно ни для кого интереса не представлял.
В военкомате меня определили в команду-200 (хорошо ещё, что не в «груз-200»!), для отправки в Войска правительственной связи. Но куда и когда отправят, никто не знал. Ходили слухи, что иногда на сборном пункте держат по два-три дня и в таком случае местных даже отпускают ночевать по домам. Душа замирала от неизвестности, словно участвуешь в съёмках какого-то героико-приключенческого фильма!
У решётчатых ворот сборного пункта пестрела толпа родственников, тех, кто находился по другую сторону забора. Кое-кто из призывников отыскивал глазами родные лица и махал им рукой или объяснялся какой-нибудь замысловатой пантомимой. Я же абсолютно не обращал внимания – моя гражданская жизнь закончена, решил я, попрощавшись со своим прошлым ещё у ворот районного военкомата. Позже мать мне с укором говорила: «Что же ты ни разу не взглянул на нас? Мы всё это время стояли у ворот и несколько раз даже видели тебя!» Но у меня и в мыслях тогда не было, что мой уход в армию для кого-то событие более значимое, чем для меня самого! Я же чувствовал себя совершенно спокойным и даже был в приподнятом настроении, в таком приподнятом, что на медкомиссии перед отправкой со сборного пункта, врач-психиатр, строго взглянув на меня, с тревогой спросил: «А что это вы, молодой человек, всё время улыбаетесь?». Я моментально стёр с лица идиотскую свою улыбочку – испугался, вдруг подумают, что ненормальный и отправят обратно домой, мол, подлечишься – придёшь…
За всё время пребывания на сборном пункте нас строили и распускали раза три-четыре: дадут команду строиться, построимся, сделают перекличку и распустят. Пару раз досматривали вещи, кое-кого выдёргивали из строя и уводили куда-то – назад они, как правило, не возвращались. Вместо выбывших ставили в строй новеньких, так что количество наше никогда не изменялось и неизменно равнялось сорока. А когда в 15.30 опять объявили построение, я и не мог подумать, что это последнее. Встал в строй, готовясь к тому, что через пару минут снова распустят, но неожиданно прозвучала команда «Напра-а-аво!», и «Ша-а-агом марш!», и мы двинулись к воротам, на выход. Через пять минут мы уже сидели в электричке, которая в 15.50 должна была отправиться в Москву. Езды от Тулы до Москвы чуть меньше четырёх часов. В дороге много смеялись, шутили, но я заметил, что у некоторых весёлость эта была не естественной, а какой-то напускной – натянутой и нервозной, чувствовался в призывниках какой-то внутренний душевный неуют. Кто-то пытался выпытать у сопровождающего нас офицера: «А, скажите, товарищ капитан, куда нас везут?». Но тот хмуро молчал, был непробиваем, видно умел хранить военную тайну не хуже гайдаровского Мальчиша-Кибальчиша. Так и ехали мы, сорок вчерашних мальчишек, в неизвестность.
В Москве на Курском вокзале нырнули в метро, и вскоре оказались на Белорусском. А за несколько минут до смены суток поезд повёз нас дальше, теперь уже в западном направлении. В Минске два-три часа провели на вокзале. Я никогда не был в Белоруссии раньше, но сразу обратил внимание на то, что здесь люди живут лучше, чем в центральной России, какой-то иной дух витал над этими местами. В привокзальных киосках ассортимент товара был, несомненно, шире, всё вокруг было как-то красивее, изящнее, немного по-западному. Купил из-за любопытства какую-то книжонку на белорусском языке, но тут нас подняли с места, и повели на электричку. Доехали до Столбцов, пересели на другую – на той добрались до Городеи, где нас уже ждали две машины из части. Проделав путь в двадцать с лишним километров на колёсах, мы поздно вечером, уже после отбоя, прибыли в небольшой белорусский городок под названием Несвиж, где располагался полк Правительственной связи.
2
Итак, прибыли мы в полк поздно вечером, после отбоя. Начали прыгать с машины на плац. Солдат-водитель крикнул нам: «Жратву в кузове оставляйте, всё равно заставят выбросить!». И мы без сожаления оставляли свои пакеты и авоськи с недоеденной и уже изрядно надоевшей за дорогу домашней снедью. Неровным строем повели нас мимо сонных уже казарм в баню. Там мы разделись, сложив одежду в выданные нам мешки из грубой ткани. Дали команду подписать бирки и прикрепить к мешкам, чтобы после желающие могли отправить вещи домой посылкой. Таков порядок был введён в то время с целью, чтобы призывники не одевались в лохмотья, а следовали в часть из дома в более-менее опрятном виде. Когда мы помылись, нас, к моему удивлению, выпустили в другой отсек, а не туда, где мы раздевались. Прапорщик, выстроив нас полукругом, зашёл за стойку, где находился помогающий ему солдат, и начал молча, даже с каким-то остервенением бросать нам прямо в лицо обмундирование. Смерит взглядом с головы до ног новобранца, нагнётся, возьмёт в руки комплект и как швырнёт, только успевай хватать! Кто-то сделал попытку подсказать прапорщику, какой он носит размер, но тот так на него заорал, мол, кого ты сосунок учишь, у меня глаз набитый, что дам, то и носить будешь! И желание вступать с ним в разговор у всех отпало. В бане же находились ещё два сержанта. И здесь-то произошёл случай, который я запомнил на всю жизнь. Надо признаться, что я никогда до этого не носил портянок и абсолютно не знал, что с ними делать. Уже надел форму, стою босиком, верчу в руках эти два куска материи в полном недоумении, что с ними дальше делать. В фильмах о войне, которые я до этого видел, новобранцы, плохо наматывающие портянки, становились объектами насмешек и шуток. Вот и я опасался, что сейчас опозорюсь, и я с первого моего армейского дня стану посмешищем. Вдруг, один из сержантов объявил: «Кто не умеет наматывать портянки, подойдите сюда, покажу!». Я как-то бочком, несмело, отчасти чтобы не выдать своё неумение, отчасти из врождённой скромности пододвинулся к группе новобранцев, которые уже обступили сержанта. Тот рассказывал и показывал, как оборачивается портянкой нога, как разглаживается ладонью снизу, как правильно закрепляется её кончик, чтобы не сползала при ходьбе.
Подсмотрев краем глаза, я быстренько отступил в сторонку от этой группы и, поставив ногу на скамейку, стал пытаться сделать так же. Когда намотал первую, удивился – вроде бы получилось, и неплохо получилось, намотал вторую. Вдруг надо мной раздался громовой голос сержанта: «Вот-вот! А ну-ка, подойдите все сюда!» Он и группа солдат приблизились вплотную ко мне. «Покажи-ка свою ногу!» Я, словно танцор, вытянул вперёд ногу. «Вот, смотрите и учитесь у него, как это надо делать! Отлично!» Я был ошарашен! Сам не понимал, как это могло получиться, но портянка была намотана и в самом деле плотно, ровно, на подошве стопы ни морщинки! Этот случай меня окрылил, а за весь срок службы я не знал горя с ношением портянок. Наоборот, как-то раз, уже на втором году службы, вместо портянок надев носки, здорово потёр ноги!
Переодевшись в военную форму, я уже с трудом отыскивал своих товарищей, тех, с кем успел познакомиться в пути – все стали такими одинаковыми! Из бани нас повели в столовую, благо она находилась неподалёку.
В столовой было пусто, наши голоса звонко раздавались в просторном зале. Поразили длинные ряды столов и лавок, выровненных, словно по линейке. Дали команду садиться, а несколько человек забрали на кухню, чтобы принести бачки с ужином. До армии я наслушался разговоров о том, как плохо кормят солдат, что то, что дают, абсолютно непригодно к потреблению, и что, мол, многие все эти два года мечтают о гражданской пище. Я человек неприхотливый к питанию, тем более отношусь к тем, кого называют малоедами. Но когда принесли картофельное пюре и в общей тарелке консервированных бычков в томатном соусе, я удивился: «И вот это называют плохим питанием?!». Такое я с удовольствием ел и на гражданке! Так что на протяжении всего срока службы к продовольственной службе тех частей, где мне довелось служить, у меня не было никаких претензий. Единственное, что я не любил, это блюда, куда клали куски какого-то жира. Тогда я сдвигал его на край тарелки и поедал только кашу. Я вообще жирного не люблю, не люблю сала, жирного мяса и всего такого прочего, зато обожаю все виды каш. Вспоминаю такой курьёзный случай: до увольнения в запас оставалось месяца два-три. Привожу роту в столовую, сажаю, даю команду: «К приёму пищи приступить!», сажусь сам. Уткнулся в тарелку, ем, вдруг слышу голос молодого солдата: «Товарищ старший сержант! А «деды» овсянку не едят, её только «гуси» едят!». Поднял голову, посмотрел – точно, тарелки почти у всех чистые, а бачок стоит практически не тронутым. Никогда не подумал бы, что на этот вид каши наложено какое-то удивительное табу. К счастью, я вообще был далёк от всяких предрассудков, условностей и армейских традиций. Так что в армии с питанием мне повезло. Может быть, повезло мне и с моим желудком, который не знает изжог, язв и всевозможных иных мерзостей, о которых я слышал до и после этого периода моей жизни.
После такого позднего ужина нас строем повели за пределы полка по несвижской (насколько помню, вымощенной булыжником) улице в направлении старого католического костёла, рядом с которым располагался учебный пункт. Там мы должны были пройти карантин или, как его ещё называли, курс молодого бойца, а затем за пять месяцев выучиться на специалистов связи.
Нас подвели к старому, невзрачному, выкрашенному в жёлтое, невысокому строению – казарме. Поодаль был виден небольшой плац, а сразу за ним и слева от него ещё два двухэтажных здания, которые, как выяснилось позже, были учебными корпусами. За забором чёрным айсбергом возвышался на фоне звёздного неба старинный костёл. Кто-то разузнал, что в нашем новом пристанище раньше размещалась конюшня. По этому поводу в строю прозвучала парочка острот, на которые вновь испечённая рота ответила лишь сдержанным смехом – все уже здорово утомились как от дороги, так и от свалившихся на нас за последние сутки событий.
В казарме сержанты указали каждому его кровать, показали, как правильно складывать одежду перед сном. Мне досталось место на первом ярусе у стены, которая разделяла спальное отделение от умывальни. Дав команду «отбой», нам объяснили, что подъём в части в 6.30, но так как мы приехали поздно, то для нас сделали исключение и дадут нам понежиться в постели до 10 часов. На вопрос, чем будем завтра заниматься, отвечали, что, главным образом, будем учиться заправлять постель, займёмся подшивкой обмундирования и начнём знакомиться с уставами воинской службы. Свет погасили, осталась гореть лишь бледно-синяя дежурная лампочка над тумбочкой дневального, и в тусклом свете её я ещё какое-то время разглядывал на стене причудливые контуры облупившейся от влаги штукатурки. И здесь меня молнией пронзила мысль: « А ведь впереди ДОЛГИХ ДВА года!!!». Больно сжалось сердце, я закрыл глаза. Нет, я не паниковал и не сожалел ни о чём. Просто до моего сознания наконец-то дошло, что это не какая-нибудь там экскурсия, или развлекательная прогулка! Что пройдёт много дней, произойдёт немало событий и перемен в моей жизни, прежде чем я вернусь домой, и что, вернувшись, я буду уже не тем, каким был раньше! Ведь до этого дня я никогда и никуда так надолго из родного дома и от родных моему сердцу людей не уезжал!
И начались, как пишут в хороших книжках, армейские будни… По природе своей я был человеком законопослушным и дисциплинированным, поэтому привыкать к распорядку дня мне не пришлось, точнее к его неукоснительному выполнению. То, что многим было в тягость, мне оказалось в радость. Я и по сей день стараюсь предварительно планировать все свои дела, так мне легче. С первых же дней служилось легко и весело.
В армии обнаружился такой парадокс: день от подъёма до отбоя тянулся как резина, недели же проходили быстрее, а месяцы просто летели! Незаметно прослужил я в Несвиже три недели. Обучали нас в карантине всему тому, что мы должны были знать и уметь до принятия присяги. Всё шло мирно и чинно, а потом стали растекаться слухи… Говорили, что, мол, скоро должен приехать некто из воронежской учебки и отобрать из нас туда курсантов. Наши младшие командиры начали нас запугивать, говорили, что там невероятно строгая дисциплина, ежедневные марш-броски, служба просто невыносима, а офицеры не люди – звери! Короче, сделали хорошую антирекламу сержантской школе ещё до приезда оттуда её представителей. Я и без этого, ещё раньше твёрдо для себя решил, что, попав служить в одно место, никуда не буду дёргаться, хотя бы потому, чтобы после не сожалеть о своём решении. Ведь попал я неплохо, мне здесь нравилось, к тому же в нормальные климатические условия, а вдруг после учебки меня распределят к белым медведям или в пески зыбучие! Так что я особенно не напрягался по этому поводу и ко всем слухам относился более, чем равнодушно…
Но вот в один прекрасный день из Воронежа прибыл, если не ошибаюсь, подполковник Братусь, начальник учебной части с двумя-тремя сержантами. Им надлежало через два дня увезти из Несвижа 150 солдат. Нас собрали в Ленинской комнате, где, после небольшого вступления, Братусь попросил поднять руку тех, кто решил стать сержантом и готов отправиться с ним в Воронеж. Никто не изъявил желания, всё в комнате замерло, установилась гробовая тишина. Подполковник ещё раз, уже громче и натужней, повторил свой вопрос, – реакция нулевая! Посерев лицом, он произнёс протяжно: «Та-а-к! Видно здорово вас обработали ваши отцы-командиры!», и вышел.
Но как бы там ни было, неизвестно какими посулами, ему удалось заманить в свою команду 148 человек. В день их отправки меня поставили во внутренний наряд на тумбочку дневальным. Мимо меня сновали туда-сюда несчастные сержанты, подручные Братуся. Им был дан приказ: во что бы то ни стало отыскать ещё двух, недостающих до укомплектования группы, человек. Когда они проносились мимо меня, я отдавал им, как и полагается, честь и даже умудрялся щёлкать при этом каблуками, хотя это было красивым излишеством. И вдруг один из сержантов резко тормознул возле меня: «А ты, как? Не желаешь в учебку?». Мне не хотелось огорчать этого доброго на вид человека прямым и безоговорочным отказом, поэтому я ответил уклончиво: «Я бы с удовольствием, но, видите ли… я ведь в наряде, я не могу…». Сержанта как ветром сдуло. Не успел я опомниться, как меня сменил на тумбочке другой солдат, а мне мой командир отделения крикнул: «Давай, собирай свои вещи и бегом на плац!». Через пять минут я присоединился к построенной и готовой к погрузке в машины колонне моих товарищей. Но не я был последним! Когда мы уже сидели в машине, к нам в кузов заскочил откопанный где-то дотошными сержантами 150-ый бедолага – Андрей Астрейко.
Колонна машин тронулась. Поплыли мимо успевшие за такой короткий срок стать родными казармы, учебные корпуса, исчез из виду древний костёл, а вскоре пропал за горизонтом и весь тихий белорусский городок с его уютными и непривычно чистыми улочками.
3
Дорога из Белоруссии в Воронеж как-то не очень отложилась в моей памяти – особых впечатлений не было. Единственно, запомнился вокзал города Бахмач. Там мы делали пересадку на поезд Киев-Воронеж. Мыкаясь в ожидании поезда, зашли мы гурьбой в привокзальное почтовое отделение, спросили конвертов без марок по копейке за штуку. Тётка, сидевшая за перегородкой, зло бросила в ответ, что без марок нет, берите, мол, с марками, по 5 копеек. Делать нечего, пришлось мне купить на последние деньги конверты с маркой. А когда мы уже выходили, появилась другая работница и расплылась в улыбке: «Ребятки, я тётка добрая, есть конверты и без марок, по копейке, подходите сюда!». Та, что нам не продала, что-то буркнула недовольно и удалилась. До сих пор не могу понять, чем мы ей не понравились, да и вообще, почему она так с нами поступила? Этот случай запомнился, наверное, ещё и потому, что я тогда и в самом деле был на безденежье и выгреб последнюю мелочь из кармана. Ещё помню, что местные жители, услышав, как мы произносим название их города (с ударением на последнем слоге «Бахмáч» по аналогии со словом «басмáч»), поправляли нас: «Бáхмач!», с ударением на первом слоге, сетуя на то, что все приезжие почему-то коверкают это святое для них имя.
В Воронеж приехали вечером. Ещё в дороге я загадал про себя: «Когда по прибытии в сержантскую школу нас будут распределять по ротам, попрошусь туда, где обучают на релейщиков, тропосферщиков, телеграфистов или ЗАСовцев…». Хотелось получить более интеллектуальную специальность военного связиста. Ещё в Несвиже наслышался баек про кабельщиков, которые всю службу мучаются с кабелем, тянут его километрами, всё вручную или на тележке, и в дождь и в снег, а после его сматывают, отмывают от грязи и т. д. Не хотел, да и, откровенно говоря, побаивался разделить судьбу этих бедолаг! Но, как говорится, помяни чёрта – он тут как тут! Наши мечты и желания никого не волновали! Построили нас на плацу в колонну по семь, перед колонной выстроились офицеры из разных рот, и зазвучали команды: «Первые две колонны – направо! Десять шагов вперёд, шаго-о-ом марш! … Это в первую роту… Первые три шеренги – три шага вперёд! Это во вторую роту. Забирайте!» Офицеры уводили будущих курсантов по подразделениям. Осталась горстка солдат, человек двадцать, среди которых, к счастью или несчастью, был и я. Нас отвели в шестую роту. Я было сник сначала (мне ведь так не хотелось быть кабельщиком!) даже стал подумывать о том, чтобы на следующий день обратиться к командиру и высказать своё желание о переводе в любую другую роту, но утром узнал, что первые два взвода готовят будущих специалистов усилительных станций ДУ-3 и ДУ-12, а не собственно кабельщиков, да и просто-напросто уже успокоился, решил не пороть горячку и полностью довериться судьбе…
Весь тот страх, который нагоняли в Несвиже, упоминая воронежскую учебку, оказался провокацией – служба была как служба. Сам город Воронеж не был для меня к тому времени чужим: в 1975 году после окончания первого курса техникума я впервые побывал здесь у двоюродной тётки, затем в 1977-ом был на производственной практике от техникума с марта по июль, а после и на преддипломной – в декабре того же года. Воронеж я полюбил, сам не знаю почему. Так бывает, приезжаешь в незнакомый город первый раз и он тебе кажется давно знакомым и родным… Не люблю Тулу, не жалую и Ленинград, а вот Москва, Воронеж другое дело.
Конечно, наличие тётки в Воронеже никак не повлияло на моё несвижское решение поехать в эту учебку. О ней я и не вспоминал, да и на протяжении всей моей службы в Воронеже, она так ни разу и не объявилась. Зато приезжали родители, от Тулы до Воронежа восемь часов на автобусе. Ещё до приезда родителей за хорошие показатели, как говорилось в приказе, в боевой и политической подготовке я первым в роте пошёл в увольнение. Пошёл и… разочаровался. Побродили мы втроём (с бойцами из других рот) по городу, сходили в кино, съели (как в известной песне поётся) эскимо, может и кваску попили, не помню подробностей, и потянуло нас ближе к обеду в родную часть… Сели на скамейку в Петровском сквере, посмотрели на часы и вздохнули с огорчением: на обед-то уже опоздали! Вернулись в часть рано, чтобы успеть на ужин, сержанты и старослужащие из взвода обеспечения удивились – такого не может быть! Им, оказывается, всегда не хватало времени, чтобы нагуляться в увольнении, а тут… И вот когда в августе приехали родители навестить меня и забрали меня на все выходные, то я так измучился за эти два дня, что с каким-то невероятным удовольствием вернулся вечером в воскресенье в родную роту!
Помню, говорили нам офицеры, мол, день присяги вы запомните на всю жизнь! Не верил, думал, что преувеличение. Оказалось – правда. Присягу я принял 3-его июня 1978 года. Тогда лишь немногие родители и родственники приезжали на присягу к своим чадам. Было гражданских лиц десятка два, а не пятьсот, как на присяге у моего сына в 2007 году. Как полагается, дали по случаю присяги нам в столовой на обед праздничный коржик.
Первый раз в караул я пошёл на 1-ый пост. Много слышал о том, что у знамени невыносимо стоять: ноги не держат, время тянется, глаза закрываются, в голове туман, а в сердце, как говорится, канонада… Глупости… Встал я на пост, напротив, за стеклянной стеной, комната дежурного по части. Часы настенные, как рассказывали, специально убрали, чтобы часовой не томился ожиданием смены, подгоняя взглядом стрелки… Стою, значит, на самом главном посту части в самый первый раз, о чём-то думаю… Смотрю, сержант Блинов, разводящий, ведёт смену! Думаю, что же случилось? Почему меня меняют раньше положенного срока? Может, в чём провинился, и дежурный офицер капнул на меня начальнику караула? Оказалось, что эти два часа пролетели для меня как двадцать минут! И я понял, что обладаю неплохой особенностью – умением ждать. И сейчас время ожидания меня не утомляет, легко стою в очередях, дожидаюсь приёма в различных организациях, жду без нервов опаздывающий транспорт и т.д.
Затем я раз или два съездил в караул на базу, как там называли место за городом, где стояли ангары с зарезервированной на случай войны техникой. В караулке показывали следы от пуль и рассказывали жуткую историю, как один часовой сошёл с ума и расстрелял караул. Что-то было в этой истории правдой, что-то вымыслом, но это действительно было…
Уходя в армию, я забрал с собой и своё главное хобби – изучение иностранных языков. Тогда, перед службой, я успел самостоятельно позаниматься по самоучителю только французским. Всё остальное было ещё впереди. Само собой разумеется, изучение французского было приостановлено. А мозг мой устроен так, что, если я не занимаюсь каким-либо языком в течение трёх-четырёх месяцев, он начинает маяться от безделья. И где-то с июля месяца я начал активно искать среди своих сослуживцев человека, который тоже был бы увлечён изучением языков. В разговорах с солдатами я осторожно затрагивал языковую тему, как бы прощупывая их. Какое-то время поиски мои были безрезультатны, но однажды, кто-то из ребят мне вдруг сказал: «А во втором взводе есть один чудак, всё время какие-то словари читает!». Так я познакомился с Юрием Сослановичем Федотчевым…
Юрка был обыкновенным парнем, лишь более смуглым на лицо, чем я, сказывались, видно, его южные корни, ведь Сослан, имя его отца, кавказское. Он и в самом деле никогда не расставался с карманным французско-русским словарём и при всяком удобном случае, отрешившись от всего вокруг, погружался в него с головой. Познакомились, разговорились… Я рассказал ему, что года два назад, купив самоучитель французского языка и проглотив его за два месяца, сам заразился этим удивительным миром французского языка, и что не знаю теперь, как продолжить изучение, да ещё в совсем не подходящих для этого армейских условиях. Он рассказал о себе: сам из Москвы, учился, мол, в школе с преподаванием на китайском языке, кроме китайского знает достаточно хорошо английский и французский, свободно на них говорит, практиковался до армии, главным образом, общаясь с иностранцами, так как занимался фарцовкой. «Если бы не армия, то, скорее всего, я бы уже сидел», - говаривал он. Решили с ним так: будем при каждом удобном случае разговаривать по-французски. В библиотеке взяли первый том «Войны и мира», там много французских диалогов, переводили их, он разъяснял мне непонятные места… Потом ему прислали «Трёх мушкетёров» на французском и он был так поглощён чтением, что умудрялся читать даже стоя дневальным «на тумбочке»…
В карауле Юрка не был ни разу, за пререкания с командирами он не вылезал из кухонного наряда. Я же был на хорошем счету, ходил на первый пост и о наряде по кухне только мечтал. И тогда, чтобы нам вместе попадать в наряд, я отмочил, иначе это и не назовёшь, такую штуку: однажды, в курилке, в перерыве между занятиями, заметив, что рядом сидит командир третьего отделения нашего взвода младший сержант Пушкин, я нарочито громко произнёс, разговаривая с кем-то из друзей: «Лучше не в караул ходить, а в наряд по кухне. И наешься там, и выспишься ночью как человек! Благодать!» Расчёт оказался на удивление точным! Пушкин доложил об услышанном замкомвзвода Савчуку, а может и напрямую командиру взвода капитану Зезикову, и меня при очередном заступлении роты в караул зачитали в списке наряда на кухню! И всё остальное время моего пребывания в учебке, я ходил с Федотчевым то рабочим по залу, то в овощерезку, то в посудомойку… Конечно, рейтинг мой в глазах командиров несколько понизился, но я сделал так, как хотел и получил большое удовольствие от занятий французским языком в те армейские дни…
После распределения Федотчев попал в Одессу. Позже в Оломоуце (ЧССР) я получил от него одно-два письма… Но это ещё не всё!
Какое-то невиданное стечение обстоятельств свело нас в этой жизни с ним ещё два раза! Встретиться в Москве случайно – большая редкость! А мы встретились дважды! Один раз в метро, по-моему, на «Площади Ногина», тогда я рассказал ему, что я отказался от учёбы на филфаке МГУ, а он мне – что ушёл со второго курса Института иностранных языков им. Мориса Тореза; вторая встреча – в кинотеатре: сижу, жду начала сеанса, рядом садится какой-то человек, взглянул – он! Потом следы его потерялись, и даже сейчас не помогли мне в поисках ни «Одноклассники», ни «Вконтакте.ру»…
Понеслись деньки в воронежской учебке один на другой похожий, разве что за редким исключением… Например, помню, как однажды в воскресенье забрал нас один офицер к себе домой рыть в его гараже яму под погреб. Особенно не перетрудились, зато получили удовольствие, вкусив немного гражданской жизни, а в обеденный перерыв жена этого офицера накормила нас вкуснейшим борщом. В общем впечатления были куда более, чем положительные… Сейчас порой удивляюсь, когда охают и ахают по поводу того, что солдат заставляют работать где-нибудь вне части. Может, конечно, это и превращается иногда в нещадную эксплуатацию бесправных военнослужащих, но для меня тогда это стало несколькими глотками свободы! Хоть какое-то разнообразие в нашу солдатскую жизнь привнесло это рытьё погреба.
Надо сказать, что за все два года службы я практически не болел. Не то, что на гражданке! Голова, не помню уже, по-моему, так ни разу и не болела, пару раз болел зуб, да раз температурил, вот и всё… Нет, ещё в Оломоуце однажды дал одному солдату свои носки выйти в город, он вернул мне их потными, я же заступал в наряд помощником дежурного по части, надел их, не простирнув, и подхватил грибок. Недели две ходил в кедах и лечился амбулаторно в нашей санчасти, где мне фельдшер мазал ноги какой-то розовой дрянью и выдёргивал пинцетом из кожи эту заразу.
Затемпературил в учебке я как раз в экзаменационную пору. Проснулся ночью весь в поту, голова кружится – утром поплёлся в санчасть, отлежал пять дней. За это время рота сдала почти все экзамены, кроме физической и политической подготовки. Эти два зачёта я сдавал, хотя, когда экзаменующий офицер хотел поставить «зачёт» в журнал, то удивлённо воскликнул: «А ты мог бы и не сдавать, у тебя и так все зачёты уже проставлены!»
После экзаменов началось распределение в войска. Почему-то считалось, что остаться в учебке на должности командира отделения – это прекрасно, распределиться в Союз – хорошо, за границу – похуже, а из всей заграницы самое худшее место – ЧССР. Потом уже в Оломоуце, я неоднократно приставал к друзьям с вопросом, почему же в Воронеже считалось, что Центральная группа войск хуже Западной (Польша), Южной (Венгрия) и Группы Советских Войск в Германии? Но они ответа не находили, не находил и я.
В 2003 году я побывал в Воронеже. Специально поехал с женой в Левобережный район, посетил это памятное для меня место – угол Минской улицы и Ленинского проспекта. На проспекте шла оживлённая работа – убирали трамвайные рельсы, укладывали асфальт. Так что больше нет на Левом берегу трамвая, ушёл, как и многое в этой жизни, в историю! Увидел за забором клуб, нашу казарму, к которой пристыковали вновь построенный учебный корпус. От главного энергетика на предыдущей работе (он – воронежец) я уже слышал, что учебку переорганизовали в училище ФАПСИ. Странное дело, когда я ехал в Воронеж, даже, когда приближался к нашей бывшей части, то думал, что сердце моё выскочит от волнения из груди… Но я принял всё гораздо спокойнее, осмотрев здания снаружи (внутрь нас не пустили бы), и с чистой совестью посетившего святое место готов был покинуть Воронеж.
Перед отправкой в войска, нас повели в гражданскую парикмахерскую, чтобы привести головы в надлежащий вид. Была уже осень, и тротуары были усеяны жёлтой листвой… «Микродембель», так называли наш выпуск из учебки, хотя до настоящего дембеля было ещё далеко. Вскоре мы разъехались по разным частям.
Опять дорога, и опять в памяти от этого ничего не осталось. Ехали не только сами, но и везли молодое пополнение. В Чопе запомнилось томительное ожидание на пересыльном пункте, затем поезд, часовая остановка на границе (слышалось громыхание крыши вагона под ногами пограничников), затем несколько минут поездки и первая чехословацкая станция – Чьерна-над-Тисоу. На безлюдном и чистом перроне я увидел дежурного по станции, он был толстый, как пивная бочка, широколицый, с густыми бакенбардами. «Типичный чех» – подумалось тогда мне. Поезд тронулся в путь дальше, я заснул, предвкушая на завтрашний день продолжение удивительных приключений.
Прибыли в Миловице утром и практически целый просидели в каком-то гарнизонном клубе, который представлял собой обыкновенный актовый зал в двух или трёхэтажном старом здании, построенном ещё, наверное, во времена Австро-Венгерской империи. Сидели и смиренно ожидали участи, каждый своей. Не хотелось ни читать, ни разговаривать, ни мечтать. Помню, у меня даже и в мыслях не было попытаться представить, куда же нас отсюда повезут? Знал одно – здесь, в Миловице, мне оставаться не хотелось бы. Я раньше и подумать не мог, что может быть так: на одном этаже казармы располагается одна воинская часть, на другом – вторая, а этажом выше – третья. Вне казарм царил какой-то бедлам, несколько раз видел, как солдаты при встрече с офицером не отдавали честь, а те не обращали на это никакого внимания. Суета, разгильдяйство и бардак…
Но время шло, ряды наши таяли: прибывших постепенно разбирали. Наконец и той группе, куда входил я, дали команду выйти из помещения и ждать в курилке, никуда не отлучаясь. И здесь нам впервые назвали город, куда мы должны отправиться: то ли Оломоуц, то ли Воломоуц. Проходящий мимо нас какой-то офицер спросил меня: «А куда вашу группу отправляют?». Я боялся попасть впросак, неправильно назвав город, поэтому сказал: «Вволомоуц», то есть и, если есть «в» вначале слова, и если нет, то всё равно прозвучит правильно.
И вот тем же самым поездом (как позже я узнал, это был специальный пассажирский поезд «для русских», который ежедневно курсировал от Чопа до Миловиц и обратно) мы убыли в обратном направлении. Прибыли в батальон поздно, нас накормили и разместили на ночной отдых во второй роте на территории взвода дальней связи. Сам взвод раскидали временно по ротам.
И потекли мои оломоуцские дни… Рассказывали, что только за три месяца до нашего прибытия пустили котельную, а до этого ну и мороки было с отоплением бараков и растопкой кухонных котлов! Не понимал я первые месяцы службы на новом месте и того, почему все так ждут учений? Мне казалось, что учения это какой-то хаос и лучше было бы совсем на них не ездить, а оставаться на этот период в части. Но после понял – это глоток свободы и отдых от казарменной жизни. Когда же впервые пошёл в библиотеку, поразился, как она богата! Библиотекарь, жена лейтенанта Онищенко, воскликнула: «Ну вот, хоть один похвалил библиотеку, а то все твердят, мол, читать здесь нечего!» После я узнал, что когда батальон передислоцировали в ЧССР после известных событий, то ему отдали всю полковую библиотеку. Кажется, батальон был когда-то частью Ровненского полка, но эти сведения не точны, возможно, и ошибаюсь. Самое интересное, что, когда я отслужил большую часть срока, я тоже на вопрос Онищенко, почему стал реже заходить, чуть не проговорился, что, мол, читать здесь нечего… Понял, что солдату больше хочется читать не классическую литературу (чего там было в избытке), а что-нибудь лёгенькое, весёленькое, а как раз этой-то литературы в библиотеке и не доставало.
Служба пролетела незаметно. Был я и командиром отделения, и замкомвзвода и замом старшины роты (по сути, старшиной роты, так как наш настоящий старшина прапорщик Смольский всё время пропадал на спортивных сборах, а потом и вовсе перевёлся в другую часть). О моих оломоуцских месяцах службы нужно писать отдельно…
Порой что-то из тех лет всплывает в памяти с новой силой, играет в воображении яркими красками, что-то стёрлось навсегда, но и сейчас, когда я услышу популярные в то время песни «Бони-М» или «Аббы», я переношусь в ясные и тёплые весенние дни 1980 года, последние месяцы моей службы. Лилась по-над батальоном весёлая зарубежная музыка, где-то высоко в голубом небе трещал вертолёт, откуда время от времени выпрыгивали парашютисты, я смотрел в небеса и, казалось, что вот так безгранична и ясна моя будущая жизнь после возвращения домой! Сколько дорог расстилалось передо мной в те далёкие дни! И я был безмерно счастлив, и хотелось, чтобы вот так было всегда! И пришёл день, 22 мая 1980 года, и грянули мы дружное «Ура!», когда автобус выкатывался вместе с нами из ворот нашей части, да так грянули, что уши заложило! Но не было особенного чувства радости, ликование было, скорее, напускным, чем искренним. Горько было расставаться с тем местом, где я не отслужил полтора года, а прожил какую-то особенную интересную жизнь. Уже в поезде, который увозил нас всё дальше на восток, меня вдруг ошарашило – ведь я абсолютно не знаю, что мне делать в жизни дальше…
Рейтинг: +12
1383 просмотра
Комментарии (11)
| Лялин Леонид # 4 ноября 2014 в 18:26 +1 | ||
|
| Верещака Мария # 8 ноября 2014 в 17:24 0 |
| Александр Шатеев # 8 ноября 2014 в 18:25 +1 |
| Денис Маркелов # 31 марта 2016 в 13:37 +1 | ||
|
| Дмитрий Воробьев # 12 июля 2016 в 00:07 +2 | ||
|
| Дмитрий Воробьев # 12 июля 2016 в 00:09 +2 | ||
|
| Нина Ипатова # 26 июля 2016 в 19:33 +1 | ||
|
| Борис Николаев # 9 января 2019 в 23:52 0 |
| Александр Шатеев # 10 января 2019 в 09:39 0 | ||
|
Новые произведения