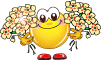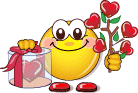Яви мне суть, и я, быть может, не умру
от ужаса, увиденного мною.
В твоей рубашке стоя на ветру,
я выживу, я лишь глаза прикрою
не от песка и ярости лучей, -
от прозорливой точности догадок,
но даже в этом будет мне награда:
я обрету свободу быть ничьей
и стану беспризорна и вольна –
лишь только взгляд не так открыт и светел –
да что там взгляд, покуда южный ветер
мой лёгкий катер гонит по волнам…
***
Когда оскомина от божеских щедрот
наполнит рот сухой, и ты уйдёшь на волю,
где Сва, как облако, парит над чистым полем
и Гамаюн тебе твою судьбу поёт,
где ты услышишь, как шуршит болиголов
в жемчужном мареве, дрожащем над поляной,
и лепестки его пленительны и пряны,
а стебли тоньше и нежнее летних снов,
тогда, как жизнь прожив, поляну перейдя,
ты вздрогнешь, встретившись с очами дикой птицы,
в её зрачках увидев боговы зеницы,
что неотступно за тобой следят, следят…
***
Полынная правда с горчинкой, но всё ж
в полынное поле, забывшись, войдёшь
и, медленно тая
в его аромате в его серебре,
до самого мелкого беса в ребре
себя пролистаешь.
Деревья становятся голыми спать
и, лишнее сбросив с макушек до пят,
скрипят под снегами,
отринув сухую листву, как слова,
уже не деревья, - уже дерева
стоят перед нами.
И я, обнажаясь до божьих кручин,
до самых рябиново-горьких причин,
до правды полынной,
увижу тебя в очарованном сне -
и дарьей застылой приникну к сосне,
горчащей былинно…
***
Идём из подворотни по дворам
до ветхой колоколенки юдольной,
где колокол малиново-бемольно
дрожит, о чём-то богу говоря,
и невенчален этот странный звон,
и звону вторя, думы, как вороны,
кричат «пора», паря под этим звоном,
и этих дум вороньих – легион.
Как сок, по лицам звонный сон течёт,
в малиновый окрашивая губы,
и в такт ему заката медный бубен
забился над рябиной горячо.