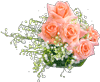Трогательные стихи известных поэтов про Маму

Стихи поэтов-классиков, посвящённые матерям,
связанные с воспоминаниями о матерях
Молитва матери
На краю деревни старая избушка,
Там перед иконой молится старушка.
Молитва старушки сына поминает,
Сын в краю далеком родину спасает.
Молится старушка, утирает слезы,
А в глазах усталых расцветают грезы.
Видит она поле, поле перед боем,
Где лежит убитым сын ее героем.
На груди широкой брызжет кровь, что пламя,
А в руках застывших вражеское знамя.
И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила.
И закрыли брови редкие сединки,
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
1914 г.
Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая с подтыками по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.
1912
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК
Чем больней душе мятежной,
Тем ясней миры.
Бог лазурный, чистый, нежный
Шлет свои дары.
Шлет невзгоды и печали,
Нежностью объят.
Но чрез них в иные дали
Проникает взгляд.
И больней душе мятежной,
Но ясней миры.
Это бог лазурный, нежный
Шлет свои дары.
8 марта 1901
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, -
Ненужный дар моей жестокой жизни…
/От царскосельских лип/
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ. "Я"
У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца,—
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»
1
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,-
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают -
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки "Лузитании".
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,-
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР
По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо.
Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма — а — а — ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
Хе!
— выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»
Звонок.
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее, —
Баю-баюшки-баю, —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.
1916
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ САДОВСКОЙ
Земляника
Мама, дай мне земляники.
Над карнизом свист и крики.
Как поет оно,
Как ликует птичье царство!
Мама, выплесни лекарство,
Отвори окно!
Мама, мама, помнишь лето?
В поле волны белоцвета
Будто дым кадил.
Вечер томен; над долиной
В жарком небе взмах орлиный,
Прокружив, застыл.
Помнишь, мама, ветра вздохи,
Соловьев последних охи,
В лунных брызгах сад,
Лунных сов родные клики,
Земляники, земляники
Спелый аромат?
Земляники дай мне, мама.
Что в глаза не смотришь прямо,
Что твой взгляд суров?
Слезы капают в тарелки.
Полно плакать о безделке:
Я совсем здоров.
1911
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ
Падает снег на дорогу -
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.
Вижу за окнами прялку,
Песенку мама поет,
С нитью веселой вповалку
Пухлый мурлыкает кот,
Мышку-вдову за мочалку
Замуж сверчок выдает.
Сладко уснуть на лежанке...
Кот - непробудный сосед.
Пусть забубнит впозаранки
Ульем на странника дед,
Сед он, как пень на полянке -
Белый ромашковый цвет.
Только б коснуться покоя,
В сумке огниво и трут,
Яблоней в розовом зное
Щеки мои расцветут
Там, где вплетает левкои
В мамины косы уют.
Жизнь - океан многозвенный
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны -
Все принимает поэт...
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ
Из "Старинных октав"
XXIX
В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне всё дано, что в жизни я имею.
XXX
Отец сердился, вредным баловством
Считал любовь; бывало, ты украдкой
Меня спешила осенить крестом,
Склонясь в лампадном свете над кроваткой,
И засыпал я безмятежным сном
При шепоте твоей молитвы сладкой,
Но чувствовал сквозь поцелуй любви
Я жалобы безмолвные твои.
XXXI
Однажды, денег взяв Бог весть откуда,
Она тайком осмелилась купить
Игрушку мне, чудесного верблюда;
Отец увидел, стал ее бранить.
Внутри была бисквитов сладких груда:
И жадности не мог я победить, —
За мать страдая, молча, — как убитый, —
Я с горькими слезами ел бисквиты.
XXXII
Когда на службе был отец с утра,
Мать в кабинет за стол меня пускала.
Я помню дел казенных нумера,
Сургуч, портрет старинный генерала,
Из хризолита ручку для пера,
Из камня цвета млечного опала
Коробочку для марок, нож, бювар,
Карандаши и ящик для сигар:
XXXIII
Предметы жадных, робких наслаждений!..
Но как-то раз я рукавом свалил
Чернильницу с головкою оленьей:
Ни жив ни мертв, смотрю, как потопил
(Что мне казалось верхом преступлений)
Зеленое сукно поток чернил.
Вдруг — голоса, шаги отца в передней;
Вот, думаю, пришел мой час последний.
XXXIV
Я убежал, чтоб грозного лица
Не увидать; и начались упреки,
Неумолимый гневный крик отца,
На трату денег вечные намеки,
И оправданья мамы без конца.
Я понимал, что грубы и жестоки
Его слова, и слышал я мольбы,
Усилия беспомощной борьбы...
XXXV
В них — долгих лет покорная усталость —
Хотя бы мог я розог ожидать, —
Лишь простоял в углу за эту шалость:
Спасла меня заступничеством мать.
Я чувствовал мучительную жалость,
Семейных драм не в силах угадать, —
За маму, тихий и покорный с виду,
Я затаил в душе моей обиду.
XXXVI
И с нею вместе я жалел себя:
Под одеялом спрятавшись в кроватке,
Молился я, родная, за тебя,
Твой поцелуй в бреду и лихорадке,
Твое дыханье чувствовал, любя:
Так жгучие те слезы были сладки,
Что, всё прощая, думал об отце
Я с радостной улыбкой на лице.
XXXVII
Он не чины, не ордена, не ленты
Наградою трудов своих считал:
В невидимо растущие проценты,
В незыблемый и вечный капитал,
В святыню денежных бумаг и ренты,
Как в добродетель, веру он питал,
Хотя и не был скуп, но слишком долго
Для денег портил жизнь из чувства долга.
XXXVIII
Чиновник с детства до седых волос,
Житейский ум, суровый и негибкий,
Не думая о счастье, молча нес
Он бремя скучной жизни без улыбки,
Без малодушья ропота и слез,
Не ведая ни страсти, ни ошибки.
И добродетельная жизнь была —
Как в серых мутных окнах — дождь и мгла.
XXXIX
Кругом в семье царила безмятежность:
Детей обилье — Божья благодать, —
Приличная супружеская нежность.
За нас отец готов был жизнь отдать...
Но, вечных мук предвидя неизбежность,
Уже давно им покорилась мать:
В хозяйстве, в кухне, в детской мелочами
Ее он мучил целыми годами.
XL
Без горечи не проходило дня.
Но с мужеством отчаянья, ревниво,
Последний в жизни уголок храня,
То хитростью, то лаской боязливой
Она с отцом боролась за меня.
Он уступал с враждою молчаливой,
Но дружба наша крепла, и вдвоем
Мы жили в тихом уголке своем.
XLI
С ним долгий путь она прошла недаром:
Я помню мамы вечную мигрень,
В лице уже больном, хотя не старом,
Унылую, страдальческую тень...
Я целовал ей руки с детским жаром, —
Духи я помню, — белую сирень...
И пальцы были тонким цветом кожи
На руки девственных Мадонн похожи...
СОФЬЯ ЯКОВЛЕВНА ПАРНОК
Памяти моей матери*
«Забыла тальму я барежевую.
Как жаль!» — сестре писала ты.
Я в тонком почерке выслеживаю
Души неведомой черты.
Ты не умела быть доверчивою:
Закрыты глухо а и о.
Воображением дочерчиваю
Приметы лика твоего.
Была ты тихой, незатейливою,
Как строк твоих несмелый строй.
И все, что в сердце я взлелеиваю,
Тебе б казалось суетой.
Но мне мила мечта заманчивая,
Что ты любила бы меня:
Так нежен завиток, заканчивая
Вот это тоненькое я.
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Посвящается дорогой матери
Сияет роса на листочках.
И солнце над прудом горит.
Красавица с мушкой на щечках,
как пышная роза, сидит.
Любезная сердцу картина!
Вся в белых, сквозных кружевах,
мечтает под звук клавесина...
Горит в золотистых лучах
под вешнею лаской фортуны
и хмелью обвитый карниз,
и стены. Прекрасный и юный,
пред нею склонился маркиз
в привычно-заученной роли,
в волнисто-седом парике,
в лазурно-атласном камзоле,
с малиновой розой в руке.
"Я вас обожаю, кузина!
Извольте цветок сей принять..."
Смеется под звук клавесина,
и хочет кузину обнять.
Уже вдоль газонов росистых
туман бледно-белый ползет.
В волнах фиолетово-мглистых
луна золотая плывет.
Март 1903 г., Москва
ФЁДОР КУЗМИЧ СОЛОГУБ
Просыпаюсь рано.
Чуть забрезжил свет,
Темно от тумана,
Встать мне или нет?
Нет, вернусь упрямо
В колыбель мою,-
Спой мне, спой мне, мама:
"Баюшки-баю!"
Молодость мелькнула,
Радость отнята,
Но меня вернула
В колыбель мечта.
Не придет родная,-
Что ж, и сам спою,
Горе усыпляя:
"Баюшки-баю!"
Сердце истомилось.
Как отрадно спать!
Горькое забылось,
Я - дитя опять,
Собираю что-то
В голубом краю,
И поет мне кто-то:
"Баюшки-баю!"
Бездыханно, ясно
В голубом краю.
Грезам я бесстрастно
Силы отдаю.
Кто-то безмятежный
Душу пьет мою.
Шепчет кто-то нежный:
"Баюшки-баю!"
Наступает томный
Пробужденья час.
День грозится темный,
Милый сон погас,
Начала забота
Воркотню свою,
Но мне шепчет кто-то:
"Баюшки-баю!"
КОНСТАНТИН АРИСТАРХОВИЧ БОЛЬШАКОВ
СЕГОДНЯШНЕЕ
Маме*
Кто-то нашёптывал шелестом мук
Целый вечер об израненном сыне,
В струнах тугих и заломленных рук
Небосвод колебался, бесшумный и синий.
Октябрьских сумерек, заплаканных трауром
Слеза по седому лицу сбегала,
А на гудящих рельсах с утра «ура»
Гремело в стеклянных ушах вокзалов.
Сердце изранил растущий топот
Где-то прошедших вдали эскадронов,
И наскоро рваные раны заштопать
Чугунным лязгом хотелось вагонам.
Костлявые пальцы в кровавом пожаре вот
Вырвутся молить: помогите, спасите,
Ведь короной кровавого зарева
Повисло суровое небо событий.
Тучи, как вены, налитые кровью,
Просочились сквозь пламя наружу,
И не могут проплакать про долю вдовью
В самые уши октябрьской стужи.
Октябрь 1916 г.
МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН
МАТЕРИНСТВО
Мрак… Матерь… Смерть… созвучное единство…
Здесь рокот внутренних пещер,
там свист серпа в разрывах материнства:
из мрака — смерч, гуденье дрёмных сфер.
Из всех узлов и вязей жизни — узел
сыновности и материнства — он
теснее всех и туже напряжён:
дверь к бытию водитель жизни сузил.
Я узами твоих кровей томим,
а ты, о мать, — найду ль для чувства слово?
Ты каждый день меня рождаешь снова
и мучима рождением моим.
Кто нас связал и бросил в мир слепыми?
Какие судьбы нами расплелись?
Как неотступно требуешь ты: «Имя
своё скажи мне! кто ты? назовись».
Не помню имени… но знай: не весь я
рождён тобой, и есть иная часть,
и судеб золотые равновесья
блюдёт вершительная власть.
Свобода и любовь в душе неразделимы,
но нет любви, не налагавшей уз…
Тягло земли — двух смертных тел союз…
Как вихри мы сквозь вечности гонимы.
Кто возлюбил другого для себя,
плоть возжелав для плоти без возврата,
тому в свершении расплата:
чрез нас родятся те, кого, любя,
связали мы желаньем неотступным.
Двойным огнём ты очищалась, мать, —
свершая всё, что смела пожелать,
ты вознесла в слиянье целокупном
в себе самой возлюбленную плоть…
Но как прилив сменяется отливом,
так с этих пор твой каждый день
Господь отметил огненным разрывом,
Дитя растёт, и в нём растет иной,
не женщиной рождённый, непокорный,
но связанный твоей тоской упорной —
твоею вязью родовой.
Я знаю, мать, твой каждый час — утрата.
Как ты во мне, так я в тебе распят.
И нет любви твоей награды и возврата,
затем, что в ней самой — награда и возврат!
8 июля 1917 г.
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КРАНДИЕВСКАЯ
Маме моей
Сердцу каждому внятен
Смертный зов в октябре.
Без просвета, без пятен
Небо в белой коре.
Стынет зябкое поле,
И ни ветер, ни дождь
Не вспугнут уже боле
Воронье голых рощ.
Но не страшно, не больно...
Целый день средь дорог
Так протяжно и вольно
Смерть трубит в белый рог.
1913
ЭЛЛИС
В РАЙ
М. Цветаевой
На диван уселись дети,
ночь и стужа за окном,
и над ними, на портрете
мама спит последним сном.
Полумрак, но вдруг сквозь щелку
луч за дверью проблестел,
словно зажигают елку,
или Ангел пролетел.
"Ну куда же мы поедем?
Перед нами сто дорог,
и к каким еще соседям
нас помчит Единорог?
Что же снова мы затеем,
ночь чему мы посвятим:
к великанам иль пигмеям,
как бывало, полетим,
иль опять в стране фарфора
мы втроем очнемся вдруг,
иль добудем очень скоро
мы орех Каракатук?
Или с хохотом взовьемся
на воздушном корабле,
и оттуда посмеемся
надо всем, что на земле?
Иль в саду у Великана
меж гигантских мотыльков
мы услышим у фонтана
хор детей и плач цветов?"
Но устало смотрят глазки,
щечки вялы и бледны,
Ах, рассказаны все сказки!
Ах, разгаданы все сны!
"Ах, куда б в ночном тумане
ни умчал Единорог,
вновь на папином диване
мы проснёмся в должный срок.
Ты скажи Единорогу
и построже, Чародей,
чтоб направил он дорогу
в Рай, подальше от людей!
В милый Рай, где ни пылинки
в ясных, солнечных перстах,
в детских глазках ни слезинки,
и ни тучки в небесах!
В Рай, где Ангелы да дети,
где у всех одна хвала,
чтобы мама на портрете,
улыбаясь, ожила!"
ОЛЬГА ФЁДОРОВНА БЕРГГОЛЬЦ
ПЕСНЯ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ МАТЕРИ
Вставал рассвет балтийский
ясный
когда воззвали рупора:
— Над нами грозная опасность.
Бери оружье, Ленинград! -
А у ворот была в дозоре
седая мать двоих бойцов,
и дрогнуло ее лицо,
и пробежал огонь во взоре.
Она сказала:
— Слышу, маршал.
Ты обращаешься ко мне.
Уже на фронте сын мой старший,
и средний тоже на войне.
А младший сын со мною рядом,
ему семнадцать лет всего,
но на защиту Ленинграда
я отдаю теперь его.
Иди мой младший, мой любимый,
зови с собой своих друзей.
...На бранный труд, на бой, на муки,
во имя права своего,
уходит сын, целуя руки,
благословившие его.
И, хищникам пророча горе,
гранаты трогая кольцо, -
у городских ворот в дозоре
седая мать троих бойцов.
ЭММА ЭФРАИМОВНА МОШКОВСКАЯ
ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Я решил и отправляюсь,
Я иду в этот трудный путь.
Я иду в соседнюю комнату,
Где молча сидит моя мама.
И придётся открыть дверь
И сделать шаг... и ещё
И еще, может десять, десять шагов!
И тихо к ней подойти,
И тихо сказать: "прости..."
Есть мужество стоять под выстрелом,
Под прорезью прицела тонкого,
Есть мужество решенья быстрого,
И мужество терпенья долгого.
А есть ещё такое мужество,
Что может быть других важнее.
Когда не в силах больше мучаться
Приходишь к нему иль ней.
Я был не прав, не прав до ужаса,
Прости меня и мне доверься
И отогреет это мужество
Тобой обиженное сердце.
Расул Гамзатов
Мальчишка горский, я несносным
Слыл неслухом в кругу семьи
И отвергал с упрямством взрослым
Все наставления твои.
Но годы шли, и к ним причастный,
Я не робел перед судьбой,
Зато теперь робею часто,
Как маленький, перед тобой.
Вот мы одни сегодня в доме,
Я боли в сердце не таю
И на твои клоню ладони
Седую голову свою.
Мне горько, мама, грустно, мама,
Я — пленник глупой суеты,
И от меня так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты.
Кружусь на шумной карусели.
Куда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмется сердце: «Неужели,
Я начал маму забывать?»
А ты с любовью, не с упреком,
Взглянув тревожно на меня,
Вздохнешь, как будто ненароком,
Слезинку тайно оброня.
Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полет.
Тебе твой мальчик на ладони
Седую голову кладет.
Рейтинг: +32
Голосов: 32
160741 просмотр
Комментарии (3)
| Алла Войнаровская # 25 ноября 2018 в 14:17 +26 | ||
|
| Ивушка # 25 ноября 2018 в 19:23 +25 | ||
|
| Тая Кузмина # 25 ноября 2018 в 21:35 +24 | ||
|
Это Вы не читали...