17. Про то как отпетый один ленивец в великого тру
18 сентября 2015 -
Владимир Радимиров

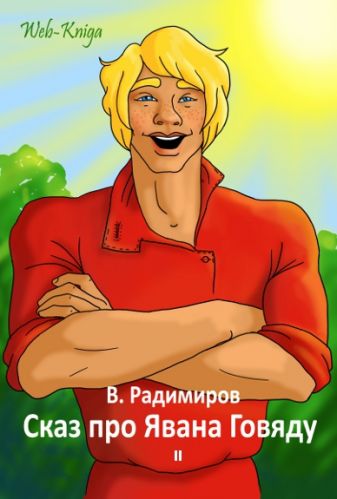
Глава 17. О том как отпетый один ленивец в великого трудолюбивца вдруг превратился.
Часика через три и вышли...
Ни зги, само собою, было не приметить.
И тишина стояла прямо зловещая.
Сильван сразу же в одному ему ведомую сторону подался, как на подушках, неслышно ногами ступая да товарищей своих то и дело окликая. Идут, значит, переговариваются, Яван с Буривоем то в колдобины невидимые впотьмах проваливаются, то об каменья подорожные спотыкаются, апосля чего вскрикивают, бурчат да чертыхаются.
Ну и тьма же вокруг была, тьма абсолютная!
Только они всё одно идут.
Топали долго – всю-то цельную ночь. А под самое утро леший опять какую-то пещеру впереди углядел, а в пещерах, надо заметить, в тех краях недостатку не было. Они туда и завернули, как чуть рассвело. Отдохнуть там, стало быть, чтоб денёк, не жариться чтобы на пекельной этой сковородке. Апосля прошлого-то дня Яваха с Сильваном на сей счёт здорово поумнели.
Заходят они вовнутрь, значит, без промедления, а там в точности почти такая же пещера, как и прежняя.
Яванка сразу же вперёд и пошёл, по проходу-то неширокому, и вскорости, как и намедни, обнаружил немалый этакий грот, да друзей до себя зовёт. Те неспешно дотуль дотопали и – ёж же его в дышло! – это ж надо: каменный человек посередь грота стоит, на постаменте из валуна высится! Небольшой такой с виду, росту невысокого – а навроде как живой-то...
Ну, живой, не живой – какие уж тут в пекле живые! – но и не труп, это уж как пить дать. Глазки у этой статуи туда да сюда сновали, а всё остальное и не ворохалося даже. Ну, в точности же как камень...
Узрели глазки карие Явана со компанией и такая в них полыхнула мольба да очевидная радость, что и не передать!
Вот же, думает Яван, статуя сия и странная. Обошёл он её вокруг неспеша, оглядел с любопытством, даже пощупал и по ней постучал. Хм. Камень вроде как камень...
Одежда же окаменевшая на истукане не бедною была, а пёстрою весьма и зело богатою.
Ещё пуще Ванюха подивился и ухо к груди каменной приложил: не, сердце не билося. Он тогда ухо к устам: и дыхание тоже не вилося. Одна лишь в глазах отчаянных сквозила жизнь. И тишина вокруг прямо мёртвая сгустилася...
Да только у Сильвана ведь слух был не чета Ванькиному! Подвалил он сопя к этому диву, Ванька от статуи на фиг отстранил, ушище своё лопушистое к недвижным устам приложил, да и говорит удивлённо басищем-то своим:
– Яван, а Яван! Энтот истукан никак помощи у нас просит? Помогите, вопит, люди добрые!
А как спасать-то? Раздолбать статую что ли?..
Да вроде не пойдёт...
Первым Яван и нашёлся: палицу свою к лицу страдальца поднёс да и тюкнул ею слегонца по его носу. А из статуи искры как вдруг шарахнут – прямо снопом!
И о чудо – лицо-то ожило! Сморщилось оно, задвигалось, а потом человек каменный как вдруг чихнёт! И поехало-пошло. Окаменелость его статическая вдруг пропала, и задвигался незнакомец этак плавненько, плечами пожал, в талии поизгибался – прыг затем с валуна на пол и давай туда да сюда-то гулять. Потом он на месте стал, присел-встал, маятником покачался, упал затем и отжался, вскочил – и расхохотался.
Да как пустится вдруг в пляс! И таковые-то загогулины и кренделя выписывать он начал ногами, что никакой другой плясоводец и рядом с ним не стоял. Но видимо чудаку и этого мало показалося. Он же ещё и цирк там устроил натуральный: такую головокружительную акробатику на радостях завернул, такие колёса да сальто-мортале потрясные отчебучил, что ну и ну!
В глазах у наших ратников от этой прыти всё замелькало. А сей пострел ещё и по потолку разов семь пробежался.
А ко всему этому вдобавок освобождённый ещё и петь там принялся – песенку какую-то дурацкую звонким голоском он загорланил:
Ой, бой, пере-бой!
Оказался я живой!
Чих-пых, пере-пых!
Я живее всех живых!
Трынди-вынди тру ля ля!
Могу делать фортеля!
Всякия прикольныя,
Потому что – вольный я!
Э-э-э-эх!!.
И совершив какой-то совсем уж невероятный кульбит, незнакомец наконец перед троицей нашей остановился.
Поклонился он всем по очереди до самой пекельной земли, а потом рожу предовольную скроил, растянул рот в улыбке широченной, и глазёнки свои узенькие вообще щёлочками тоненькими сделал.
Одет он оказался в цветастый дюже халат и в красные широкие шаровары, а обут был в туфли парчовые, кверху загнутые, а круглую, лысую его и безбородую голову прикрывала шапочка небольшая лепёшкообразная, расшитая тоже здорово.
– Спасибо, ой спасибо вам, люди добрые! – возопил он что было мочи. – Спасли вы меня от плена тесного мучительного, зело для меня поучительного. Две тысячи лет бесконечных в камень хладный заключен я был – уж и свет-то белый тут позабыл. Не чаял я себе избавления аж до самого светопреставления. Так, думал, тут и погину… А в это время вдруг вы как раз и появилися, избавители мои дорогие!
А сам на месте даже не стоит, всё приплясывает да подскакивает, словно шило у него было в заднице.
– Да угомонись же ты, наконец, юла! – крикнул ему нетерпеливо бывший царь.
Тот же отвечает ему так:
– Я и рад бы, брат, да вишь не в силах! Столько энергии не потраченной за годы простоя вынужденного во мне скопилося, что я тридцать три раза вокруг Земли обежать смогу – и то наверное не убавится силушек могутных.
Буривой на это рукою лишь махнул раздражённо, Сильвану-флегматику в общем было всё равно, а Яван знай себе улыбался да в разговор пока не мешался. Ходоки-то за ночь походную приустали, отдых принять они чаяли да кой-чего желали пошамать.
Хэ, делов-то! Ванюха стелит быстро скатёрку, о запросах товарищей вопрошает и чего кому надо заказывает.
Вот вся троица вкруг скатерти рассаживается, и Ваня чудика этого к столу приглашает. А тот подскочил туда стремглаво, баранку с тарелки хвать, да и продолжал как ни в чём ни бывало свои выкрутасы.
Так, скача, вертясь да около бегая, историю свою незатейливую он им и поведал:
...Родился я, други, давным-давно в одном богатом весьма южном городе. Был я первым и единственным сыном у знатных и состоятельных родителей, происходивших из двух древних и влиятельных родов. С самого своего детства отличался я от прочих детей невероятной просто ленью, и чего только родители мои со мною ни делали, как ни умоляли они меня и как мне ни угрожали – я и пальцем даже пошевелить отказывался: всё лежал да ел, ел да лежал. Даже говорить мне было не в жилу!
Годам примерно к шести я лишь едва-едва разговаривать научился.
Хм, разговаривать… Как бы не так! Я только ныл да просил, требовал да орал, а лишние слова берёг – жалко мне их было отчего-то.
В школу меня слуги покорные в роскошных носилках носили, где моею рукою специальный учитель знаки на глиняной табличке старательно выводил, а то я от такой тяжёлой работы в ступор входил и бастовал начисто. Уроков домашних я тоже не делал ни капельки, а на родителей моих несчастных, буде им приходило в голову увещеванием моим заниматься, плевал я с высокой башни и всё более оттого в тину лени липучей погружался…
И по всему вот поэтому был я во всей моей школе первым учеником.
С конца!..
Меня и не выгоняли лишь потому, что родители мои были уважаемые в городе люди, к тому же не бедные да не гордые, способные отщепенца явного содержать, холить, и воспитывать в роду своём такого урода.
Вот так я и рос помаленьку в полном абсолютно довольстве, покуда не вырос, наконец, большой. Ну а как повзрослел, так и вовсе законченным лентяем я сделался, и всех до крайности, прямо сказать, достал. Жить таково человеку не пристало, ага. Лежал я у себя в покоях среди подушек мягких и целый почитай ковёр тушею своею занимал, ибо растолстел я, други, просто невероятно.
Ещё бы – столько жрать!
Слуги проворные усердно за мною ухаживали, из лежачего положения меня усаживали, укармливали мою утробищу до самого пересыта, да упаивали её до самого перепою, а ещё телеса мои необъятные умащивали и месили, да душонку мою ненасытную всякими забавами веселили...
Понятное дело, что замуж за меня пойти, за этакого образину, желающих нигде не находилося да вовсе не изъявлялося, хотя, признаться, этого мне было и не надо: мне и служанок для утех хватало. Я ведь о себе лишь, о любимом, печься да заботиться норовил, и никого другого ничуточки даже не любил.
Во какою, люди, был я скотиной!..
Таким вот образом до тридцати пяти лет я и дожил. Аж до последней степени я от лености отупел! Горшок чай и тот поумнее меня был, наверное.
А тут и родители мои умерли вдруг в один день и оставили после себя большое мне наследство.
И что же?! Наследство сиё я за год какой-то начисто промотал да растащить худым людям позволил. Жил-то я ведь одним днём и зело оттого был безволен… Совсем бедным вскоре я стал, худеть да болеть начал... На первых-то порах мне ещё родственники кое-чем помогали, а вскоре и самые добрые из них от меня лица свои отвернули да рукою на меня махнули, ибо кому, скажите на милость, нужен такой паразит?
Никому же, факт!..
И дошёл я в пороке своём до последней крайности: через короткое время таким доходягою стал, что одни кожа да кости от меня осталися. Валялся я в пыли у городских ворот и с бродячими собаками за объедки жалкие сражался. Совсем человеческий облик я потерял, угрязнился до черноты да провонял, а жизнь свою всё равно менять не пытался — упрям я ведь был как ишак!
Да и похуже даже!..
Благо ещё, что морозов в нашей стране практически не было: тёплый был край, для житья как рай. Так бы я там и пропал, да вдруг в кои-то веки повезло мне, наконец. Нашёлся один человек боголюбивый и весьма богатый – друг старинный моего отца. Он откуда-то издалека на родину возвертался как раз. Прознал сей уважаемый человек про меня и пожалел видно такого негодяя: в доме у себя приютил, откормил, отпоил, язвы мои исцелил, да в богатые одежды меня нарядил.
Чем-то, видать, я ему показался, да и он, честно говоря, мне понравился, ибо был он спокоен, мудр, и никто никогда не слыхал от него ругани. Старался он как-то мою особу улучшить: душеспасительные беседы со мною вёл, водил в храмы и уговаривал терпеливо ленивую дрянь за ум крепко взяться… Хотел сей дядя, чтоб я работой наконец занялся. А поскольку был он купчиной, то предлагал и мне пойти по купеческой линии.
Слушал я, слушал все его проповеди да уговоры, и надоела эта хрень мне здорово. Соврал я ему тогда, что, дескать, согласен: буду, говорю, отец, трудиться да уму-разуму начну учиться. Спасибо, добавляю, за великое ко мне доверие – век, мол, не забуду вас, такого и сякого моего благодетеля!
А в душе озлобился я зело и посмеялся над его простотою: я те, думаю, удружу-то, постой...
И стал я в дядькиной лавке, скрепя сердце, хозяйничать. То да сё тама делаю, всякие, значит, дела – неглупою ведь была моя голова – и выполняю, чего надлежит.
А у самого-то душа к труду не лежит!
И так-то притвориться смог я удачно, что уверился, наконец, мой благодетель по доброте по своей душевной, будто я и взаправду на путь исправления твёрдо встал… Через года этак два, когда я во всём доверие попечителя оправдал, дал он мне много богатых товаров и отправил с караваном в чужедальний край по общим, стало быть, купеческим нашим делам.
Напоследок всплакнул даже старый: ты, говорит, таперя мне как сын!..
Сыновья-то его от болезни лихой в детстве ещё окочурились, вот добряк и осопливился, расчувствовался… Ну а я, конечно, головою ему киваю, рожу умильную корчу и тоже слезу пускаю, показывая, что тронут, мол, и всё такое, а про себя прямо ухохатываюсь: во же, думаю, и олух!
И что я, угадайте, устроил? О-о-о! Добрался я кое-как до нужного города, да и сбагрил все товары в один день, ни о какой прибыли, естественно, не заботясь, поскольку лень мне стало заниматься этакой лабудой. Вырученные же за товары денежки я без зазрения совести присвоил, да и остался на житьё в том городе: начал прокучивать чужое добро. И спустил богатство немалое быстро, не прошло каких и полгода. Обеднел я вновь, в злачные места было по привычке сунулся, да получил везде от ворот поворот.
И то сказать – кому нужон такой обормот! Да ещё и гол как сокол, и без медяка лядащего в кармане. Я ж ведь по-прежнему ничем заниматься не желал – и мысли даже такой в голову-то не брал.
И вот помыкался я на чужбинушке вволю, победствовал, погоревал – и порешил на родину возвертаться да, повинившись истово, сызнова к благодетелю моему пристать. Уж и не знаю, чего такого со мною случилось: может быть, совесть в душе моей зашевелилась – а скорее всего лени то было ворохание, ибо не терпелось мне к добряку этому глупому опять присосаться...
А тут как раз и оказия нашлась: земляки некие в родные края возвращалися. Уломал я их прихватить с собой и меня. Приезжаю – и сразу в дом отца приёмного направляюся. А меня жена его, старушка весьма ласковая, на пороге встречает, но отчего-то, как прежде, не привечает. Сама строгая такая непривычно, суровая даже – и вся в чёрном. Я и слова-то вымолвить не успел, а она мне: «Нету его больше на белом свете! Умер он».
Как так умер, спрашиваю машинально, а у самого холод внутри растекается. А так, мол, и так, отвечает: как узнал он, что ты, заблудшая душа, его предал, так за сердце схватился сразу, охнул, застонал – и на месте богу душу отдал.
Я, как весть сию зловещую услыхал, так во мне вдруг что-то оборвалося. Будто онемел я, повернулся затем на месте остолбенело, сам не свой со двора вышел, в ближайшую рощу пошёл, снял свой верёвочный пояс, и на ближайшем суку вздёрнулся. Ну а очнулся спустя время уже здесь, в пекле этом треклятом, в состоянии каменного стояния.
Вот, друзья, и весь мой рассказ обыкновенный о том, до чего доводит дурака лень.
Остановился рассказчик странный, и на несколько мгновений чуть ли снова не превратился в камень, ибо видно было по лицу его страдальческому, что дюже сильно он переживал…
Да только ненадолго вернулось к нему статическое состояние: вот он сызнова дёрнулся, зачесался, подпрыгнул разов пять, да и кинулся носиться опять.
Подивилася наша троица поведению неуёмному сего новоспасённого, переглянулися они этак недоумённо, плечами пожали, а потом Буривой непоседу узкоглазого и вопрошает:
– Эй, а как звать-то тебя, непутёвая душа?
– А-а! – замахал резвун руками. – Как меня в прошлой жизни звали, я и вам не скажу, и сам знать не желаю. Нету боле того ленивца! Проклято его имя! Проклято и забыто! А я по-другому жить собираюсь ныне: лениться перестану, всё для себя своими руками делать стану, да и другим чем могу удружу. Репутацией доброй я теперь дорожу, и не сочтите это пустым форсом, а только зовите вы меня... э-э-э... Делиборзом!
Ну, Делиборз и Делиборз – нашим-то что. Да хоть горшок! Имя ведь звучное, неплохое, обязывающее ко многому: борзо дела делать ещё надо ведь сподобиться.
А их новый знакомец, как прознал, куда они направляются, так загорелся весь и дюже обрадовался. Начал он Явана упрашивать, чтобы тот его с собою взял, да так, значит, горячо и неотвязно, что тому некуда было деваться...
– Ну, возьми меня, богатырь с Рассиянья! – Делиборз орал, руки ажно ломая. – Я тебе пригожуся… Уй, как я с тобою идти хочу-то! Возьми, прошу!..
Ну что ж, ладно. И ему Яван рад немало. Мужичонка ведь шустрый, хваткий, проворный; не помешает такой, это точно, а там глядишь, и на что-нибудь путное он сгодится. В таком трудном предприятии любой ведь может пригодиться.
Как услышал Делиборз, что его берут, так на радостях такой пируэт в воздухе завернул, каких Яваха и его друзья отродясь даже не видали.
А затем к Явану он подскакивает, обнимает его крепко-накрепко, и отстранивши богатыря от себя да оглядев его скорым глазом, вдруг заявляет:
– В знак моего к тебе почтения необычайного, Яванушка свет Говядушка, я тебя враз сейчас приведу в порядок, а то ты, уж не гневайся, а больше на пугало похож огородное, чем на бравого героя.
Рассмеялся Яваха весело такому сравнению, головою патлатою покачал и с Делиборзом поневоле согласился. А тот приостановился на какой миг, руками в воздухе поводил, пальцами прищёлкнул и – гляди-ка! – бритвенный прибор вдруг откуда-то появился: помазок, бритва и раствор в чашке мыльный, а к ним в придачу ещё и гребешок с вострыми ножнями.
– Да ты никак чародей, паря?! – воскликнул Буривой, глаза на это вылупляя.
А тот в ответ:
– Нет! Я это мыслью своею сотворяю. Очень уж я окультурить Явана желаю!
И не успел Ванюха поудобнее даже усесться, как цирюльник новоявленный ножницами острейшими – вжик-вжик-вжик! – да и постриг ему волосы по самые плечи. А после того и за бороду косматую принялся: мгновенно её укоротил, мыльной пеной лицо намазал – чик-чик-чик! – и всё уже гладкое.
Причесал брадобрей парня, лицо полой халата ему обтёр и говорит предовольно:
– Тебе, Яван Говяда, бородищу козлиную носить пока рано! Успеешь, Вань, ещё состариться! И считай, что забота о цирюльнике у тебя отпала – её я беру на себя.
Да из кармана зеркальце кругленькое вынает.
Глянулся в него Яванушка – ух ты! – да он же красавец ноне писаный! Не пацан уже, как прежде, не юноша, а такой молодой мужчина. Лет двадцати где-то с хвостиком на вид…
Обрадовался Ваня, а то, бородищу свою ощупывая, он о себе как о средних годов мужике уже подумывал. Да, к счастью оказалося, что ему лишь так казалося – ведь в двадцать лет это вам не в сорок женихаться. А чо! Глянула бы Борьяна младая на его пожухлую харю, и не пошла бы за него ни в жисть. А в этом вот виде возмужалом шансы евоные, как довольно подумал он, лишь возросли.
Делиборз же той порою к Сильвану да Буривою со своими услугами бойкими набиваться начал, но те и слышать не желали ни о какой подстрижке...
– Да ты чё, зараза, – освирепел мал-мало бывший царь, – чуб с усами у меня хочешь обкорнать?! Не дам!!!
И даже стал руками атрибуты воинственности своей прикрывать, за них испугавшись.
Покрутился, покрутился шустрый парикмахер вокруг грозного сего старика, да от него и отстал. К лешему затем подскакивает с горящими глазами – чик молниеносно ножнями! – и клочище здоровенный с его шерсти срезал. Давай, орёт возбуждённо, Сильван, я и тебя окультурю! Мне, добавляет, это раз плюнуть!
Тот аж на ноги подпрыгнул да как рявкнет густым голосищем:
– Уйди, шельма, уйди! Не положено мне стричься – мне так само надо ходить, лохматым!.. Да уйми ты его, Яван!
А Ванька от смеха чуть по полу даже не катается.
Делиборз тогда остановился, тоже засмеялся заливисто, и его узенькие глазёнки тоненькими сделались щёлками. И Буривой тоже к унынию был не пригож: захохотал и он мощным басом, пальцем на лешака указывая. А напоследок и тот не удержался – не засмеялся, но заухмылялся, головою большою покачивая, да громадными ладонями шерсть свою оглаживая.
Попили они ещё чайку, посидели, да и спатушки вскоре захотели.
Акромя новенького, конечно. У того-то сна ни в одном глазу: спать-почивать он и не думал – а зато плясал и упражнялся, от перекопленной энергии таким способом разряжался. И песенки какие-то дурацкие стал вдобавок горланить: про то, что видел, про то и пел...
Уж очень рад был избавлению своему каменный человек. Избёг-таки он лени пленения.
И покуда Яван сотоварищи сладким сном в пещере прохладной почивали, Делиборзишка всю почитай округу обежал по кругу, внимания даже не обращая на пекельную жару. Ну а те отдохнули себе вдосталь, поспали, просыпаются вечером ото сна – а провор уже тут как тут нарисовался. Малёхи впрочем поспокойнее стал, не такой уже сумасшедший да дёрганный. Видать, притомился немного, али пообвык чуток.
Вышли они из убежища своего в самый что ни на есть холодок.
А темно уже было, как в погребе…
Вновь Сильванище в вожди тут нанялся, а все прочие за ним попёрли гуськом. Так, значит, и пошли, в ямки то и дело проваливаясь, друг на дружку натыкаясь, охая, бурча да слегонца матюкаясь.
Рейтинг: 0
414 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

